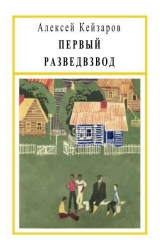
Текст книги "Первый разведвзвод"
Автор книги: Алексей Кейзаров
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Сочинение на вольную тему
– Ура! – вдруг, закричал Федя.
Иван Макарович уронил очки. Дзынкнуло стекло. И солнце зайчиками заскакало в осколках. Но мы не смотрели на осколки. Мы смотрели в окно. Один Федя беспокойно ерзал на скамейке. Конечно, за выкрик на уроке ему попадет. Да еще эти злополучные очки…
Иван Макаровну также бросился к окну, близоруко прищурился. Он еще всего не видит. И я ему подсказал!
– Директор!
– Михаил Михайлович? – переспросил он, будто у нас не один, а несколько директоров.
А наш директор уже машет нам рукой. И улыбается. Широко, во весь рот.
– Айда! – совсем по-нашему скомандовал Иван Макарович, и мы, давясь в дверях, вывалили из класса.
Неспроста улыбался директор. То, что он привез, – было здорово! Давность надписи в «почтальоне» 22–25 лет. Так было сказано на строгом бланке лаборатории. Даже была указана и группа крови – 1-В. Наш директор вообще-то сильно потрудился. Оказывается, в документах солдат писали группу крови, ну, если тяжелое ранение и некогда разные анализы делать. У моего дедушки-солдата была – 1-В. У Микиты же Силивонца кровь второй группы.
Да это не так уж важно. Простое доказательство. А самое главное доказательство он раскопал в архиве Центрального штаба партизанского движения. И теперь показывает его нам.
Это – небольшие фотографии. Только на них не люди, а обычная запись от руки. Нет, необычная:
«Делаю так. Выпускаю листовку с обращением к семьям бандитов, которые прячутся в болоте. Листовку «подпишет» Силивонец… Самого же Силивонца отпускаю на все четыре стороны. Буду симулировать стрельбу, может, погоню. Он хорошо держится на ногах. Значит, побежит. Пусть же свои расстреляют своего! Мы же своих Шевернева и Марченко расстреляли из-за него».
На втором листке:
«Капитан Штрумбах дал согласие. Листовки оформляются. Завтра утром их сбросят с самолета. Капитан посоветовал Юраса Николайчика тихонько отправить на тот свет. Светлая голова у Штрумбаха: убрать свидетеля! Не жалко. Какой толк с такого, который побоялся самого обыкновенного кулака – раскаялся, план лагеря и подходы начертил?»
И везде на обороте этих твердых листков – «Фотокопия верна» и большая круглая печать.
– Ура! – закричали мы.
– Постойте! – остановил нас директор. – Всю школу на ноги поднимете.
И тут же снова широко улыбнулся:
– Да, мы всю школу поднимем на ноги! Надо писать историю борьбы партизан нашей Осиновки.
– А мы уже! – отозвался Олег. – Вчера начали. У Микиты были, записали…
– Ого-о! – протянул директор. – Вас трудно опередить.
– Это все Иван Макарович! – сказал я.
– Да, чуть не забыл, Иван Макарович! Вы завтра езжайте в обком. Обязательно! Я в Минске о вас говорил. Восстановят…
Только позже я понял, о чем говорил директор нашему учителю. Восстановят, значит, в партии…
А потом случилось неожиданное. Вообще-то, в последнее время с нами случается много необыкновенного.
Вот что потом случилось.
Все шумели возле директора, а Федя стоял как в воду опущенный.
– А почему наш Лебедев приуныл? – спросил директор.
Федя сразу же отрубил:
– Очки разбил.
– Какие очки?
– Очки? – Иван Макарович заслонил собою Федю. – A-а, это я уронил очки. Они разбились. Ну, а Федя… переживает.
Наш директор хитровато улыбнулся:
– И когда он стал таким?
А мы стояли, разинув рты. Наш, всем известный нам, Иван Макарович, придира из придир – и вдруг такое! Защищает Федю! Да раньше он по пальцам стал бы перечислять уже всеми забытые грешки. А теперь почему-то глаза вдруг закрыл и на Федино «ура!» во время правописания прилагательных, и на собственные очки, что он уронил из-за этого крика… Да-а, стало случаться необыкновенное даже с нашим Иваном Макаровичем, а не только с нами!
А потом он говорил Феде:
– Пустяки! Не очки, а сущий пустяк. Давно собирался переменить. Спасибо, что помог… Да я завтра поеду в город – куплю новые, – и погрозился: – Берегись, Лебедев! Такие будут очки – наперед увижу, что думаешь дисциплину нарушать.
А мне почему-то не верилось, что Иван Макарович снова станет прежней придирой.
Назавтра была суббота. У нас было задание. Сочинение на вольную тему. Хочешь о золотой осени пиши, хочешь – как помогал колхозу.
А мы вчетвером решили писать об одном: о дедушке Кузьме. В гражданскую воевал? – Рядом с самим Гайдаром воевал! В партизанах был? – Был… Так почему же не написать? Притом, сам Михаил Михайлович сказал, что будем писать историю. Зачем же откладывать? Отклад не идет на лад.
Я так всем и сказал.
– Хлопцы, – предложил я! – Всякая там «Золотая осень», разные воспоминания, вроде «Как я помогал родному колхозу» или «Как я дома помогаю» – зачем? Мы еще не совершили такого героического, чтобы писать о самих себе. Давайте лучше напишем о наших партизанах. В группу по три-четыре человека и – писать!
– Правильно! – подхватил класс.
– Качать нашего командира!
– Ура лейтенанту Пальчикову! – громко крикнул Федя.
Хлопцы подхватили меня и подбросили к потолку. А я только одного боялся: чтобы не уронили меня на пол. И старался руки заложить под себя. Ну, чтобы спружинить, если грохнусь.
– Стойте, мальчики, стойте! – закричала наша Лина Говорюхина.
Хлопцы «стали». И я больно ударился: не спружинил вовремя руками…
– А как же отметки? – деловитым тоном спросила Лина. – Писать-то будем, предположим, вчетвером, а кому оценка? (Фу ты черт! Ей главное – оценка…) Я на это не согласна, авторитетно заявляю. Сочинение – дело индивидуальное.
Она так и сказала: «авторитетно» и «индивидуальное»… Вот уж зануда наша Лина Говорюхина! А еще в председателях совета отряда ходит…
– Притом, не было решения совета дружины, чтобы поддержать это начинание.
И тут такой шум поднялся, что Лина, видно, поняла, что переборщила. И умолкла.
– Давай приказ, командир! – закричали хлопцы.
И я дал приказ:
– Всем писать!
И вот мы у деда Кузьмы. Неудобно, очень нам неудобно. Совсем забыли мы своего деда. А он, кажется, не очень обижается. А может, хитрит, виду не подает?.. Поглаживает свою бородку, улыбается:
– Так-таки и сказал: историю писать?
– Ну да! Ис-то-рию!
– Добрый он у вас, Михал Михалыч. Столько объездить, столько разузнать! И вы – молодцы. Доброе дело затеяли, – и совсем как Микита Силивонец повторил: – Добрячее!
Как-то, знаете, не по себе, когда в глаза хвалят. И приятно, и стыдно. Поэтому я спрашиваю, лишь бы спросить!
– Вы и в партизанах с бородой ходили?
– Уга-а, еще как помогала мне эта борода! Особенно, когда без левой ноги остался, связным пошел.
Потом мелкие морщинки у глаз быстро никнут, прячутся. А вместо них хмурые морщины бугрятся на лбу.
– И подвела меня она, черная…
Он перебирает свою чуть кудрявую бороду, всю в прострелах седины.
– Подвела… Пронюхали про бороду в комендатуре! И поймали. Приметный я: нога-деревяшка да борода как смоль. А длинная борода была.
Вот про эту бороду мы – Славка Дергачев, Федя Лебедев, Олег Звонцов и я – написали сочинение.
Переписывать сюда его не буду! Кто захочет, так прочтет в школьном «Уголке боевой славы». Там целая книга, толстая-претолстая, таких сочинений. И шестиклассники писали, и седьмой класс, и восьмой. Почти вся школа писала. Партизан в нашей деревне много. Выбирай любого и пиши. А у каждого партизана – не один случай, не один подвиг. Потому и целый том написали. И еще пишем. Правда, новые записи еще не переплели. Они еще у Ивана Макаровича. Он у нас за редактора.
А здесь я напишу коротко о бороде нашего деда Кузьмы.
В местечко он ходил как связной. Торговал табаком, картошкой. Конечно, не то чтоб взаправду торговал, а чтобы была причина на базар поехать. Связные передадут ему маленькие листочки со сведениями. Куда их спрятать? В картошку? А вдруг полицаи отнимут картошку?.. В табак? Тем более могут отнять… А бороду никто не отнимет! Свернет дед Кузьма маленький листочек да в бороду и запрячет. Идет-колдыбает мимо комендатуры да посмеивается в бороду.
Да вот однажды кто-то донес, что неспроста одноногий Кузьма зачастил в местечко. Схватили его. Обшарили везде. Всю одежду перепороли! И конечно же, не нашли.
И тут комендант схватил его за бороду…
А потом было самое страшное.
– Бакенбард делаю! – хохотал комендант и прижигал сигаретой кожу выше бороды, к виску. – Без бакенбард и борода – не борода.
Дед молчал… Потом потерял сознание. Комендант пообещал второй «бакенбард» сделать завтра утром. Да не сдержал комендант своего слова. Связные сообщили в отряд, и ночью партизаны разгромили комендатуру да заодно и водокачку взорвали…
Нам за это «сочинение» Иван Макарович поставил по пятерке. Интересно то, что не придрался. Все-таки у нас он нашел орфографическую ошибку. Подвел всех Олег:
– Бакенбарды – от слова «бок», – сказал он.
Мы подумали, и правда: бакенбарды – сбоку. Ну, кто же из нас мог знать, что это французское слово?
– Да мы в корень смотрели, – оправдывается Олег Звонцов. – Ну, русский корень…
– Вот и отлично, что в корень смотрите! – улыбнулся Иван Макарович.
Старая яблоня
Честное пионерское, нет времени писать. Четверть идет к концу. А надо собирать материалы о наших партизанах. И надо готовить к отправке яблоньки в далекий кустанайский совхоз. И к празднику надо самодеятельность готовить.
Хотел было больше написать о наших осиновских партизанах. Ну, да вы сами прочитаете, когда в наш школьный музей заглянете. Хорошие люди у нас. Живут вот рядом такие люди, а мы и не знали, что они такие добрые. Правду говорит дед Кузьма:
– Человек – что звезда. Обычным днем его не видно. Простой, как все. А случись беда – и сразу появляется человек. Как звезда ночью.
Но об одном я все-таки расскажу. Об этом нельзя умолчать. Это случилось сегодня.
Недалеко от нашей школы растет старая яблоня. Вокруг нее не было ни одного деревца – пустырь. Только цветы густо цвели.
Теперь, осенью, и цветов меньше. Одни поздние георгины да гвоздика пламенеют возле ограды. А на ограде – дощечка:
«Это – единственное дерево, уцелевшее в деревне Осиновка во время Великой Отечественной войны».
Сюда приходим на торжественные сборы. Здесь принимают в пионеры.
Сегодня на пустыре людно. Сюда пришла вся дружина. У ограды развевается красное знамя. Пионеры уже стали в шеренгу. И почти у каждого в руках – деревце.
И вдруг осеннюю тишь разорвал горн.
Михаил Михайлович шагнул вперед. Тихий голос его звучит и торжественно и грустно:
– Пальчикову Ивану Максимовичу – партизану-разведчику, павшему смертью храбрых за честь и независимость нашей Родины.
Я еще стою в строю. Я никак не могу решиться шагнуть всего лишь десяток шагов.
Наконец шагнул. В руке – кленик. Поздний лист еще держится на ветке. Чуть вздрогнул лист и снова замер.
Осторожно распрямляю махристые корни, укутываю влажной землей. Моя рука столкнулась с чьей-то. Большая это рука, вся в черных трещинах. И нечего поднимать глаза: так знаю, чья. Да и запахло углем, окалиной… И две наши руки – маленькая и большая – делают лунку. Медленно, медленно…
Потом эта ж рука подает мне металлическую пластинку. И я привязываю ее к нижней ветке.
На пластинке – год рождения. Теперь моему дедушке было бы семьдесят. И борода была бы у него. А может, и не было б.
И как ни стараюсь представить, каким дедушка был бы сейчас, а не могу. Мне почему-то кажется: таким, как на фотографии. Молодцеватым. С автоматом. И с полоской на шапке-ушанке, потому что Иван Максимович – партизан…
И я закрываю глаза и будто вижу утро. Их ведут по Осиновке. Микита Яковлевич поддерживает моего дедушку. А дедушка думает, думает все об одном! Хорошо, если убежит Микита… А людей – никого. А в кармане – маленькая эбонитовая трубочка. Куда бросить, чтобы «почтальон» стал почтальоном?
И вот Микитов колодец. Новый колодец. А все-таки колодцы чистят… И летит «почтальон» в колодец. Даже Микита не заметил. Думал, капли с ведра. И когда Микита сказал: «Ну и водичка!» – дедушка ответил: «Еще чище станет…» А прямее сказать, как ты скажешь? Рядом – пятеро. И близко кузница…
Колхозный оркестр вдруг заиграл «Интернационал». Застыл строй. И сотни рук – в пионерском салюте.
Один только я не в строю, а возле дедушкиного кленика. Но и моя рука тоже замирает в пионерском салюте.
И только кленовый листок красным лоскутом трепещется по ветру…
Нет, не один. Лист еще держится на многих деревцах.
И на деревце Олегова дедушки.
И на том, что посадят в память о павшем муже тетки Аксиньи.
Их много. Очень много их, деревцев…
И горят листья под солнцем.
И трепещется на ветру красное знамя у старой, теперь вовсе не одинокой на этом пустыре яблони.








