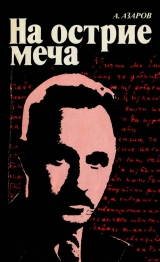
Текст книги "На острие меча"
Автор книги: Алексей Азаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Три разговора – сумбурных, с длинными паузами... О доме, политике, самочувствии Митко и Эль, здоровье Форе, погоде, домашних делах... о чем угодно, кроме процесса и его возможного исхода. Пеев и сын понимали: здесь ничего не изменить. Димитр едва не плакал, стискивал зубы: в глазок за ходом
свидания наблюдал надзиратель... Пеев сильно похудел, одежда болталась на нем мешком. Руки и лицо были прозрачными. Белые волосы, белые усы. Митко смотрел на них не отрываясь...
Четвертого свидания помощнику адвоката Александрову не дали: заключенный № 2840 по распоряжению председателя военного суда полковника Ивана Добрева был переведен на особый режим изоляции.
«Особый» – это значит без прогулок, без общения с кем-либо... Иван Добрев не сам принял решение. Так посоветовали в регентстве. Мать Симеона И, вдовствующая Иоанна, постепенно все больше и больше забирала власть в свои руки, оттесняя от кормила Кирилла и Михова, казавшихся ей ненадежными. Подобно Борису, Иоанна молилась на Гитлера– фанатично и истово. Фюрер между тем требовал от новых правителей доказательств лояльности. Многосторонних и недвусмысленных. Вдовствующая царица вспомнила о деле Пеева, приказала доложить, как продвигается подготовка к процессу... Выслушала, подумала, соблаговолила изречь высочайшее: «Никаких поблажек!» Словно казнила заранее...
И опять – день за днем, неделя за неделей. Тюремные будни. Хорошо еще, что хоть бумагу и ручку забыли отобрать. Продолжал записки, вспоминал о недоделанных делах, людях, с которыми сводила судьба... Сколько он знал, с кем только не дружил! Знаменитые артисты Боян Дановский и Петр Димитров, звезды болгарского театра, любили его, как брата. Георгий Димитров учил азам революционного дела, предрекал большое будущее. Выдающиеся теоретики военного дела сулили блестящую штабную карьеру.
Пеев торопился записать все, что помнил. Тюремная администрация официально известила: процесс будет проведен не позднее ноября. Времени оставалось ничтожно мало, считанные сутки. Или часы?
На пальце Пеева тускло золотилось тоненькое обручальное кольцо. На его внутренней стороне были выгравированы буквы «ЦЖ» – «на целую жизнь».
Похоже, она подходит к последнему рубежу – жизнь...
Что ж, он ни о чем не жалеет. Ни о чем! И если бы дали новую – прожил бы ее, как ту, какая была. «Дорогие Эль и Митко! Я сознательно пришел к пониманию своего места в классовых лагерях. Выбор, как вы знаете, был совершен давно и окончательно. Все, что сделано, сделано с полным пониманием ответственности, которую я взял на себя. И вы должны держать голову высоко, ибо дело наше – правое».
Заключенный номер 2840 очень любил жизнь...
15
– Подсудимый Александр Костадинов Пеев, встаньте! Признаете себя виновным?
– Нет, не признаю.
– Подсудимый Эмил Николов Попов?
– Не признаю.
– Подсудимый Иван Илиев Владков?
– Не признаю.
Суд походил бы на фарс, если б не трагическая сущность, заложенная в заранее предрешенный приговор. Пеев со своего места за барьером, отделявшим обвиняемых от зала, посмотрел на судейское трио. «Павлины» 1—золотое шитье, погоны с вензелями, тыловых достоинств ордена на многоцветных лентах... Да нет, павлины – это не точно. Правильнее, марионетки, приводимые в движение, невидимыми ниточками, протянутыми из зала, где, оживленно перешептываясь, с видом театральных завсегдатаев, явившихся на премьеру оперетки, сидели те, кто считал себя солью земли и повелевал в Болгарии всем: людьми, землей, жизнью и смертью, этими вот марионетками за столом на возвышении – «софийским военно-полевым судом».
Говорить по существу подсудимым не давали. Обрывали в середине фразы, требуя предельного лаконизма– «да», «нет»,– исключавшего всякую возможность защищаться, ибо «да» и «нет» были всего лишь констатацией фактов, а не их объяснением, и мотивы, лежащие в основе поступков, оставались где-то в стороне, не нужные ни суду, ни господам в зале. Оставалась еще надежда высказаться до конца в последнем слове, но Пеев вспомнил, что военно-полевой суд идет по особым регламентациям, вне рамок процессуального права, и председатель может, ежели сочтет нужным, прервать говорящего в любом месте. А он сочтет – это уж точно. Достаточно посмотреть на господина полковника Ивана Добрева, проследить, с каким вниманием взирает он на лица публики, ища одобрения или порицания, чтобы понять: объективности и беспристрастию нет места в зале судебного присутствия.
Слева от председателя – капитан Христо Иванов, первый член суда – желчный неврастеник, знакомый по клубу Союза офицеров запаса, где за ним укрепилась репутация неумного болтуна, общения с коим нужно избегать, если не хочешь зазря погубить вечер. Второй член суда – поручик Паскалев. Этот известен как оголтелый антикоммунист, произнесший как-то фразу о том, что болгар сначала надо пороть, потом вешать, а уж затем учить. Даже коллеги-офицеры после этого избегали подавать ему руку.
Да, ничего не скажешь, состав суда как на подбор!
А кто же в зале? Пеев скользнул глазами по рядам. Впереди – Кочо Стоянов, рядом с ним – Павел Павлов, полковник Недев, пятеро штатских, Любомир Лулчев и директор полиции Кузаров. В глубине– несколько дам и – отдельно – Никола Гешев в обществе белобрысого немца. Кто еще? Секретарь святейшего синода, советники регентов, подтянутый, с моноклем в глазнице Делиус... Всего человек сорок – сорок пять.
Касев – прямоугольный, задрапированный в мантию, встал и эффектным жестом поднял руку.
– Господин председатель, господа. До сих пор остается невыясненным вопрос о роли генерала Никифорова. Ответьте, Пеев, являлся ли Никифоров вашим сотрудником!
– Нет!
– Нельзя ли подробнее?
– Вы требовали однозначных ответов.
– Но не для данного случая.
– Хорошо. Отвечу так. На предварительном следствии я показал, что генерал Никифоров был неосторожен в разговорах со мной, и я извлекал из них многостороннюю информацию. Хочу добавить, что я выношу благодарность генералам Михову, Даскалову, Лукову, Лукашу, Маркову, полковнику Генштаба Димитрову и некоторым другим военным деятелям за их усилия в части передачи мне объективных сведений о немецких войсках, политическом положении, предстоящих переменах и переговорах между правительством Болгарии и лидерами фашистской Германии.
В мертвой тишине зала, нестерпимо резанув перепонки, скрипнуло перо стенографистки. Касев, словно пробудившись, вскинул брови.
– Какой цинизм!
Добрев постучал карандашом о графин с водой.
– Доктор Пеев! Следите за вашей речью! У суда складывается мнение...
Пеев засмеялся – открыто, не скрывая издевки.
– Складывается? Скажите – давно сложилось!
В зале, вставая с кресла, грузно заворочался Кочо Стоянов.
– Заткните ему рот!
Пеев оглянулся на стенографистку. Склонившись над тетрадью, она записала реплику. Отлично! Стенограмма, коли сохранится, будет точным документом, во всем объеме фиксирующем «объективность» и «беспристрастность».
– Господин председатель! В такой обстановке лишено смысла давать показания. Кочо Стоянов насаждает в суде нравы охранки. Полагаю, что он скоро потребует нас линчевать.
– Сядьте, Пеев! Продолжайте, господин прокурор.
Пошло, покатило, поехало. Любен Касев сам спрашивал, сам и отвечал. «Да» и «нет» подсудимых превращались у него в отправные точки для длинных интерпретаций, и члены суда, выслушивая их, одобрительно и важно кивали, соглашались.
Так было в первый день и в последующий.
Лишь однажды Пееву удалось высказаться до конца.
– Обвинение против меня сформулировано по статье 112 «г»... Согласно определению «государстве венная тайна», заложенному в законе, это «факты или сведения, или предметы, сокрытие которых от другой державы необходимо для блага болгарского государства и особо для его безопасности». Согласно этому определению, могут ли данные, переданные нами Центру, считаться государственной тайной?.. Картина ясна. Все мероприятия нынешнего правительства... приносят пользу только Германии. Следовательно, сокрытие этих тайн необходимо не нам, не болгарам, а фашистской Германии, ведущей агрессивную войну на уничтожение народов. В таком случае уместен вопрос: есть ли налицо хоть один из элементов статьи 112 «г», то есть имеется ли здесь «государственная тайна», сокрытие которой закон признает необходимым? Абсолютно очевидно – нет! Отсюда следует, что не может быть и речи о совершении мною и моими товарищами преступления.
Иван Добрев не нашел оснований, чтобы прервать Пеева. Вопрос касался трактовки закона, и делом Касева было разбить аргументы, противопоставив им свою логику юриста... Вот только удастся ли? Система защиты, избранная Пеевым, не содержала изъянов, и Добрев понимал, что Касеву придется туго. Единственное, что остается,– подменить одни понятия другими, подтасовать факты, и суд поможет ему сделать это. Так зачем же прерывать Пеева? Пусть говорит.
Пеев догадывался, о чем думал Добрев, и, продолжая, еще некоторое время придерживался чисто юридических моментов, стараясь создать базу для последних, самых важных выводов, которые обязательно надо высказать, и таким образом, чтобы председатель не получил возможность заткнуть рот.
– Господа судьи! Это мое понимание закона находит подкрепление в том объективно существующем обстоятельстве, что Болгария не является прямой участницей военного союза с фашистской Германией и одновременно не находится в состоянии войны с СССР, что лишает суд возможности предъявить нам обоснованное хоть каким-нибудь законным актом обвинение в разглашении «государственной тайны», подрывающем безопасность державы. Это ясно даже не юристу, а гимназисту, умеющему применять меры ординарной логики. И наконец, хочу спросить: какой из двух сторон в смертельной войне между Германией и Советским Союзом следует помогать, дабы сохранить неприкосновенным суверенитет нашей державы? Понятно, не Германии! Понятно также, что справедливым будет способствовать ее разгрому!.. Перехожу к обвинению в коммунистической деятельности. В наше время служить коммунизму означает, что, с одной стороны, ты служишь человечеству и его будущему, а с другой – своей родине и ее будущему. В то время, когда силы мира предельно дифференцированы, когда коричневая чума противостоит красному знамени, честные люди, естественно, сплачиваются под флагом борьбы за счастье человечества. Они поднимут рано или поздно красный флаг и над свободной Болгарией. Встаю рядом с ними с сознанием, что помогаю всем, чем могу, грядущей победе!.. Я кончил, господа!
У Добрева определенно была замедленная реакция. Он спохватился, когда Леев уже сел. Рука председателя механически потянулась к колокольчику, замерла на полпути и опустилась на папку с делом. «Опоздал!»
...Третий день был днем приговора.
Добрев, монументальный, всем видом демонстрирующий непреклонность, читал, словно декламировал.
– Семнадцатое ноября тысяча девятьсот сорок третьего года. Военно-полевой суд в составе... от имени его величества Симеона II, царя болгар, рассмотрел...
Формулировки были путаные, корявые, и Леев подумал, что при правильном отправлении правосудия адвокату в кассационной жалобе ничего не стоило бы камня на камне не оставить от приговора. Но это – в нормальном суде, а не в военно-полевом...
«1. Подсудимые Александр Костадинов Пеев, Эмил Николов Попов и Иван Илиев Владков приговорены:
а. за то, что в военное время – с 1940 года по апрель 1943 года, в период, когда болгарская держава находилась в состоянии войны... проникали в государственные тайны, собирая их внутри державы и передавая через специальную радиостанцию... тогда, как сохранение этих тайн необходимо было для блага и безопасности нашей державы,– на основании ст. ст. 112, п. 1, 112 «г» п. 3 и 118 Наказательного закона вкупе со ст. ст. 22 «б» и 22 «г» Закона о защите государства —
каждый к наказанию: смерти через расстрел, с лишением прав, и дополнительно по ст. 30, пп. 1—4, б и 7 Наказательного закона —
к уплате в пользу государственной казны по 500 000 левов штрафа каждый;
б. за то, что в военное время в 1942/43 гг. они изыскивали средства, содействовали и помогали нелегально существующей в Болгарии БКП и ее членам, на основании ст. ст. 3 и 17 Закона о защите государства —
каждый к наказанию: смерти через расстрел, с лишением прав по ст. 30 Наказательного закона.
По правилам совокупности и согласно ст. 64 и 66 Наказательного закона подсудимые за совершение названных двух преступных деяний должны понести единое наказание, а именно каждый:
смерть через расстрел, с лишением прав по ст. 30 Наказательного закона, и уплату в пользу государственной казны штрафа в размере 500 000 левов.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
Среди осужденных не было: Никифора Никифорова, Янко Пеева, Александра Георгиева – помощников Пеева, которых ему удалось спасти от расправы.
...Осужденных к казни развели по глухим одиночкам. Проявили «милосердие» – разрешили написать последние письма. Завещания долго читали в канцелярии, выискивая «криминал» и... не передали родным, отправив в архив.
Вот они, эти письма.
Иван Ёладков – жене.
«...Знаю, что, может быть, скоро паду в борьбе против подлого болгарского капитализма, против предательской буржуазии. Вся моя жизнь скрашена борьбой за социализм, борьбой за свержение эксплуатации. Не тужите! Знайте, что я пал в этой великой борьбе против подлого фашизма, который уничтожил свободу, культуру, сделал нас бесправными рабами.
Я люблю свободу, мирный труд, люблю и вас обоих. Прошу тебя, дорогая моя Маруся, сохрани нашего дорогого ребенка, чтобы он вырос бойцом, которым будет гордиться освобожденная социалистическая Болгария, как она будет гордиться тобою и мною, павшим в борьбе.
Знаю, уверен, что ты будешь заботиться о нем. Трудно растить ребенка без отца. Победа близка, и это должно поддержать тебя. Милая моя, сделай так, чтобы ребенок стал настоящим борцом. Когда он вырастет, расскажи ему о смерти его отца и дяди.
Скорблю о вас. Но скорбь моя переходит в гордость: я умираю как честный человек.
Свобода и социализм близки. И если я сожалею о чем-либо, то только о том, что не увижу Болгарию свободной. Умираю спокойно, потому что знаю, что светлый день не за горами. Враг спешит – расправа готова...»
Эмил Попов – соратникам по подполью:
«Дорогие товарищи! Смерть не так страшна, как думают многие. Умереть предателем действительно страшно. Предать свой народ – самое большое преступление. Но я могу спокойно сказать, что моя жизнь принадлежит народу. Я никогда не жил только для себя. Обращаюсь к тем товарищам, которые еще колеблются, надо ли бороться. Пусть гордо поднимут голову и сообща добьют врага человечества – фашизм. А сколько великого в жизни, отданной этой великой борьбе! Победа идет. Она близка. Моя смерть, как и смерть тысяч других, таких же, как я, ускорит победу: смерть учит нас еще сильнее ненавидеть врага и не прощать его. Будьте беспощадны. Эмил Попов».
Доктору Пееву разрешили написать два письма – 17 и 19 ноября 1.
Он догадывался: письма будут перлюстрированы. Значит, надо говорить так, дабы контрразведка получила не улики, не повод использовать твое завещание, чтобы грязью облить Советский Союз, БКП, а документ, опровергающий полицейские и судебные инсинуации.
Александр Леев – жене и сыну.
«Милые мои Елисавета и Митко! Недавно я вернулся из судебной палаты, где нам огласили приговор. Я думаю, вы уже узнали, что я осужден по ст. 112-й Наказательного закона к смертной казни через расстрел и по ст. 3-й Закона о защите государства к смерти через расстрел и по совокупности к смерти через расстрел и штрафу в 500 000 левов. Теперь я относительно спокоен. Я нахожу, что приговор несправедлив, т. е. по ст. 112 «г» я могу быть признан виновным только с натяжкой, а по ст. 3 Закона о защите государства вина приписана неосновательно и бездоказательно. Я не состоял ни в какой связи и не оказывал никакого содействия нашей коммунистической партии, ее подразделениям и членам. При этом в части «шпионажа» было выявлено и доказано в процессе (и прокурор с этим согласился!), что я не похищал государственные тайны, и сведения, переданные мной, были получены от друзей в обычных разговорах...
Я думаю о вас и желаю, чтобы вы были здоровы. Не считайте, что с моим исчезновением кончится мир. Жизнь берет свое. Живите в согласии и любви... Целую вас много, много раз – ваш Сашо».
Последние письма...
Он писал и думал не о себе. Оберегал партию от клеветы. Форе и Янко – от возможных обвинений в будущем. Жену и сына – от опасности быть привлеченными за соучастие... Он всегда думал о других больше, чем о себе.
Регентский совет с поразительной поспешностью конфирмовал приговор.
Смертникам об этом не сообщили ничего.
Димитр Пеев метался по Софии, стараясь поднять на ноги тех, кто мог бы повлиять на регентов и добиться замены смертной казни пожизненным заключением. Вспомнил о бывшем министре Марко Богу-шевском, с дочерью которого учился; позвонил, добился приема. Богушевский выслушал, пожевал
губами: «Ничего не могу сделать, молодой человек. Весьма сожалею...»
Георгий Говедаров поехал к Филову. Не садясь и не принимая поданной руки, сказал, глядя в упор на регента:
– Богдан, ты совершаешь чудовищную ошибку! Суд ничего не доказал, обоснования с точки зрения юриспруденции зыбки и их легко разнести. Приговор свидетельствует только о том, что в Болгарии нет суда, есть произвол. Подумай о международном общественном мнении, Богдан. Задумайся и о том, что, санкционируя приговор, ты лишаешь себя в будущем права надеяться на сколько-нибудь снисходительное отношение.
– Я не меняю лошадей,– сказал экс-премьер.
Говедарова передернуло.
– Господин Филов, в таком случае я буду говорить официально. Группа депутатов, которую я представляю, протестует против применения смертной казни, считая, что приговор содержит грубые юридические ошибки и основан на передержках и натяжках. Это фальсификат, а не документ, имеющий законную силу, господин регент.
– Что же хотите вы и депутаты?
– Замены смертной казни заключением.
– Всем троим? Или кому-нибудь отдельно?
– Всем троим!
Филов встал, вышел из-за стола. Сказал тихо, разделяя слова.
– Нас здесь двое, Говедаров. И я тебе отвечу. Жаль, что расстреляют троих. Лучше, если бы было триста три, три тысячи триста три, сто тысяч... Ты понял, Говедаров? Кстати, думаю, что ты опоздал. Их, возможно, уже расстреляли. На вчера было назначено. Так-то!
Вернувшись домой, Говедаров записал разговор в дневнике. Всегда корректный, не удержался от определения, аттестующего Филова: «Редкий негодяй, выродившийся в зверя».
Елисавета через председателя суда Добрева добивалась свидания с мужем. Взывала к гуманизму, к сердцу, рассудку, умоляла. Полковник ответил: «Не вправе, госпожа». Отказал наотрез.
Димитр, в свою очередь, пытался упросить Ка-сева.
Прокурор, обласканный правительством после приговора, был благодушен. Успокоил.
– Вашего батюшку расстреляют не завтра. Еще, быть может, успеете встретиться.
Почесал переносицу, пояснил свою мысль:
– Завтра – праздник Михаила-архангела, покровителя полиции. Мы же не варвары какие-нибудь, чтобы казнить в такой день. Будьте спокойны, молодой человек.
Говедаров обзванивал депутатов. Предлагал срочно составить и подписать петицию, адресованную Симеону II. Депутаты подолгу расспрашивали, кто уже дал согласие, обещали подумать. Говедаров понимал: одно дело – участие в парламентской оппозиции, совсем другое – открытый протест против приговора, угодного регентам, вдовствующей царице, Дирекции полиции, Кочо Стоянову и Гешеву. Каждый, небось, прикидывал, а что если ДС возьмет на заметку, спровоцирует, доберется до шкуры? Гешев-то не пощадит!
Истекли двое суток.
Минул день Михаила-архангела – последняя отсрочка, данная «гуманным» Любеном Касевым, от которого зависела дата приведения приговора в исполнение.
22 ноября с утра вершину Витоши затянуло серым. Потом она почернела. Пошел дождь.
Говедаров предпринял последнюю отчаянную попытку. Позвонил генералу, начальнику школы офицеров запаса, на полигоне которой обычно расстреливали осужденных по политическим статьям. Генерал был другом детства, верным, преданным. Говедаров верил, что сможет уговорить его отказаться от позорной «чести» предоставить стрельбище для уничтожения тех, кто завтра станет национальной гордостью страны.
– Я не получал приказа,– сказал генерал.– Мои люди в этом не участвуют.
– Заклинаю тебя, выставь караул у полигона. Не допусти! Я выиграю целые сутки и надеюсь, что смогу убедить Иоанну.
Генерал помолчал. Ответил:
– Говедаров, я бы сделал это, но машина уже пришла... Мне кажется, что на полигоне стреляют... Да, да прости их господи. Наверное, так... Ты опоздал, Говедаров.
16
22 ноября 1943 года.
16 часов 20 минут.
Стрельбище школы офицеров запаса – три длинных тоннеля, по пятьдесят метров, в глубине которых насыпь из песка и шлака. Идет мелкий, необычный для этого времени года дождь. У солдат намокли шинели, по лицам, стекая с козырьков фуражек, скатываются капли. Подпоручик из полевой сумки достает винтовочные патроны, отсчитывает: три, еще три, еще три... и еще. Пальцы не слушаются его. Подпоручик молод, совсем мальчишка, ему бы не солдатами командовать, а Стивенсона читать, но выбор начальства пал на него и семерых рядовых его взвода, и теперь он, пытаясь скрыть от подчиненных дрожь, отсчитывает патроны. Боевые, со стальными наконечниками на пулях.
Зябко, промозгло, страшно.
Те трое стоят у насыпи.
Когда командир отделения – три лычки на погонах– отвел их в глубь тоннеля и оставил, одних против шеренги солдат, шеренга заходила ходуном, винтовки вразнобой клацнули затворами.
Подпоручик оборачивается к отцу Балабанчеву, местному священнику – черная ряса, белое лицо.
– Батюшка, пойдите к ним... спросите, не хотят ли помолиться?
Отец Балабанчев осеняет себя крестом, и подпоручик с невольной радостью отмечает, что у священника тоже дрожат пальцы. Значит, не он один боится, значит, не так уже это стыдно, что озноб, унижающий офицерское достоинство, продирается сквозь сукно мундира, леденит кожу, мышцы, сердце.
Утром подпоручика наставляли:
– Вам доверено... высокая честь... враги державы и нации...
Он стоял навытяжку перед полковниками Касе-вым, Недевым и Добревым, тянулся изо всех сил, делал вид, что все нипочем. Враги есть враги, приказ есть приказ. Что тут обсуждать? Браво, с юнкерским шиком вскинул руку к козырьку:
– Раз-зрешите исполнять?
– С богом, подпоручик!
Полковники уехали, а подпоручик побежал на оружейный склад получать боевые патроны. Взял две пачки. Держался чуть загадочно, словно играл в игру с «тайной» – немножко для себя, немножко перед другими. Еще до конца не понимал, что предстоит сделать.
Понял позднее, когда из низенькой двери на задний двор Софийского централа вывели тех. Поодиночке. Быстро, чтобы ни подпоручик, ни солдаты не успели вглядеться в лица, втолкнули в тюремный автобус. Подпоручик расписался в бумажке...
Только тогда дошло: что же это, мамочка родная; ведь не игра все это, не стрельба по мишеням предстоит. По людям! Выходит, зачислили в палачи?!
Что же это?!
Подпоручик ощупывает пакет на груди, во внутреннем кармане мундира.
– Батюшка, да не стойте вы, бога ради! Идите к ним.
Отец Балабанчев еще раз осеняет себя крестом.
Он священник не тюремный. Рядовой служитель церкви из местного прихода. Когда позвали ехать сюда, не сказали зачем.
Те – одинокие, овеянные дыханием смерти,– стоят у насыпи.
– Дети мои, облегчите душу молитвой перед... перед...
Старший из трех, белоснежно-седой, приходит священнику на помощь, твердым голосом подсказывает конец фразы:
– Перед расстрелом?
– Да... Очиститесь, сын мой.
– Я и так чист. Перед людьми. Перед Болгарией. Перед совестью.
– Ваше имя, сын мой?
– Александр Костадинов Пеев.
– А ваше, дети мои?
– Иван Илиев Владков.
– Эмил Попов. Мы атеисты, батюшка, так что не тратьте времени. И не волнуйтесь так.
– Пусть господь укрепит ваши души.
Седой с мягкой улыбкой останавливает отца Ба-лабанчева.
– Нам не страшно, господин священник. Не трудитесь... Лучше обещайте сообщить нашим семьям, что мы не потеряли человеческий облик перед смертью, пощады не просили. Обещаете?
Из темноты, держась поближе к стене тоннеля, подходит подпоручик. В руке у него три белых лоскута. Повязки на глаза.
Седой отводит его руку.
– Не требуется.
Подпоручик суетливо убеждает:
– Не для вас... Для солдат, господа. Очень прошу, господа...
Глаза у троих такие, что и пятьдесят метров не отгораживают от взглядов. Три пары глаз словно шесть стволов, нацеленных на солдат и подпоручика.
– Умоляю, господа...
Отец Балабанчев, единственный свидетель, слышит этот разговор. Навсегда, до конца дней своих он запомнит его...
Седой обнимает товарищей. Сначала молоденького, в изодранной форме пехотинца, потом того, что постарше.
– У вас есть последние желания?
У младшего, тяжелые, беззвучные, начинают течь слезы. Качает головой: «Нет».
Седой повторяет.
– Не завязывайте глаза.
Третий – Эмил Попов – медленно, аккуратно складывая одежду, начинает раздеваться.
– Отдайте вещи жене. Пусть сошьет сыну костюм. Мы люди бедные.
Простые слова, но от них подпоручику становится еще страшнее.
Пытаясь заглушить страх, он достает пакет, срывающимся голосом читает вслух приговор...
16 часов 31 минута.
Те – недвижимые – стоят у насыпи.
– Отделение! За-ря-жай!
Те обнимаются в самый последний раз.
Седой поднимает руку.
– Солдаты! Да здравст...
Семь выстрелов – треск, а кажется, что гром... Тишина... Подпоручик закрывает руками лицо. Шатаясь, идет к насыпи. Если недострелили, полагается добить...
Седой жив. Отрывает голову от земли. Стонет:
– Больно...
Подпоручик срывающимися пальцами вытягивает, выцарапывает из кобуры пистолет. Закрыв глаза, нажимает спусковую скобу. Бессильно приваливается к стене тоннеля, рвет крючки на вороте мундира.
А дождь все моросит, небо серое, от шинелей солдат поднимается парок.
22 ноября 1943 года в 16 часов 31 минуту по софийскому времени были казнены монархо-фашистским режимом выдающиеся болгарские патриоты, дети своего народа —
АЛЕКСАНДР ЛЕЕВ,
ЭМИЛ ПОПОВ,
ИВАН ВЛАДКОВ.
А день еще не кончился. И жизнь не кончилась.
Выполняя волю погибшего, отец Балабанчев едет к семье Пеева. Елисавета и Димитр молча, черные от горя, слушают его.
– Где похоронили?
– В сотом блоке.
Сояый блок – место для упокоения нищих и бродяг. В самом углу кладбища. Не смогли унизить при жизни, решили унизить после смерти. Безымянные холмики, без табличек и крестов.
Вечер...
В канцелярии тюрьмы равнодушный чиновник выбрасывает на оцинкованный прилавок вещи казненного. Подвигает Димитру ведомость. Перечисляет:
– Кольцо – одно, бумага – одиннадцать листов, книга – одна, вечное перо – одно, одеяло – одно, спичек – коробок, сигарет «Картел № 1» – початая пачка. У нас учет строгий, ничего не пропадает. Расписались?
Завернув вещи в одеяло, Димитр с узелком на плече пешком идет через весь город —от Централа до дома. Прохожие расступаются перед ним, а он их не видит – мутные пятна, серые тени...
Дождь не унимается, и у вершины Витоши – черная, не тающая туча.
Менее чем год спустя рабочие, крестьяне, солдаты восстанут, обратят свое оружие против регентства и фашистов. И тогда же пустит пулю в лоб подпоручик Атанасов, смертью смывая с себя позор.
Но все это произойдет в сентябре сорок четвертого.
22 ноября 1943 года.
Три бойца, смертью смерть поправ, пали на боевом посту.
...Я исполнен сознания, что выполнил свой долг насколько хватило сил... Я работал сознательно... потому что был убежден, убежден и сейчас, что дело, за которое я боролся,– правое.
Александр К. Леев
...Моя смерть, как и смерть тысяч других, таких же, как я, ускорит победу...







