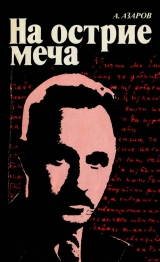
Текст книги "На острие меча"
Автор книги: Алексей Азаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Царь слушал Михова не перебивая. Время от времени по лицу его пробегала короткая судорога.
Михов подвел итог:
– Представляется целесообразным дело в отношении Никифорова прекратить.
– Совсем?
– Приостановить производством,– поправился Михов.– Выпустить Никифорова из-под стражи и не трогать до конца войны.
– Где он содержится?
– На гауптвахте.
– Я хочу видеть его. Хочу говорить с ним сам1
В голосе царя послышалась истерическая нота.
– Михов! Он не имеет права на жизнь! Неужели ничего нельзя придумать? Автокатастрофу, падение в пропасть?
– Слишком прозрачно.
– Да, ты прав. Я хочу его видеть, пусть утром привезут.
Никифорова разбудили около шести утра.
Принесли завтрак; солдат забрал мундир со споротыми погонами и вернул его через полчаса вычищенным и выглаженным. Парикмахер побрил генерала, помассировал щеки.
Никифоров не спросил, зачем все это, был готов к любому исходу. Следователи военно-судебного отдела, недавние подчиненные, пускали в ход все: перехваченные радиограммы, сводки наблюдений агентов РО и отделения «А», намекали на признания Пеева, уличающие-де Никифорова; шантажировали угрозой физического устранения без суда. Никифоров показаний не давал. Никаких. Сидя в камере, он старался думать не о себе, а о других, ломал голову, что там с Пеевым, каково ему приходится? Был уверен, что Сашо при любых обстоятельствах не обмолвится и словом о соратниках – его не согнешь, Сашо! Ивее же... Следователи, кажется, многое знают. Никифорову предъявили около ста радиограмм, расшифрованных РО. Умело сгруппированные, они характеризовали объем деятельности Никифорова. От военных вопросов до общеполитических проблем. Следователи зачитывали: «Никифоров передал, что генерал Михов и командующий 2-й фракийской армией открыто говорили офицерам своего штаба и дивизий, что сила немцев растаяла на фронтах и что они не в состоянии предпринимать наступательные операции стратегического масштаба». Спрашивали: «Вы платили Михову и Маркову за их сведения?» Не получив ответа, выкладывали очередную телеграмму: «6 апреля 1943 года. Бывшего министра Спаса Ган-чева называют инициатором создания оппозиционной группы. Эта группа настроена проанглийски. Убедившись, что Германия проигрывает войну, она оказывает давление на дворец и правительство, призывая их ориентироваться на Англию. Больше того, кое-кто из них хочет призвать английские войска для оккупации Болгарии». Никифоров слушал, понимал: его стремятся обвинить не только в ведении разведки, но и в создании широкого антиправительственного заговора. Ищут возможности объединить всех, кто упоминается в телеграммах, в один «кружок» и создать сенсационный по масштабам процесс. Понимал он также, что именно в конструкции «дела» кроется шанс на спасение: следствие неизбежно должно втянуть в свою орбиту людей, чье могущество не поколеблено ни военными неудачами, ни интригами группировок, роющих друг другу яму. А что, если взять и «признаться»? Соблазнительная возможность, но она губительна для Пеева. Главные «заговорщики» так или иначе вывернутся, вытянув и Никифорова, однако Сашо окажется обреченным... Нет, только не это!
С гауптвахты во дворец Никифорова отвезли в автомобиле.
Он ехал по Софии, старался не смотреть в окно. На сердце было тревожно, и, рассчитывая последствия, Никифоров все тверже приходил к мысли, что ему готовят западню. На обратном пути могут организовать что-нибудь вроде «попытки к бегству»: выбросят где-нибудь на пустынном шоссе – и залп в спину. У Кочо Стоянова огромная практика в таких делах.
Царь ждал его в саду. Один.
Не здороваясь, показал на скамейку в беседке.
– Садись, рядовой.
Никифоров расправил плечи.
– Генерал-майор, ваше величество!
– Ты же разжалован. Не так ли?
– Это незаконно. Моя вина не доказана.
Царь сел, посмотрел на часы.
– У меня мало времени. Хочу поговорить с тобой...
Внезапно вскочил, нагнулся к самому лицу.
– Никифоров... Как на духу... ответь... Скажешь правду – ничего не будет! Словом своим обещаю... Был заговор? Был? Говори!
Никифоров отстранился. Сжал губы.
– Мое имя в любом случае помешало бы мне опуститься до мышиной возни. Я слишком уважаю себя, ваше величество, чтобы интриговать или вступать в сделки за чины и посты.
– Я не о том! Против меня... против династии был заговор? Михов, Даскалов... другие. И ты! Что замыслили?
Слова вылетали отрывисто, лихорадочна
– Такого заговора не было.
– Клянись! Сейчас икону принесут... ты же христианин, Никифоров!
– Слово чести!
Царь обмяк, грузно сел. Вынул платок, вытер лоб и шею. Тускло сказал:
– Верю. Пусть так и будет. Ты свободен, генерал-майор... Я так решил. Суда не будет. Я гуманист и никому не желаю зла. Никому, так и скажи всем... Иди, генерал.
Никифоров отдал честь и повернулся по-уставному. Пошел в глубь сада по желтенькой песчаной дорожке. Песок скрипел под подошвами, мешая думать. Что это было? Спектакль? Настоящая истерика? Нет, пожалуй. Царь недаром был неплохим актером-любителем. Играл на дворцовой сцене в пьесах Шекспира. Выбрал роль и на этот раз и «сделал» ее едва ли не вдохновенно: многие поверили бы, что решение освободить пришло под влиянием наития, слепой веры в святость слова чести, данного Никифоровым. Политический расчет, холодная оценка обстоятельств при этом остались бы где-то на втором плане... «Заговор»? Вот тут-то и суть! Борис боится последствий большого процесса. Боится дать повод к кардинальным переменам в верхах. Значит ли это, что Никифорову уже ничто не угрожает? Нет и еще раз нет. В силе остается угроза внесудебной расправы. Надо держаться настороже.
Он шел к выходу из сада, навстречу свободе, не догадываясь, что помимо прочих соображений, открывавших дверь камеры, было еще одно, принадлежащее Николе Гешеву и согласованное с Павлом Павловым и директором полиции. Верный испытанной тактике ловли «на живца», Гешев предложил начальству использовать Никифорова – помимо его воли, конечно!—как «огонек», на который должны рано или поздно прийти его товарищи, избежавшие ареста. Никифоров, выпутавшийся из неприятностей и сохранивший мундир и друзей среди генералов, должен был, по предположениям Гешева, либо сам установить связь с кем-либо из подпольщиков, либо принять у себя курьера Центра.
– Рисковать, так по-крупному,– сказал Гешев начальству.
Куцаров спросил Павлова:
– Вы согласны с Гешевым?
– При известных условиях все может быть.
Ответ был обтекаемым, поддающимся любому истолкованию.
– Я беру ответственность на себя,– сказал Гешев.
– Что-нибудь новое есть?
– Так кое-что...
«Новое» было, но Гешев предпочел промолчать.
25 апреля 1943 года Эмил Попов бежал из-под стражи.
Вышло это до странного просто.
После очередного радиосеанса Гешев ненадолго отлучился, а немцу-оператору срочно понадобилось побывать в туалете. Балкон был не заперт; Эмил, ни секунды не мешкая, влез на перила и прыгнул на тот, что был напротив. Соскользнув по деревянной подпорке, коснулся ногами земли и, еле сдержавшись, чтобы не побежать, мерным шагом дошел до угла. Вскочил в трамвай...
Дышать было трудно; в горле застрял ком. Эмил сглотнул его, выглянул в окно: на улице было спокойно. Шли прохожие, чистильщик сапог на углу поигрывал щетками, полицейский патруль неторопливо шагал по мостовой. Старушки в черных платках, натянутых на брови, несли завязанные в белые салфеточки куличи. «Пасха»,– вспомнил Эмил.
День «христова чуда».
Счастливейший день! Точнее, вечер: Эмил бежал сразу же после того, как кончился вечерний радиосеанс, в 22.30. Бежал... Ну разве же не чудо?!
Ощущение свободы было прекрасным. Пьянило.
Эмил хмелел от воздуха, как от сливовицы. Когда шел по городу, его покачивало.
Куда идти?
Еще в камере Эмил продумал маршрут и убежище на случай удачи. Попетлял по городу, оборачиваясь на углах и не находя филеров, трижды проскользнул через проходные дворы, на ходу вскочил в трамвай, на ходу спрыгнул через несколько остановок. Теперь можно идти спокойно.
...Несколько дней Эмил прятался на Церковной у одного из рабочих «Эльфы». Через него связался с подпольщиками, и ему посоветовали перебраться на улицу Селемица, дом 10, где было надежнее. Здесь, на чердаке дощатого барака, устроили тайник и Эмил провел в нем пятнадцать суток, целиком ушедших на то, чтобы с помощью товарищей восстановить радиогруппу. Части запасной, так и не собранной до конца рации один из них хранил у себя на квартире. Требовалось незаметно вынести из «Эльфы» аккумулятор и мелкие детали, нужные для монтажа. У Эмила был свой шифр, полученный от Испанца на самый крайний случай; ключом служила книга, к счастью, не попавшая при обыске в число изъятых.
Ему купили одежду, достали деньги. Когда рацию собрали, Эмил решил уходить. В Априлово. В горы. На месяц или два, чтобы связаться с партизанами, а затем вновь вернуться в Софию.
19 мая Эмил встретился в последний раз с товарищами.
Открыли бутылку ракии, налили в маленькие стаканчики. Подняли тост:
– За твою удачу, Эмил.
– Спасибо! За вас, за всех наших!
– Можешь завтра идти, мы справимся без тебя.
– Не забудьте об Иване Владкове.
– Кто-нибудь съездит к нему в гарнизон. Если все будет тихо, встретимся.
– Так... Надо найти людей, без связников трудно придется. Наметили кого-нибудь?
– Привлечем ремсистов. У нас хорошая опора.
– Ну, успеха вам...
– Ладно, Эмил, все будет сделано.
На рассвете 20-го Попов ушел в горы. Рабочий с «Эльфы» сопровождал его. В дальнейшем ему предстояло стать курьером между Эмилом и его товарищами. В деревне Комины, входящей в партизанскую зону «Район Драгальцы», Попов остался, снял комнату у немолодой крестьянской четы. Здесь его должны были найти посланцы партизан, к которым Эмил Попов отправил ятаков.
Горы... Скалы. Зелень. Холодное козье молоко. Покой.
Попов считал дни, изнывая от вынужденного безделья. Партизанские связные все не шли. То ли ята-ки перепутали адрес, то ли случилось худшее, и их перехватили жандармы, но, так или иначе, связных все не было, и Эмил томился, не находил себе места.
Дважды в неделю рабочий с «Эльфы» навещал его. Докладывал, что товарищи шлют приветы, просят отдыхать и не волноваться. Отыскали Владкова, говорили с ним. Иван здоров и рвется в дело. Полк, в котором он служит, настроен революционно; в каждой роте – кружки; РО арестовало нескольких руководителей, но на их место приходят новые, так что контрразведчики беснуются; еженощно солдат выводят из казарм, а их сундучки перетряхивают, ищут листовки и книги.
Неделя. Еще неделя. И еще...
Рабочий с «Эльфы» явился в неурочный день. Был чугунно-черен.
– Несколько наших арестованы. И твой свояк – тот, что в полку, тоже.
Эмил машинально потянулся к вороту, расстегнул пуговицу.
– Отдохни, вечером возвращаемся!
Эмил и рабочий с «Эльфы» вошли на окраину Софии, когда на вершине Витоши еще спала черная ночная туча. Пустыми улицами, прячась в подворотнях от патрулей, добрались до нужного дома. Здесь расстались: рабочий отправился к себе, а Попов, подождав несколько минут и убедившись, что ничьи шаги не нарушают покой, поднялся по лестнице и постучал в дверь: два тихих удара, один сильный и еще два тихих.
Ему открыли, втащили за плечи в сени.
– Слава богу, ты здесь! Ты уже знаешь?
– Да! Как это случилось?
– Ума не приложу! Выследили? Проходи, поговорим. Здесь ты в безопасности, старина.
«В безопасности»... Услышь Гешев эту фразу, он засмеялся бы. Вполне возможно, потер бы руки. Или выпил бы стопку ракии за Гермеса – покровителя торговцев, жуликов и сыщиков. Побег Попова был организован им самим. Специальная группа Сиклунова глаз не спускала с Попова с того момента, когда он спустился на тротуар по деревянному столбу, подпиравшему балкон. В спецгруппе были лучшие филеры отделения «А»; они ни разу не попали в поле зрения Эмила и других участников организации. Но лучшим среди них всех был, бесспорно, осведомитель Сиклунова, ставший для Попова чем-то вроде невидимой тени. Его Гешев выделил особо.
Этим осведомителем был тот, у кого остановился Эмил в первые дни после побега – доверенный из доверенных, знавший всех и вся, рабочий из радиотехнической мастерской «Эльфа». Агент № 10671.
12
Он и в камере старался остаться самим собой. Это было нелегко. Тюремная система, хорошо продуманная, сконструированная с расчетливой жестокостью, обычно сравнительно быстро расшатывала в человеке то, что было присуще ему на свободе и казалось монолитно незыблемым. Одиночка с ее тишиной и гулкими, как гром, ночными шорохами в коридоре порождала страх перед замкнутым пространством – клаустрофобию, которую врачи-психиатры относят к числу редко излечимых заболеваний. С течением монотонных дней, абсолютно точно размеренных режимом: подъем, кофе, обед, прогулка, отбой; без признака новизны, без перспектив на какое-либо изменение завтра или в отдаленном будущем, заключенным овладевало отупение. Не хотелось ходить, умываться, выметать мусор. Зачем? Зачем двигаться, думать, хотеть жить? Все равно в тюремном быту ничто не сдвинется ни на йоту, а конец определен заранее – залп из семи винтовок и небытие... Раз в сутки выводили на оправку – это было развлечение. Иногда менялись постоянные надзиратели– пища для ума. И все... Появлялось странное, близкое к патологии желание быть вызванным на допрос – следователи, конечно, все жилы выматывают, каждая очная ставка, каждый разговор «по душам» приближают неотвратимый конец, однако уже то хорошо, что можно говорить, видеть небо и дома за окном кабинета, трогать руками привычные вещи – ручку, стол, бумагу.
На одиннадцатый день ареста у Пеева отобрали книги.
На двенадцатый – бумагу и вечное перо.
Тогда же запретили прогулки.
Пеев пробовал протестовать, но надзиратель показал ему распоряжение начальника службы ДС Павлова: «Полная изоляция». Камера № 36 – в особом «кармане» этажа – была отгорожена от остальных; стены – в три кирпича и дополнительная дверь в начале коридорчика. Четыре этажа по девять камер на каждом. Где-то рядом люди, но их не увидишь и не услышишь... Зловещая тишина, от которой временами хочется выть, кататься по полу.
Он не выл, не катался. Мысль работала с предельным напряжением: гулял по камере, вспоминая наизусть целые страницы Шекспира, Толстого, Бальзака. Восстановил в памяти «Отца Горио» и «Холстомера». Устав ходить, принимался за гимнастику, мочил в кружке с водой платок и растирался докрасна. Тщательно причесывался, приглаживал усы. По ночам клал брюки под тощий матрасик и утром радовался, что стрелка на них словно из гладильни. Чистой тряпочкой до блеска полировал туфли.
– Заключенный Пеев, на выход!
Он выходил – прямая спина, подтянутый, недопустимо элегантный для тюремных условий. Надзиратели, вопреки обыкновению, не пытались его бить по дороге в допросную: арестант из камеры № 36 внушал им если не уважение, то нечто вроде боязни. Между ними лежала не дистанция даже – пропасть. Обращаясь к нему, они употребляли отмененное тюремным уставом «вы».
Допросы вели Павлов, Недев, Гещев и Ангелов.
Иногда все четверо сразу; чаще – порознь. Требовали признания, что Никифоров – основной фигурант. Убеждали, что, если это так, Пеев автоматически превратится из главного обвиняемого во второстепенного; гарантировали сохранение жизни и концлагерь со сносным режимом. Пеев повторял сказанное раньше: сотрудничество генерала – плод моей фантазии, о своей роли Никифоров и подозревать не мог; если б догадался – наверняка доложил бы в РО.
Гешев не спорил, принимал все, как должное. Записав показания, пророчил:
– Ничего, доктор! Ты ври, ври! Висеть будете рядом.
Павел Павлов тихим голосом вдалбливал по капле свое:
– Вы же умница. Подумайте, кто ценнее для человечества – солдафон Никифоров или доктор права Пеев? О вас даже сейчас многие говорят с восторгом: светлая голова, мыслитель... При некоторых условиях для вас можно будет добиться мягкого приговора и быстрого помилования. Такие люди, как вы, доктор Пеев, нужны государству... По секрету: за вас хлопочут Говедаров, Кьосеиванов, Бурев. Между нами, вспомните, Кьосеиванов когда-то был «левым», подвергался репрессиям, но одумался и был прощен. Стал министром-председателем, а теперь посол, доверенное лицо его величества... В конце концов, Сашо,– ты, надеюсь, позволишь называть себя так, по старой памяти? – так вот, в конце концов, ты никого не спасаешь своим упрямством. Я сам похлопочу, если хочешь, перед государем.
– Похлопочите лучше о бане.
– Черт! Как же ты груб, Сашо.
– Не груб, а реалистичен: на помилование не надеюсь и заступничества у Бориса не ищу. Что же касается гигиены, то она здесь, в тюрьме, не в почете у властей. В камерах антисанитария, клопы. Белье черное от грязи.
После этого вывод в баню отменили вообще. Надзиратели ссылались на письменное распоряжение: «На неопределенный срок».
Раз в неделю на допросах появлялся Недев.
Курил душистый табак, щурился. «Никифоров во всем признался. Заявил, что сотрудничал с антифашистами сознательно, и гордится этим».
– Дайте очную ставку!
– Понадобится – дадим.
Через месяц с небольшим к Никифорову вдруг утеряли интерес, целиком переключившись на Александра Георгиева. «Как и на какой основе вы его завербовали? Сколько платили? По каким каналам посылали ему деньги в Берлин? Кто был на связи? Имена, фамилии, клички!»
Пеев иронически приподнял бровь.
– Браво, господа! Вы и сами в это верите?
– Георгиев признался. В Берлине быстро начинают говорить. Сами понимаете: гес-та-по!
– Пытают неповинного? Это омерзительно!
– Он все выдал, ваш Георгиев.
– Под пыткой многие идут на самооговор. Георгиев никогда не был моим помощником.
Допрос вел Недев. Окутанный сладким табачным дымом, он коротко, с театральным восторгом на лице, похлопал кончиками пальцев.
– Браво! Вы, как всегда, предельно логичны, доктор Пеев... Тогда, полагаю, вам ничего не стоит приложить логическую мерку к одному факту. В телеграммах есть ссылки на сообщения Георгиева из Берлина. В вашем доме изъята вся – подчеркиваю: вся! – переписка семьи за много лет. Деловые письма, частные. У вас, как я понимаю, существует завидная привычка сохранять корреспонденцию. Так?
– Допустим.
– Почему же, скажите на милость, среди сотен писем нет ни одного, полученного вами от Георгиева? С какой целью вы их уничтожали?
От быстроты ответа многое зависело. Пеев, в свою очередь, поаплодировал Недеву.
– Браво, полковник! Я совершенно обезоружен. Вы выиграли... Или нет? Скажите, вы внимательно просмотрели переписку?
– Там нет писем от Георгиева!
– Я не о том. Вы обратили внимание на личности адресантов? Не трудитесь вспоминать, я внесу ясность сам: у меня сохранялись лишь те письма, которые посылались членами семьи. Кроме них я оставлял корреспонденцию клиентов. Георгиев не родственник и не клиент. Зачем же было копить его послания, для коллекции?
– Но вы же ссылались на них!
– Ссылался. Письма Георгиева проходили цензуру, в них не содержалось ничего секретного. Я извлекал то, что считал полезным, а затем рвал. Кстати, прошу заметить, что на Георгиева я ссылаюсь реже, чем, скажем, на генерала Даскалова или премьера Филова. Или эти двое вне вашей компетенции, полковник?
После допросов в камеру он возвращался в изнеможении. Обтирался мокрым платком, заставлял себя сделать несколько приседаний. Перебирал в уме подробности, анализировал – не сорвалось ли с языка чего лишнего? Не дал ли зацепки?
Подходил к двери, стучал.
– Я – подследственный! Почему меня лишили бумаги и карандашей!
– Запрещено!
– Требую свидания с начальником тюрьмы.
– Запрещено! И не шумите, свяжем.
Пеев отходил, ложился на койку. Дверь была железная, взгляд упирался в нее, изученную до мельчайших подробностей... Павлов одновременно с приказом о лишении прогулок дал и другой – запирать дверь. В камере висела густая, как желе, спертая вонь. Пеев задыхался, сердце то и дело перехватывал спазм, но стучать, требовать, чтобы открыли, дали глотнуть воздуха, было бессмысленно. «Запрещено!»
Дважды по ночам ему становилось плохо. Приходил врач, щупал пульс, качал головой. Обещал добиться отмены запретов, но ничего не менялось.
Однажды, когда вели на допрос, в нижнем коридоре Пеев чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Елисаветой.
Серое платье, серое лицо.
Елисавета вскинула руки к вискам.
– Сашо!
– Эль? Ты арестована?
– Да, и Митко тоже...
Надзиратели отшвырнули их друг от друга.
– Я в двадцать четвертой, а Митко в девятнадцатой!
– Эль... Вас должны освободить... Вы же не виноваты!
Его толкнули с такой силой, что он еле устоял на ногах. Когда выпрямился, Елисаветы в коридоре не было.
В кабинет Гешева вошел с изуродованным гримасой лицом. Знал, что это так, но ничего не мог с собой поделать. Сказал гневно:
– С этой минуты я отказываюсь давать любые показания. Арестованы жена и сын. Это произвол в отношении невиновных!
Павлов опередил Гешева, у которого по щекам загуляли желваки.
– Превентивные меры. Елисавета Пеева содержалась под домашним арестом, ее бы не тронули, но агенты утверждают, что она...
– Не лгите, Павлов! Ваши агенты соврут что угодно и под присягой. Провокаторы! Что они наплели вам в угоду? Что Эль встретилась с подозрительным лицом, которое конечно же ускользнуло от наблюдения? Или это слишком тонко для них, и, не утруждаясь раздумьями, агенты состряпали рапорт, дескать, Елисавета Пеева пыталась скрыться в советском посольстве? Вам не стыдно, Павлов? Вы погрязли во лжи, господа!
– Я не позволю...
– Позволите, Павлов! Ну да ладно. А Митко за что взят? Он студент, к моим делам отношения не имел. В последнее время был в Пловдиве у родни. Что вы стряпаете против него?
Допрос был сорван, и Павлов вызвал конвой. Пеев шел назад, думал. Дошла ли до Пловдива весть о моем аресте? Когда Митко взяли?
...Димитра задержали 22 мая в пять часов утра. Освободили не скоро – в июне, в одно время с матерью: «За недостаточностью улик и невозможностью предать суду». Отказ Александра Пеева давать показания возымел последствия: Павлов, обсудив с Гешевым каждую мелочь, пришел к выводу, что на данном этапе следствия Эль и Митко не представляют особой ценности, другое дело – доктор
Пеев! Как знать, не подействует ли на него сей акт доброй воли и не станет ли он податливей?
Елисавета и Митко встретились внизу, в канцелярии тюрьмы. Обнялись, заплакали. Пятьдесят с лишним дней заключения лишили их надежд, каждый понимал, что если им было тяжело, почти невыносимо, то как же тяжело приходится Александру Пееву! Какая Голгофа ему предстоит!
От Дирекции до дома их проводили агенты. Не скрываясь. Остались на улице, под окнами. Старший предупредил: «Выходите пореже. И не болтайте со знакомыми о тюрьме и ее порядках. Иначе снова попадете туда».
На следующий день Елисавета собрала передачу.
Постояла несколько часов перед закрытым окошком в двери канцелярии. Дождалась, когда открыли. Йротянула узелок.
– Кому?
– Александру Костадинову Пееву.
– Запрещено!
Эль едва не расплакалась; собрала волю в кулак; постояла немного и ушла. А что она могла? Чем помочь Сашо? Да и кто в состоянии помочь, если даже Говедаров оказался беспомощен? Министр внутренних дел, социального обеспечения и здравоохранения Габровский принял Говедарова стоя. Всячески выказывал почтение; слушая, что-то записывал в блокнотик.
Говедаров, энергично взмахивая рукой, приводил довод за доводом, словно укладывал кирпичи в фундамент. Весомо, прочно.
– Вы говорите, Пеев работал на Центр? Тем лучше! На Центр, против немцев. Отбросим дипломатию, господин министр! На чью сторону сейчас склоняется чаша весов на полях сражений? Кто выигрывает войну? Кто обречен и неминуемо сойдет со сцены? Ответы очевидны, и не принять их в расчет нельзя. При этих условиях процесс Пеева означает ваш завтрашний крах, господин министр. Победители не простят вам того, что в решающую минуту вы сделали неверный выбор.
Габровский закрыл блокнот. Узкие губы сжались в ниточку.
– Я понимаю. Но, поверьте, я бессилен. По делу Пеева Павлов и Гешев мне не подчинены. Только царь может что-либо решить.
Потер ладонью лоб, добавил:
– Это дело, как кошмар, для меня, господин Го-ведаров. Клянусь честью, я был бы рад не иметь представления о том, что оно числится в производстве по моему ведомству. Попробуйте предпринять демарш у Филова. Это все, что я могу посоветовать.
Говедаров навестил Пеевых в день освобождения. Рассказал об отказе Габровского. Пообещал, что переговорит с Филовым, но при всем при том посоветовал не строить иллюзий. «Готовится расправа. Будьте мужественны и примиритесь с неизбежным».
– Примириться?
Елисавета и Димитр строили планы: встретиться с Филовым, добиться приема у царя. Строили, тут же отметали. Ни премьер, ни Борис III не заинтересованы в спасении государственного преступника Пеева... Неужели нет выхода? Сокурсница Димитра по юридическому факультету Богушевская была дочерью бывшего министра, пользовавшегося влиянием при дворе. Поклялась, что поговорит с отцом. Богу-шевский через дочь передал ответ: «Заступничество ничего не даст». У сокурсницы на глазах стыли слезы; она была влюблена в Димитра и страдала. Шепотом, прижимая губы к уху Митко, сказала: «Есть еще один путь. Говорят, Гешев берет. Сотни тысяч...» Димитр и раньше слышал, что Никола Гешев не брезгует взяточничеством. В одной камере с ним сидел функционер, избежавший таким образом смертной казни: товарищи, через посредника, передали начальнику отделения «А» 100 тысяч левов... А впрочем?.. А впрочем, кто поручится, что камерное одиночество с Димитром делил «функционер», а не провокатор, полицейская «наседка», толкавшая Пеева-младшего на криминальный поступок? При отсутствии иных улик, факт дачи взятки был достаточным для многолетнего заключения... Но сокурсница – она-то не провокатор!
Как быть?
Брал Никола Гешев взятки или нет – достоверно не известно. Ясно другое, «спасать» Пеева он бы не стал. И никто не мог бы его спасти. Царь, лично надзиравший за делом, какое-то время колебался, прикидывал, не стоит ли потянуть с процессом до конца войны, когда прояснится обстановка и будет проще сделать выбор: карать нещадно или же, напротив, награждать как «лицо, способствовавшее отечеству... и так далее». Делиус, осведомленный об этих колебаниях через Недева, переслал во дворец краткую, убийственно страшную для царя справку: за 1941– 1942 годы в Болгарии раскрыто 290 нелегальных организаций; в 1943-м, за истекшие месяцы, совершено 194 акции саботажа и 1491 террористический акт, включая вооруженные нападения на сотрудников ДС и РО. Убиты: бывший начальник Дирекции полиции Пантев, генерал Луков, депутат Янев... Не сам ли царь на очереди?
Борис III пришел в ярость. Выслушав очередной доклад Павлова, вывел резюме:
– Такие, как Пеев, вдохновляют коммунистических террористов. Поторопитесь с обвинительным заключением. К Пееву применить статью 681-ю, к остальным тоже. Смертная казнь! Я так хочу! Вы с чем-то не согласны, Павлов?
Начальник ДС покачал головой. Он был полностью согласен, и тень, скользнувшая по его лицу, означала совсем другое. Павлову предстояло доложить царю новую ошеломляющую весть: из последних по очереди расшифровки телеграмм неопровержимо явствовало, что некий таинственный «восточный» источник Пеева—не кто иной как его превосходительство посол Болгарии в Токио Янко Панайотов Пеев.
Павлов смотрел на царя и тянул время, боясь припадка. Борис III и по значительно менее серьезным причинам впадал в неистовый гнев.
– Шестьсот восемьдесят первая? – переспросил Павлов.– Да, так! Только так, ваше величество!
– Я устал, Павлов. Иди!
Начальник ДС захлопнул папку с бумагами. Перевел дух. Царь сам дал ему отсрочку. Нет, пусть уж с вестью о Янко Пееве едет во дворец министр иностранных дел. В конце концов, это по его епархии.
Ш
...Леев участие Янко в работе группы отрицал. Начисто. Категорически. Держался версии, повторяющей ту, что избрал когда-то для отмежевания Александра Георгиева.
– Янко писал мне, сообщал политические новости. Не более того. Смешно и юридически бездоказательно утверждать, что он помогал мне сознательно.
Недев выложил телеграммы. Оригиналы, изъятые у Эмила Попова, перевод, выполненный криптографами РО, заключение экспертизы об идентичности шрифта машинки Пеева и той, на которой печатались шифровки.
– Извольте прочесть. Здесь речь идет о связи, о том, что Янко Пееву можно доверять. Подпись везде ваша.
– Я отказываюсь отвечать. Это фальшивки...
Недев встал, сунул пальцы за ремень мундира,
расправил складки.
– Хорошо бы, если так...
Фраза вырвалась случайно, но была сказана искренне. Недев не был в восторге от оперативности и мастерства криптографов, докопавшихся до Янко Пеева. Едва удалось погасить историю с Никифоровым, и вот – на тебе, новый сюрприз, еще хлеще прежнего! Посол его величества – соучастник Пеева! Факт, который невозможно скрыть, и хорошо, что Леев не признается, дает возможность оттянуть день, когда придется доложить царю.
Иной точки зрения придерживался Гешев.
– Вы хотите замять скандал, господа? А надо ли? Янко Леев хороший аргумент в споре с теми, кто кричит о необходимости либерализации. Им мы заткнем рот оппозиции в парламенте; им же приструним Говедарова – они же друзья закадычные! Оздоровим обстановку!
– Надо информировать министра иностранных дел,– сказал Павлов.
Недев поддержал его.
– Это разумно. Без его санкции арестовать Янко Пеева нельзя. Возьмите миссию на себя, Гешев.
– Хорошо. Мне всегда достается грязная работа, но я не брезглив, господа!
Разговор с министром вышел долгим. Телеграммы заставили его задуматься; Гешев – хороший физиономист– легко уловил колебания: министр, очевиднее всего, верил и не верил, допускал мысль, что ему подсунули фальшивки, сработанные в отделении «А».
– Есть еще что-нибудь? Показания, компрометирующие господина посла, признание Александра Пеева?
– Нет... Телеграммы дешифрованы не нами, а РО.
Гешев выдержал паузу, добавил подчеркнуто холодно:
– Надо принимать решение, господин министр. Если вы отказываетесь, я еду к царю.
– Да... Возможно, вы правы. Янко Пеев будет отозван. Не с поста, конечно, а под предлогом доклада мне и премьеру. Надеюсь, к его приезду вы или докажете его вину, или опровергнете клевету. Лучше всего, если его уличит доктор Пеев. Брат не станет возводить напраслину на брата.







