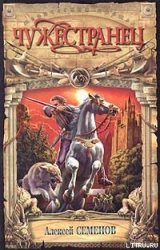
Текст книги "Чужестранец"
Автор книги: Алексей Семенов
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Только сейчас Мирко не боялся ни чар колдовских, ни воды, ни страшных сказок. А нитка бус – единственная одежда Рииты, если не считать бисерного обруча, – делала ее еще более манящей.
– Ужели думала, что откажусь? – молвил он нежно. – Полюблю и русалку. Уже полюбил.
Он шагнул к дереву, она скользнула ему на руки, и он понес ее туда, где трава казалась гуще и шелковистее. Уста их слились, и губы русалочьи были сладки, как прозрачный желтый мед, и горьковаты, как трава-полынь…
На всю жизнь запомнил Мирко эту ночь, и как ни была она длинна, всегда казалась короткой, слишком короткой и невозвратимой.
Они лежали, обнявшись, на пахнущей свежестью и печалью траве, когда восточный край неба стал верескового цвета, и звезды стали тускнеть. Из сумрака, ступая почти неслышно, вышел высокий белый конь, потянулся мордой к Мирко, и в лицо пахнуло добрым, понимающим теплом.
– Как же нам дальше? – спросила Риита. – Нельзя ведь земному человеку с мавкой быть.
– Верно, нельзя, – откликнулся Мирко. – Человек без других людей не может, а они русалку к себе не примут.
– Да кабы и приняли, а не житье мавке у людей. Они помолчали.
– Скажи, а правду сказывают про того колдуна и русалку? – спросил отчего-то Мирко.
– Правду, – отвечала Риита. – Только и то правда, что грех на нем был – за то и наказан оказался. Да еще русалки ведь и не было никакой – то марево было, видение, на него насланное.
– Сколько ж лет тебе, Риита? – обняв ее крепче, чтобы чувствовать, как бьется ее сердце, то ли спросил, то ли просто так сказал Мирко.
– Не знаю. Ни как родилась, не помню, ни как русалкой оказалась, не знаю и как в девушку назад превратиться. Говорят, что если мавку расколдовать, тотчас вся красота ее пропадет, и обернется она старухой древней, а то и вовсе мертвой. Только вряд ли это правда – ни с кем еще такого не бывало.
– Не надо такого, ты мне так любезней, с волосами зелеными.
– Знаю, – вздохнула Риита. – Только ведь зимой мы, что щуки, спим под водой в тростниках да водорослях. А как тебе тогда?
Мирко помедлил с ответом.
– Тяжело такое сказать, – начал он, – но придется. Здесь остаться я не могу, и без тебя мне худо будет. Земля, я думаю, не только хлебом да железом жива, волшебства всякие тоже иногда встречаются. А раз так, то где-то и для нас с тобой разгадка отыщется.
Риита положила голову ему на плечо, коснувшись губами его щеки.
– Сколько ж времени минет, а?
– Кто ж знает? Может, месяц, а может, и годы. Тебе ведь время нипочем.
– А ты?
– Что я, – задумчиво проговорил Мирко. – Молодой к тебе вернусь – все ладно будет. А коли старый – сама выберешь: примешь – хорошо, прогонишь – и то не страшно. Человек все одно умирает, а секрет, мною добытый, глядишь, еще кому сгодится.
– Не говори так, – с мукой в голосе промолвила Риита. – Никто боле мне не нужен. А если не найдется разгадки на этот секрет?
– Найдется. Не секрет, так место такое откроется, где можно человеку и мавке без зазрения быть. Вот и дядя Неупокой мне наказывал, что прежде должен человек место себе найти, а там и другое все прибудет.
– Не знаю, Мирко. – Риита откинулась головой на руку Мирко. – Верно, прав ты. И мне тогда там место будет, где и тебе. Ну а если и места такого нет?
– Знать, нитка-участь такая. Остистая. – Мирко приподнялся на локте, любуясь на Рииту.
– Остистая, – усмехнулась горько девушка. – Что за птица такая – душа человечья? Всюду утеху найдет, и в том, что мимо сада-Ирия пролетит, тоже! Что ж сказать тебе? Ступай, Мирко, только обними меня напоследок еще раз.
Алая заря тронула восточный небоскат, и кони, сытые и довольные долгим отдыхом, бродили по поляне или с тихим ржанием катались по росной траве. А Мирко и Риита все никак не могли расстаться.
– Пойдем в росе искупаемся, – сказал он наконец. – Ахти ведь поспит еще?
– Пойдем, – отвечала она. – Он столь проспит, сколь я здесь с тобой буду. Одно жаль: нехитрое это колдовство нам не поможет.
Она поднялась, потянулась вверх, прогнувшись, нимало не стесняясь своей наготы.
– Ладно, будет тут горевать. Разве то не сладко, что мы здесь повстречались? Догоняй! – крикнула она и побежала по поляне.
Мирко вскочил одним махом и бросился вслед за ней.
Роса была обильная и обжигающе холодная, жесткие стебли высокой травы хлестали по телу, и скоро оно стало гореть, будто после банного веника. Долго еще потом качались перед глазами побледневшие, но еще не опавшие цветки иван-чая и марьянника.
Роса смыла все, что тяготило душу, и возвращались они к серебристой своей иве, будто заново узнав друг друга, с легким сердцем, готовым к долгой, но преходящей разлуке.
– Ничего у тебя просить не стану, – говорила Риита, когда они уже оделись, хотя сладкое любопытство не спешило их оставить. – Сам ты все обещал, что я только хотела. Слово твое, неволить не буду. Потому нехорошо клясться, лучше правду молвить.
– Что ж тебе еще рассказать? – растерялся Мирко, кладя голову ей на колени. – Спрашивай, милая, душой кривить не буду.
– Вот что мне скажи. Мне ты свое слово дал, только судьба, сам говоришь, остиста. Нет ли у тебя за спиной ости такой, чтобы слову твоему помехой была?
Мирко, готовый уже сказать решительно: «Нет», – задумался на миг, и тут снова встал меж ним и целым светом дивный лик каменной богини. И словно коснулось его губ тепло того камня, и стеной окружила глухая, древняя тишь заповедного места, и он, не в силах солгать, твердо произнес: «Есть».
И рассказал Риите-русалке, как по дороге сюда набрел на старые, ведущие вверх ступени.
– Вот оно как, – проговорила Риита. – Должно быть, и впрямь не понять нам, лесным, души человечьей. А вот людям иной раз век мимо доли проходить да ее не увидеть. – Она помолчала. – Ладно, и то не горе. Пора уже. Пойдем к опушке, там валун-камень лежит. Говорят, его еще волоты оставили. Там же и встретимся, если приведется.
Мирко снова взял ее, молча, на руки и пронес до опушки.
У камня он осторожно опустил девушку, а она погладила его по жестким русым волосам.
– Солнце сейчас покажется. Вот с первым лучиком – ты не пугайся – я и исчезну, будто растаю.
– Дай поцеловать тебя еще раз, – попросил Мирко. Она не противилась, хотя и этот раз оказался далеко не последним.
– Нет ли у тебя чего на память мне? – спросил он, когда солнце уж действительно вот-вот должно было сверкнуть первым золотым лучом.
– Вот, возьми. – Она вынула из кармана и отдала ему белый платочек, вышитый по кайме все тем же узором – папоротниковым листом.
– А это тебе. – Мирко раскрыл ладонь, на которой лежало стальное кольцо с усиками для завязок, усеянное серебряными шариками, на каждом из которых была вытравлена сказочная птица-Алконост.
– Бери, – прибавил он, – это я сам у торговых людей выменял. Все берег, не знал для кого. Теперь время пришло.
– Красивое, – залюбовалась на кольцо Риита. – Хоть русалке серебра и не надобно. Венчик, он, сколько себя помню, на мне был, а от тебя возьму. Все. Солнце восходит. Погляди на меня, любый мой, да, может, поймешь что.
Из-за горизонта брызнули первые золотые капли, упали на черные вершины елей, и рассветный ветер шевелил уснувшую хвою.
Девушка отступила за валун, и сей же миг, взглянув ей в лицо, Мирко ахнул и ухватился за камень, чтоб не упасть: лицо Рииты-русалки неуловимо преобразилось, явив черты той, заветной богини, что осталась на сосновом кряже.
– Риита! – крикнул он с отчаянием и рванулся к ней, но было поздно.
– Ничего-то ты не понял! Жди! – не шепнули, а нарисовали ее губы, и вся она, как была, исчезла, канула, истаяла в росном воздухе. Только белый вышитый платочек остался у него в руке.
Мирко, ощутивший разом всю тяжесть бессонной ночи, едва передвигая ставшие свинцовыми ноги, побрел к шалашу.
«Как же так случилось?» – вертелось в голове.
Чего же не понял он, что упустил? Какую тайну разгадать не сумел?
«Мимо доли проходить да ее не увидеть». «Мимо сада-Ирия пролетит – не заметит». Не могла, значит, она ему сказать, хоть и ведала, тайну эту. Заклятие какое на ней лежало или зарок, может? В том ли дело, что не распознал он в Риите богиню? Или, может, что про бусину не рассказал? Да при чем тут бусина! Нет, верно, в том причина, что не узнал. Выходит, надо теперь по земле идти, людей расспрашивать, что за дева-богиня такая, и как к ней доступ найти, и какое таинство здесь сокрыто.
И немочь тотчас отступила. Мирко поднял голову. Зеленый лесной мир просыпался. Щебетали, радуясь солнышку, птицы, поднимались, сбрасывая дремотную росу, травы, начинали свой долгий разговор сосны. Навстречу шли чинно, бок о бок, два коня: справа – его избранник, белый, с умными фиалковыми глазами, а слева – вороной, – могучий, будто из единой громовой глыбы вытесанный, блестящий холеной шерстью, хитро, но беззлобно косивший на человека горящим зраком. Мирко поравнялся с конями и, обняв их за крепкие послушные шеи, прижался лицом к влажным от росы мордам. Кони, понятно, ничего не сказали на это, только дышали тепло и ласково, покачивая вверх-вниз головами.
Мирко в последний раз обернулся к валуну, где расстался с Риитой. На темной груди камня, едва заметный, затертый временем, красовался, неизвестно когда и кем вытесанный здесь, знак.
Если спросишь ты случайно:
«Отчего сегодня в вечер
Белых птиц кружилась стая?» —
Я тебе на все отвечу:
Для чего я эту песню
Ночью ясной, ночью поздней
Бросил в небо Семизвездью,
Подарил падучим звездам.
Из дому поутру выйдешь
В холод, позабыв о лете,
На крыльцо и вдруг увидишь
Розу в первом белом цвете.
То не эльфы ли резвились
Под Охотника луною?
– Нет, они не проносились
Ночью нашей стороною.
– Не луны ли блики возле
На траве всю ночь играли?
– Нет, они здесь не замерзли,
Розой белою не стали.
Если спросишь ты случайно
У меня про этот вечер,
Я отвечу – то не тайна —
Обо всем тебе отвечу.
Меж холмов страны зеленой
Побегу проворной речкой,
Струй студеных перезвоном
На твои слова отвечу.
Листопадными ветрами
Прошумлю багряной рощей
И луны осенней снами
Я тебе отвечу ночью.
Стану смурыми холмами,
Их глухой и темной речи
Научусь и их словами
На твои слова отвечу.
Мне заклятье ворон скажет —
Обернусь огнем Самайна —
Посмотри, как пламя пляшет
И разгадывает тайны.
Колдовским узором стану,
На серебряном колечке
Напишу искусной сканью —
На твои слова отвечу.
Если спросишь ты случайно —
Только ты меня не спросишь!
Тает в небе ночь Самайна,
На крыльцо ты не выходишь.
Ни о чем меня не спросишь,
И колечко в реку канет,
Облетит ночная роща,
Говорить она не станет.
В очаге погаснет пламя,
Ворон, крылья распластавши,
Улетит по-над холмами
На вершину черной башни.
Отчего белела стая
На Самайна черный вечер? —
У меня ты не узнаешь,
И тебе я не отвечу.
VI. СААРИМЯКИ
Что было раньше: дом у дороги или сама дорога? Глупый вопрос, ибо нет на земле ни места, ни дома, и только дорога есть всегда. Потому-то и нет на земле ни тепла, ни счастья: счастье уносит с собой дорога, она же и уводит от тепла тех, кто идет по ней за счастьем. И с каждой верстой все более видно, что желтые окошки теплого дома невозвратно остались за поворотом, а счастья нет, сколь ни щедра судьба на любовь и злато. Даже безжалостное время одолимо: стоят непобедимые пирамиды, звучат строки каменной летописи, прозорливый взгляд потомков ловит отблески прошлого во тьме подземелий и догоняет отраженные лучи все видевших звезд – только дорога ускользает, не ведая ни начала, ни конца. И нет нигде места идущему по ней – кто же примет его, чужестранца, без рода и племени? Дорогу осилит идущий? Еще большая глупость. Что значит «осилит»? Награду? Высшая награда – знание – горька, как тысяча цветков полыни. За каждым новым холмом лежит разгадка некой тайны, а дальше встают новые холмы, с вершин которых загадочно улыбаются каменные статуи, и бормочут с полуразрушенных, разбитых плит неведомые письмена, говоря лишь о том, что все твои тайны – малая доля того, что знали прошедшие здесь до тебя. Каждая трещина б сухой земле, каждый камешек в дорожной пыли, каждая капля дождя значит больше, чем все твои наблюдения. Любовь, как птица паря над тобой, сверкает манящим оперением, и ты спешишь за ней, не замечая, как миновал росстань. И вот уже только зловещий вороний крик тает в вышине, приветствуя тебя в неведомом и пустынном краю, и свинцовые воды осенней реки рокочут под древним каменным мостом, и последний приют остался далеко за спиной. Одно бледное дневное светило сквозь плотную пелену сопровождает тебя в еще более далекие и странные земли, полные туманов, марева и мглы…
– Мирко, куда ты подевался? – раздался вдруг звонкий голос Ахти.
– Здесь я! – прокричал мякша в ответ, – Коней веду!
– Добро! Веди! Я сейчас лепешки печь стану! Мирко не стал смотреть знак, высеченный на камне: ему не хотелось подходить ни к валуну, ни к озеру, – вообще приходить в эти края до тех пор, пока не обретет ответа на свой вопрос. Ради этого он готов был исходить вдоль и поперек всю землю и даже те места, что виделись внутри бусины, сколько бы времени на это ни понадобилось, пусть и вся жизнь.
Он вышел к шалашу. Ахти уже умылся в озере и теперь хлопотал вокруг костра.
– Что ходил так далеко? – спросил он, ловко приготовляя ячменные лепешки, вкладывая внутрь съедобные корешки и травы.
– Кони прогуляться захотели. – Мирко похлопал белого и вороного по гладким шеям. Те, будто подтверждая его слова, покивали умными головами, потряхивая гривами. – Экие красавцы! – засмеялся Мирко. – Видишь, кивают?!
– Вижу, – улыбнулся хиитола, и белые волосы его, намоченные на лбу озерной водой, рассыпались туда-сюда, как у внезапно застигнутого домового. – Встретил кого на опушке?
– А то как же, – отвечал мякша, подсаживаясь к Ахти. – Девицу красную видел: волосы черные, долгие, венчик серебряный, понева синяя в клетку, на ногах черевички…
– Постой! – прервал вдруг его Ахти. – Какова, говоришь, девица?
Мирко повторил описание и добавил:
– Очи черны, брови густы, с лица красива, да не полна, нос прям, губы алы, тонки, а ресницы – что крыла у бабочки, кожа бела…– Лицо Рииты неотрывно было теперь перед ним. – Сама стройна, что береза, пояс шерстяной вязаный…
– Ой, это же Хилка! – чуть не закричал Ахти. – Где она? – Парень вскочил, готовый бежать сломя голову, куда покажут.
– Постой! – Мирко растерялся, никак не ожидая столь внезапного поворота событий. – Убежала она, меня испугалась, видно. Только вот платок оборонила. – И он протянул белый платочек.
Ахти схватил его, развернул, осмотрел вышивку и как-то сразу обмяк и вялым жестом отдал платок назад.
– Нет, не она то была. Нет у нее таких, – проговорил он бесцветным голосом и присел на корточки, уронив голову на руки.
Мирко ничего не стал говорить, а только разложил лепешки на горячих угольях.
Теперь-то мякша знал, что творилось в душе у его попутчика, – самому было не легче. Но его хотя бы ревность не мучила, а потому Ахти был достоин сочувствия.
«Надо же, как извелся, – думал Мирко. – В каждой девице ему Хилка мерещится. На вид покладист да ровен, что эти сосны. А как о ней подумает, так хворост подальше убирать нужно».
Немудреная трапеза прошла в молчании: каждый думал о своем, и мысли эти были не радостны.
Шалаш разбирать они не стали, но кострище зарыли и завалили сырым мхом и травой: огонь требовал особого отношения. Оставили и баннику: кусок ржаного хлеба, что остался еще со встречи с Антеро, густо посыпанный крупной солью, да набрали свежей воды в кадушку.
– Пошли, что ли? – спросил Мирко, осматривая место ночлега и мысленно прощаясь с серебристой ивой, мягкой травой и черно блестящим озером.
– Пошли, – кивнул Ахти, и они зашагали прочь по едва заметной стежке.
– Далече ли Сааримяки? – осведомился мякша.
– После полудня придем, – отвечал хиитола.
– Чего ж ты тогда всполошился? Разве пойдет девушка после русальной недели, до света, одна через лес, да еще в такое место? – постарался урезонить парня Мирко.
– Правда, вряд ли, – вздохнул Ахти. – Что же поделаешь, коли мне за каждой сосной видится, будто это ее понева мелькнула?
Ахти посмотрел вокруг грустными васильковыми глазами.
Солнце вставало во всей своей золотой красе, свечи сосен зажигались янтарем, все живое в лесу отзывалось на ласковое касание тепла, и только двое молодых, сильных мужчин шли с угрюмой тяжестью на сердце.
Когда по расчетам Мирко деревня должна уж была вот-вот показаться, тропа и вовсе заглохла.
Вид у его спутника был до того безучастный и потерянный, что Мирко начал беспокоиться, не помутилось ли у парня ненароком в голове от несладких раздумий.
– Мы туда ли идем? – окликнул он Ахти.
Тот обернулся, поглядел куда-то мимо Мирко и ответил:
– Не сомневайся, туда. Этой дорогой мы не ездим. На север вообще из Сааримяки проезжего пути нет.
– То есть как это «нет»? – изумился мякша. – А как же путь вверх по Хойре-реке?
– Это есть, конечно, – Ахти вроде разговорился и вышел ненадолго из любовного оцепенения, – только выходит он сначала на юг, а потом к северо-западу забирает.
– Зачем так? – не понял Мирко. – Деревня ваша, видно, большая, а торная дорога в стороне идет? – Этого толком никто не знает. Говорят, конечно, что дом у дороги ставить к несчастью, но это болтовня все. Мирко про себя подумал: «Скажи кто такое лет двадцать назад, так выпороли бы, отец говорил. А сейчас ничего! Да что там, я ведь и сам таков!» – Что же на деле? – спросил он. – Опять-таки толком никто не ведает, но колдуны такие басни рассказывали, что много-много лет назад, так много, что и представить нельзя, жил в этих местах народ один, и в Чети, и в Мякищах у вас. Кое-где, мол, даже святилища и развалины остались. И воевал тот народ с кем-то, кто с севера шел. Что там в конце концов сталось, никто не помнит, но дорог на север с тех пор никто в четских лесах не ведет, окольным путем схитрить норовят. А ведь не всякий купец крюка давать станет, – подытожил Ахти.
– Да, мудрено прадеды наши придумали, – согласился Мирко. «Святилища, говорит, древние, развалины. Не на того ли народа капище я на кряже наткнулся? – подумал мякша и тут же отмел забрезжившую было догадку. – Нет, такое время ни один камень не выстоит. Верно, позже ту женщину каменную поставили, много позже».
Деревня открылась неожиданно. Кусты бересклета, вытянувшиеся здесь чуть не в два человеческих роста, расступились, открыв неглубокую круглую ложбину с пологими травянистыми склонами, где поля перемежались сенокосами. Посреди ложбины из изумрудной травы, словно спина гигантской древней рыбы, вставал высокий крутой холм. Время, дожди, снега и ветры сделали свое разрушительное дело: холм был уже сильно сточен, оброс жирком – плодородной почвой, покрылся песком, но под этим наносным слоем таилась нерушимая каменная основа, и внимательный взгляд человека не мог этого не заметить. У южного склона лежало озеро, северная же часть холма была пуста – там росла трава да чуть поднимался лес-молодняк. Деревня, конечно, обитала на южном и юго-западном склонах, только на самой вершине можно было разглядеть зеленые травяные крыши полуземлянок.
С севера лес наступал на деревню – до холма было саженей сто, не более, и зеленые пальцы Великой Чети осторожно прощупывали новое пространство навстречу полудню. Люди не продвигались в Четь на север, но и лесу распространяться не давали – видны были вырубки и выжженные плеши.
Пора стояла горячая: заканчивалась жатва, начинался сев озимых. В эти нежаркие часы до полудня все, кто мог, вышли в поле, и Мирко стало совестно, что он сейчас не помогает своим дома, в Холминках, а идет-бредет неведомо куда, ищет непонятно что. Правду сказать, он был несправедлив к себе, ведь Холминки как-никак располагались гораздо севернее, и тамошние леса не могли быть надежной защитой от холодного дыхания Снежного Поля и ползущих с макушки земли ледников. Поэтому жатва в его краях уже окончилась: помня о злых зимах последних лет, сельчане поспешали, как могли, и Мирко успел потрудиться на славу. Сев – иное дело, здесь хвастаться было нечем. Именно между жатвой и севом покинул мякша родные места. И хотя минуло всего несколько дней, казалось, было это уже так давно, словно приснилось. Мирко любил работать в поле не меньше, чем полесовничать: косить, скирдовать, молотить, веять – все это нравилось ему, вызывало радостное чувство близости к земле, к живому зерну, хранящему великий секрет жизни. Но больше всего любил Мирко сев, когда мужчины из Холминок, крепкие, сильные, загорелые после жатвы, выходили поутру на вспаханное поле и, раздевшись донага, шли навстречу солнцу и ветру. Длинными, неспешными движениями они разбрасывали зерна, бережно хранимые с прошлого лета, чтобы свершился вновь круг жизни: все, что взято у земли, в нее уйдет, и все, что ушло, возвернется сторицей.
И еще Мирко недоумевал, как же отпустили куда-то в это время Ахти – парня работящего и умелого. Антеро – это понятно, его, видно, перестали брать в расчет, да и к осенним работам в Мякищах он должен был поспеть. Ахти же был необходим общине, и, значит, очень серьезной должна быть причина, раз его отрядили вдогон.
– У вас как, – обратился Мирко к Ахти, – все общее на селе или каждый на своей полосе хозяйничает?
– И так, и этак. Кое-что под паром оставляем, кое-что всей деревней делаем – то земля общинная, с нее первой начинают. А уж потом и для себя, кому надобность есть. – Как же тебя-то отпустили – не время ведь по лесам бегать?
– Вышло так…– Ахти опять погрустнел, и Мирко уж сам не рад был, что задал такой вопрос– Общинное поле и я делал, – пояснил хиитола, – а своим-то я и теперь пригожусь. – Мирко показалось, что, подумав о предстоящей работе, Ахти повеселел, и у него тоже отлегло.
На северной стороне засеянных полей было немного, все больше шли сенокосы. Сено уже было сметено в стога, чтобы грядущие ветра и дожди его не попортили. На полях дела тоже шли по-разному: кое-где уже стояли ровные скирды, где-то жито было еще на корню, и любо было смотреть, как качаются спелые, налитые силой колосья. На трех участках трудились семьями – от мала до велика. Все были в рабочей одеже, но видно, что для такого важного дела принарядились – скромно, но затейливо, кто как мог. У девушек – расшитые рубахи, в волосах – цветные ленты, венчики. Замужние женщины закрывали голову платком, и у каждой он был повязан по-своему, а у иных платок был и вовсе узорный. Вестимо, не обошлось и без колец, гривней, обручей и, конечно, оберегов. По ним-то Мирко сразу понял, что Антеро говорил правду: в Сааримяки полешуки и хиитола перемешались так, что и наряды, и верования как-то соединились. Например, у одной из девушек, одетой в передник поверх рубахи, у плеча висел оберег – конек, а у другой, в поневе, к поясу была привешена на серебряном кольце гусыня.
Стежка пролегала мимо полоски, где трудились трое: седой сухощавый старик-хиитола и двое ребятишек – девочка лет тринадцати и мальчишка, годком младше. Волосы деда, длинные и прямые, перехватывал пестрый лобный ремешок, о возрасте девочки Мирко легко догадался по числу нитей, унизанных медными и оловянными бляшками, из которых состоял ее венчик – их было ровно тринадцать. Мальчишка в чистой белой рубахе, по вороту и рукавам которой шла сине-красная вышивка, где переплетались знаки солнечного колеса и толстые утки, был голубоглазый, курносый и белоголовый, как Ахти. Работал он так невозмутимо и солидно, будто всегда только этим и занимался, только кончик языка от усердия незаметно высунулся наружу. Девочка же, видно, вышла в родню со стороны полешуков: ее волосы – густые, длинные – были русые, с медным отливом, лоб высокий, губы полные, брови густые и ровные, лицо округлое, белое, а глаза чистые и синие, как небо. Понева ее была оторочена двумя рядами белой тесьмы, а рубаху украшал восходящий солнечный круг со многими лучами. Трудилась она плавно, старательно, и порой, бросив заботливый взгляд на двоих своих мужчин, совсем по-матерински вздыхала.
Но самой замечательной личностью среди них был все же дед. Помимо головной узорной повязки носил он еще медный обруч на левой руке, а порты у него были и вовсе несуразные – крашеные в мелкую синюю полоску. Хоть ему было уж далеко за пять десятков, а то и поболее, держался дед молодо и незаметно подсматривал хитрым зеленым глазом за ребятами, не забывая ни о своей работе, ни о том, что творится вообще вокруг. Птица высоко в небе пролетит, мышь напуганная шмыгнет в траве – такой все приметит. Приметил он, знамо дело, и односельчанина Ахти, и чужака Мирко, и девять добрых коней.
Когда они поравнялись с работающими, дед, сделав вид, что у него устала спина, распрямился и утер рукавом пот с лица. Все его морщинистое лицо – крючковатый нос, озорные умные глаза, сухие губы, белые пышные усы, набитый на диво ровными и белыми зубами рот – являло собой любопытство и доброжелательство.
Ахти и Мирко приветствовали старшего первыми, низко поклонясь ему:
– Поздорову тебе, дедушка Рейо!
– Здоровы будьте, уважаемый! Милостей вам от Гречуха!
– И ты здравствуй, Ахти! Гостя, гляжу, привел?
– Да, из самих Мякищей. Его Мирко зовут, – представил мякшу Ахти.
– Мирко, значит, – повторил дед. – Ну а меня, сам слышал, Рейо кличут. А это вот внучки мои.
Услышав, что их упомянули, ребята прервали ненадолго работу: девочка поклонилась, то же сделал и мальчик, после чего они вернулись к делу, но теперь с любопытством нет-нет и посматривали на пришельца, а больше на красавцев-коней.
– Воротился, значит, – сказал дед, глядя пристально на Ахти. – Скоро ты. Ну ладно, после все расскажешь, сейчас не время. А ты, Мирко, – обратился он к мякше, – коней, должно, на торг ведешь?
Парень не сразу нашелся, что ответить: они как-то не удосужились договориться, что будут врать в Сааримяки. Сейчас же первое, что пришло Мирко в голову, было: «А ведь ночью Риита так же меня спрашивала!»
– Ну да, коневод я, – ответил он, хотя понял сразу: деду сочинять бесполезно, да и за три стрелища видно, какой из Мирко торговец!
– Что ж, удачи тебе, – пожевав губами, церемонно пожелал старик. – Ты у нас на денек задержишься, верно?
– Ага, остановится у меня, – подтвердил Ахти.
– Вот там и перемолвимся еще словечком. Как есть ты и впрямь из самых Мякищей, надобно мне тебя порасспросить кое о чем, – пояснил дед Рейо. – Ступайте, молодцы. Доброго тебе, Мирко, отдыха. И кони у тебя славные, у хорошего, знать, хозяина, – похвалил он.
– Благодарствуйте, – еще раз вежливо поклонился ему Мирко.
Дед усмехнулся в усы, пробормотал нечто вроде: «Ишь ты, вежливый!», но ничего более не сказал и снова принялся за работу. Делал он все очень уверенно, твердо, без лишних усилий, но с душой, будто узор хитрый сочинял.
Пройдя подальше, Мирко заметил под кустами лещины крынки с молоком, корзиночку с сырами и свежим хлебом, заботливо укрытые в тени от полуденного зноя, и ему снова вспомнились Холминки, брусничный квас, ловкие руки сестер, что держали одинаково искусно и серп, и скалку, и коровье вымя; и белесое даже в зареве-месяце мякищенское небо, пахнущее полынью и соснами.
А зной уж встал над полями, и вскоре жатва должна была на время приостановиться, чтобы не гневить богов и дать роздых самим труженикам, а также и деду-полевику, избегавшемуся уже, ускользая от острого серпа в оставшиеся колосья. Только плясунья – красная девица-полудница выходила сейчас в поле посмотреть, не работает ли кто без удержу и почтения, да поискать спящих на жнитве девушек – порезвиться, потанцевать, чтобы не скучно было одной.
Тропа вилась дальше, меж полей, засеянных ячменем и пшеницей, меж сенокосов и паров. Слева от тропы, на лугу, лениво помахивая хвостами, расхаживали большие черно-белые коровы под присмотром старушки, вооруженной хворостиной.
Путники перешли канаву по прочным мосткам – по весне, после таяния снега или обильных летних ливней здесь неслась говорливая мутная вода, смешанная с песком и глиной, сейчас же дно было едва влажно и заросло густой осокой. После пошел медленный подъем. Северный склон холма был крут, к тому же выгибался горбом, и солнечные лучи редко освещали его, поэтому земля здесь даже летом оставалась сырой. Здесь росли папоротники, хвощи и прочие влаголюбивые растения. То и дело попадались гранитные валуны и целые куски скал, будто кто-то швырял их на грудь холма снизу. Ни единого обработанного клочка земли не было на этом склоне, и веяло здесь каким-то давним холодом и запустением, как будто земля здесь долго и тяжко болела, пребывая до поры в забытьи. Мирко всматривался в молчащие камни, сплетения трещин, темную, скорбную зелень и пытался понять, какая ж беда стряслась здесь многие века тому назад, какие сражения, какой лютый огонь опалили землю. Разговаривать или выспрашивать о чем-либо Ахти не хотелось: все равно он ничего путного не сказал бы, но созерцание новой непонятной загадки, уводящей к самым истокам времен, заглушило даже мысли о Риите.
Наконец тропа вышла к высокому, саженей в пять, каменному утесу и пошла вдоль него вправо, а склон постепенно перешел в довольно крутую осыпь, крепко схваченную сорными травами, крапивой и кустами жимолости. Да, появись с этой стороны враг, взять такую, саму собой получившуюся стену было бы непросто.
Пройдя вдоль осыпи под стеной шагов двести, Мирко поднял глаза к небу и тут же застыл на месте: на высоте четырех саженей над ним в крепкой гранитной тверди был высечен тот самый знак, который являлся ему последние три дня постоянно.
– Ты чего? – не понял его Ахти, которому пришлось внезапно останавливаться не только самому, но еще и осаживать четырех сильных коней, которые, к слову, слушались Мирко гораздо легче.
– Вон там, – мякша указал наверх, – кто это сотворил?
– А, это, – махнул рукой Ахти. – Пошли вперед, сейчас скажу.
Мирко послушался, вновь тронув лошадей.
– Это Антеро, чудак, постарался, – объяснил хиитола. – Здесь, говорил, этому знаку самое место, он, дескать, грозу северную отвращать будет. Приходил вечерами, а то и ночами лунными, стучал, вымерял. Сделал, в общем. Старики, понятно, не слишком рады были, только мужики сказали: пусть его стучит, в поле работает – и ладно, а так пусть. Раньше бы, вестимо, такого не позволили…
Тропа пошла забирать вокруг холма, гранитная стена все уменьшалась в росте, и наконец Ахти и Мирко вышли к окончанию осыпи – далее она переходила в крутой зеленый откос, взобраться по которому было бы крайне трудно, а зимой и вовсе немыслимо. Выход же наверх запирал здоровенный двухсаженный обломок. Его обращенная к тропе поверхность была гладко срезана и отполирована – то ли дождем и ветром, то ли людьми в баснословные времена. Посредине виднелось стершееся, но еще различимое изображение то ли пирамиды, то ли языка взметнувшегося пламени. Рисунок был груб, но очень выразителен. От самого места веяло чем-то мрачным и недобрым.








