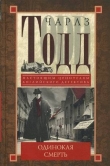Текст книги "Узник №8 (СИ)"
Автор книги: Алексей Притуляк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Когда наконец он закончил чтение, снял очки и натужно перевёл дух, вперёд выступил начальник местной тюрьмы, взявший на себя обязанности адъютанта. В руках он держал большой чёрный ящичек с кокетливой золочёной виньеткой на крышке, чуть заржавелыми петлями и обломанной ручкой, так что держать его во всё время чтения приговора начальнику было не очень удобно и теперь он с явным облегчением водрузил свою ношу на стол, откинул крышку и с улыбкой посмотрел на узника, ожидая, видимо, насладиться произведённым впечатлением.
А зрелище действительно впечатляло, поскольку то, что лежало в ящике было не пистолетом – это был монстр, ужасное произведение оружейного искусства – длиной не менее локтя и весом явно не меньше пяти фунтов, с двумя вертикально расположенными гранёными стволами.
– Эссекуэрло! – выдохнул гостевой начальник, переходя на чуждый узнику свой родной язык. Его толстые мокрые губы выплюнули произнесённое слово и попытались сложиться в суровую складку, но были для этого слишком беспомощно и по-детски пухлыми.
– На этот раз заряжен? – спросил узник, прищурившись.
– Не сомневайтесь, – улыбнулся начальник тюрьмы. – Два ствола, два патрона. Один выстрел. Второй – на случай, если понадобится… кхм… вы понимаете.
– Если не умрёт после первого? – уточнил узник.
– Вы понимаете, – снова улыбнулся начальник тюрьмы. – Впрочем, пули разрывные, так что вряд ли понадобится… Кстати, – добавил он со странным огоньком в глазах, – нас тоже двое. Два начальника тюрем, хе-хе… Два ствола… А пули – разрывные…
– Ты согласен с приговором? – обратился между тем толстый начальник к приговорённому. – Последнее слово говорить будешь?
– А? – почувствовав, что обращаются к нему, смертник перевёл на начальника затуманенный непониманием взгляд. В уголке его рта собралась прозрачная капля слюны и медленно, тягуче стекла вниз, к подбородку.
– Идиот, – равнодушно пояснил толстяк. – Ничего не соображает. Совсем.
– Земляники хочу, – вдруг улыбнулся приговорённый. Слова он произносил нечётко, косноязычно, будто обжёг или прикусил язык и теперь боялся им лишний раз шевелить. Или будто учился по-датски. Слова падали из его рта без всякого выражения, как обрубки дерева или сброшенные на снег варежки. – С холма. Там у нас за речкой холмы земляничные. Мы их зовём земляничные холмы. Солнце нагреет земляника сла-а-адкая и тёплая что мамкина титька. Ага.
– Последнее желание тебе уже исполняли, – недовольно возразил его начальник. – Так что будем считать, что про землянику – это было последнее слово, – и кивнул узнику: – Кончайте с ним, палач.
Узник осторожно извлёк из ящика пистолет. Попробовал держать его в одной руке, взвесил – нет, для одной руки слишком тяжёл.
– Летом так постоянно там трёмся, – продолжал смертник, не обращая на происходящее никакого внимания. – Ну понятно если дождя нету потому что если дождь то… то грибы растут… в общем когда дождь за земляникой не ходим и она не сладкая тогда потому что… Тогда идём за грибами но это далеко и грибы не сладкие. Ой земляники хочется. Я там козу нашу пасу под холмами а на холмах земляника. Мы их так и зовём земляничные холмы. Наберёшь полный рот сла-а-адко. А на губах сок и они тоже тогда сладкие такие. Ага.
Толстяк-начальник брезгливо поморщился, заметив, как тягучая капля слюны медленно оторвалась от подбородка смертника и потянулась прозрачной ниточкой к полу.
Узник взвёл курок. Поднял пистолет.
– Куда целиться? – спросил он.
– В приговорённого, – улыбнулся начальник тюрьмы, чуть поправляя ствол.
– Речка-то узёхонькая её коза вброд переходит и перепрыгнуть можно. А за речкой холмы. Земля там тёплая если полежать захочешь лежи можно даже спать там но не ночью конечно ночью всё равно же холодно везде а потом роса утром намочит и айда. Мамка не разрешает чтобы росой мочило мамка строгая такая жуть. Ну а днём если так можно лежать и собирать землянику и в рот. Сла-а-адко. Полный рот наберёшь ух как сладко. Мать-перемать как хочу земляники.
– Скажите, – вдруг вспомнив, обратился узник к смертнику, – скажите, а какова погода на улице? Дождь не идёт?
– Когда дождь тогда земляника несладкая не знаю почему так, – улыбался приговорённый. – В дождь не ходим за земляникой. За грибами. В снег тоже не ходим. И за грибами не ходим. Не знаю почему так. Когда снег сидим с мамкой у печки и смотрим в огонь как он пляшет и вспоминаем лето и землянику. А когда солнце вот тогда да. На холмы земляничные. Мы их так и зовём земляничные холмы.
– Эссекуэрло! – нетерпеливо произнёс начальник другой тюрьмы, поглядывая на часы.
Двумя руками узник поднял пистолет, но даже и двух его ослабевших рук было мало, чтобы удержать ствол от подрагивания и блужданий. Он долго пытался выловить в прицел грудь приговорённого, но мушка то и дело съезжала на стену или на дверь. Приговорённый между тем отлип от стены и теперь переминался с ноги на ногу, не переставая бубнить что-то своё – бесконечное и монотонное. Начальник тюрьмы с улыбкой наблюдал за узником, но глаза его оставались хмурыми, взгляд был жёстким и выжидающим. Конечно, он рисковал, до такой степени доверяясь узнику – ведь оружие в любое мгновение могло упереться своим холодным взглядом ему в лицо. И оно упёрлось. Потом дрогнуло и отвело взгляд. И снова посмотрело…
Когда грохнул выстрел, камеру заволокло дымом. Резко и отвратительно завоняло серой. Со стены над плечом смертника посыпались осколки камня, зашуршали на полу.
– Ух ты, – сказал приговорённый, но в глазах его при этом не отразилось ни удивления, ни страха, как и голос не выразил ничего. – Ба-бах.
– Чёрт! – выдохнул начальник тюрьмы сквозь побелевшие губы. – Кажется, мимо. Сосредоточьтесь, господин узник. Второго промаха быть не должно.
– Ничего, ничего, – успокоил толстый начальник. – Ньенте. Там в ящике есть запасные патроны, я позаботился на случай осечки. Просекуир.
– Можно с молоком землянику, – улыбался приговорённый, и улыбка его причиняла узнику невыносимую боль, – с молоком тоже сладко и вкус другой. Мамка нальёт молока с-под коровы с пенкой и жрёшь. Сла-а-адко. У мамки две коровы одну зовут Купава а другую Земляничка или наоборот я не помню которую как. Они под холмами па…
Лицо приговорённого вдруг смазалось, сломалось, брызнуло в стороны, как отражение в воде, по которому шлёпнешь ладонью. Оставив на стене большую, красную с белыми вкраплениями, кляксу, смертник повалился на пол сквозь синеву дыма. Упал, неловко подвернув руку. Заклокотало, забулькало.
– Ага, – деловито произнёс начальник тюрьмы, наклоняясь над телом. – Физио попортили…
– Да ничто, – произнёс за его плечом второй начальник. – Тодо ньенте. Какая ему разница. Всё одно червям на прокорм, а червям плевать на его красоту, лишь бы мясца побольше. Потрошков.
– Палач у нас неопытный, – извиняясь пожал плечами первый. – Ну да ничего, опыт – дело наживное.
– Святая правда. Мы ведь тоже начальниками не родились.
– Тело-то сейчас заберёте или как?
– Если подвода приехала. А нет, так у вас пока полежит, коли не возражаете.
Смысл слов не доходил до узника, который с открытым ртом замер на лежаке. Уши заложило, голоса доносились до него как бормотание далёкого ручья, как копошение клопов под одеялом, слов было совсем не разобрать. Пистолет он по-прежнему держал в руках, опустив его между колен. Острый серный дым въедался в глаза и в мозг, набивался в горло, вызывая тошноту.
Потом заботливая рука начальника тюрьмы мягко высвободила оружие из его рук. Хлопнула крышка ящика. Они, кажется, ещё что-то говорили. Узник смотрел на красную змейку, которая выползала из головы казнённого и, извиваясь, осторожно подкрадывалась к башмаку. Страшно не было – вид у змейки был вполне добродушный, кусаться она, кажется, не собиралась.
Хлопнула дверь камеры, коридор выхватил, втянул в себя, жадно проглотил кусок синеватого дыма, застилавшего всё вокруг. Коричневое окно над головой узника являло своё бессилие. Голоса умолкли.
Несколько минут он сидел, раскачиваясь вперёд-назад, ни о чём не думая и даже, кажется, не переживая.
Потом его внимание привлекли тихий шорох песков времени, скрип камня, едва слышное сосредоточенное дыхание, шаги. Кто-то опустился на лежак рядом. Скосив глаза, узник увидел спокойное лицо ангела.
– Ты… – произнёс он. – Чего пришёл?
– Стреляли, – лаконично отвечал ангел.
– Стреляли? Здесь?
– Ну да.
– А-а, точно. Это я, кажется, убил пожарника.
– Пожарнику уже и памятник давно поставлен.
– Вот как?
– «Заслуженному пожарному наших душ. Да не опалит тебя огонь вечности», – без всякого выражения процитировал ангел эпитафию. – Скамеечку возле памятника уже облюбовали влюблённые для своих встреч. Спрос таков, что скорей всего скамейку вместе с памятником перенесут с кладбища на центральную площадь.
– Надо же…
– Пожарник причислен к сонму почётных граждан посмертно, о его жизни пишут книгу. А ты как? Всё ещё хочешь жить? Или всё ещё не хочешь? Не помню. Впрочем, какая разница… Что-то последнее время я забываться стал. Старею, наверное.
Узник уставился на бледное лицо ангела, на щёки, покрытые двухдневной щетиной, на чёрные с проседью волосы, на усталые глаза, на тонкий нос с едва заметной горбинкой.
– Разницы действительно никакой: хочу, не хочу – живу. А что мне остаётся, – пожал он плечами, отвернувшись и снова уставясь на земляничного цвета змейку, что уютно свернулась у его ног. – Тебе надо бы меньше пить.
Помолчали.
– Ты за телом? – спросил узник через минуту.
– Да. Где оно?
Узник пожал плечами.
– Наверное, подвода приехала. Ты не договорил про фон Лидовица.
– А что про фон Лидовица?
– Прошлый раз ты упомянул, что настоящее имя его никому неизвестно, зато известно кое-что другое. Но что – так и не сказал.
– Да ничего особенного. Что такого может быть известно про человека, которого никогда не было?
– А я – был?
– Не знаю.
– Но тебе что-нибудь про меня известно?
– Ничего.
Ангел поднялся, молча посмотрел на красную лужу там, где лежало тело.
– Он очень любил землянику, – сказал узник. – Быть может, про его жизнь тоже напишут книгу.
– Может быть, – кивнул ангел и направился к стене. – Евангелием больше, евангелием меньше… – бросил он напоследок.
Когда последняя песчинка времени с шорохом скатилась по камням и потерялась где-то в щелях пола, узник вздохнул и вытянулся на лежаке.
Приходила жена надзирателя с ведром воды. Долго шлёпала мокрыми тряпками, отмывая кровь и мозги любителя земляники, монотонно напевая себе под нос какую-то непритязательную кафешантанную песенку из забытой молодости и временами бросая на узника быстрые испытующие взгляды.
– На обед сегодня горох, – сказала она, уходя.
– Наконец-то! – отозвался узник.
Смеясь, покачивая головой над его простоватой шуткой, жена надзирателя ушла.
Тогда узник слез с лежака, встал посреди камеры и долго смотрел на окно, намалёванное под потолком, и прислушивался к нему, словно надеялся услышать шум дождя, поливающего снаружи тюремную крышу, землю, далёкие земляничные холмы и коров, само существование которых, впрочем, никем ещё за всю историю человечества так и не было доказано.
Потом улыбнулся, наклонил голову и бросился на стену. Уже в нескольких сантиметрах от камня – не сумел, поднял голову и принял удар не лбом, а грудью.
Охнул, поперхнулся дыханием, сполз по стене, опустился на пол, бессильно засмеялся, захохотал, хлопая себя по коленям. По щекам его текли слёзы.
Плакал он долго и безутешно, плакал, пока дверь не приоткрылась и в камеру не вошёл сын надзирателя.
– Здравствуйте, господин сын надзирателя, – проговорил узник надломленным голосом, торопливо утирая рукавом глаза.
– Классно ты его уложил, – без всяких предисловий сказал мальчик, усаживаясь рядом. – У него пол-башки всмятку. От портрета вообще ничего не осталось.
– Мне очень жаль, – сокрушённо отозвался узник.
– А чего там жалеть-то? Его давно хотели убрать.
– Убрать?
– Ну да. Он был этот… как его… вольнодумец, во.
– Я не знал.
– А никто не знал.
– О, боже, боже! – воскликнул узник, пряча лицо в ладонях.
– Это случайно вызналось, – продолжал сын надзирателя, не обращая никакого внимания на горе узника. – К ним только намедни новый циркуляр пришёл и там все признаки вольнодумцев были расписаны. Нам тоже пришёл такой. Отец до самой ночи сидел, всё рядил да примерял, похож ты на вольнодумца или не похож.
– И? – робко произнёс узник.
– Ну и вот, – неопределённо отвечал сын надзирателя.
– Так вольнодумец я или нет? – настаивал узник.
– Да кто ж тебя знает, – пожал плечами сын надзирателя.
– Но папенька-то ваш как решил?
– Решил, что там видно будет.
– Ах, вот как…
– Бежать тебе надо, – сын надзирателя по-взрослому взял узника за плечо, встряхнул. – Бежать. Отец твёрдо решил тебя извести, я знаю, я слышал, как он матери говорил: «Не прост этот узник, ох как не прост, надо от него избавляться». А мать его спрашивает: «Как избавляться?» А он: «Как, как… Известно как», и подмигивает.
– Бежать не выйдет, – скорбно покачал головой узник. – Один раз уже не вышло. Выхода нет.
– Есть, – прошептал сын надзирателя, придвигаясь поближе к узнику.
Он уже совсем было собрался изложить свой новый и, кажется, самый верный план побега, но тут дверь открылась и в проёме возникла улыбающаяся фигура начальника тюрьмы. В руке он держал довольно объёмистый свёрток, перетянутый крест-накрест шпагатом. При виде сына надзирателя лицо начальника сурово вытянулось, а мальчик совсем растерялся.
– Что это вы здесь делаете, мой юный друг? – строго вопросил начальник тюрьмы.
– Я по поручению, – быстро нашёлся сын надзирателя с ответом. – Дочь надзирателя послала меня кое-что передать узнику.
– Вот как… – недоверчиво хмыкнул начальник тюрьмы. – Так что же, передал?
– Передал.
– Ну в таком разе и ступай, дружок, ступай.
Сын надзирателя поднялся и под неотрывным взглядом начальника тюрьмы и опасливо его обойдя, скользнул к двери. Исчез в коридоре.
Начальник тюрьмы проводил его недоброй усмешкой, покачал головой и уже с широкой добродушной улыбкой на лице повернулся к узнику, который торопливо пересел с пола на топчан.
– Ох уж это племя младое, – вздохнул начальник тюрьмы с притворной юмористической как бы сговоренностью, как это принято во взрослых упоминаниях о детских проказах, пока сдаётся новая талия в шибер или разливается по следующей рюмке кальвадоса. – Того и жди только, что отчебучит какую-нибудь пакость – письмо на волю вынесет, а то и побег организует. А что за сим воспоследует, того он своим детским умом не разумеет. И каково будет отцу его – сие тоже непостижимо глупому чаду. Ох-ох-ох… Я чай, он вам снова побег предлагал, господин узник? – спросил начальник тюрьмы вдруг после небольшой паузы, в течение которой задумчивый взгляд его наблюдал мимические движения узника.
– Нет, – замотал головой тот, – нет, не предлагал.
– А что же? Подбивал к бунту?
– Нет, что вы, господин начальник тюрьмы!
– Да что, с него станется, бывало уже такое, уже пострадал кое-кто через свою излишнюю доверчивость к детским выдумкам. А впрочем, я не о том пришёл с вами говорить, господин узник, – перешёл начальник тюрьмы к делу. – Я с вами вот об этом пришёл говорить, – улыбнулся он, приподнимая свёрток так, чтобы узник мог хорошенько его рассмотреть. Хотя рассматривать там особо нечего было – что-то завёрнутое в серую, хрусткую упаковочную бумагу, довольно объёмистое. Узник молча ждал продолжения.
Начальник тюрьмы подошёл к столу, водрузил на него свёрток и, любовно на него поглядывая, погладил шершавую бумагу.
– Это вы правильно сделали, что не согласились на побег, – сказал он, не отрывая взгляда от свёртка. – Подвёл бы вас мальчонка этими побегами под расстрельную статью. А палача-то у нас нет, сами знаете. Пришлось бы вам опять в рулетку играть самому с собой, хе-хе, помните, как тогда, с пожарником было? Когда патрончики-то я так удачно рассчитал, помните? Только уж в этот раз всё было бы по-честному, уж вы бы не проиграли-с. Так что это очень хорошо, что не согласились вы на побег.
– Да он не предлагал, – попытался узник оправдать мальчика, но начальник тюрьмы не обратил на его возражение никакого внимания – для него вопрос виновности сына надзирателя был, кажется, решён окончательно. И узник с тревогой думал о том, какое наказание постигнет несчастного ребёнка.
– Вы, господин узник, поймите одно, – продолжал меж тем начальник тюрьмы, – вы, пожалуйста, одно усвойте для себя окончательно: побег – это фикция, нонсенс, это ничто, это смерть. Понимаете? Нет-нет, я не в метафизическом смысле, я – в самом что ни на есть прямом. Если бы вы внимательно читали господина фон Лидовица (при этих словах начальник тюрьмы коснулся груди в том месте, где подобно ладанке висел у него заветный зуб), вы бы непременно обратили внимание на то место, где он, со свойственной ему дальнозоркой мудростью, рассуждает о побеге. Может быть, вспомните: убегая, оглянись назад и убедись, что тебя догоняет хоть кто-нибудь, кроме твоей собственной тени, иначе твой побег не имеет смысла, поскольку не будучи преследуемым, ты убегаешь лишь от самого себя, или от своей тени, что зачастую одно и то же, а затея эта, как нетрудно догадаться, бессмысленна настолько же, насколько и бесперспективна, ибо убежать от себя невозможно, если только не совершить побег в смерть – истина бесконечно изношенная неустанным многоустным повторением, однако столь же бесконечно проверяемая сонмами и сонмами глупцов. Отсюда: прежде чем бежать, озаботься наличием тех, кто станет тебя преследовать, дабы не быть тебе мучимым ощущением собственной ненужности, коя зачастую равновесна уже свершившейся смерти.
Начальник тюрьмы, со значением поглядел на узника, пожевал и почмокал губами, словно смакуя каждое слово произнесённой цитаты.
– Вот так-то, господин узник, – завершил он свой философский экскурс. – Умные люди учатся на чужих ошибках, и лишь дураки – на собственных.
Узник изобразил на лице глубочайшее раскаяние и переосмысление совершённых ошибок. Насладившись этим его выражением, начальник тюрьмы удовлетворённо кивнул и снова обратил взгляд к свёртку, ожидавшему на столе.
– Вот, – он торжественно развязал свёрток, извлёк и возложил на тумбочку чистую и, видимо, свежевыглаженную униформу надзирателя.
– Что это? – спросил узник, недоумённо глядя на китель.
– Как начальник тюрьмы, я назначаю вас надзирателем, – не без помпы произнёс начальник тюрьмы.
– Надзирателем? Меня?
– Да. Вы довольны оказанной честью?
– Но… как же?.. Я ведь узник. Палач.
– Отныне вы – надзиратель.
– Право, я в растерянности, – пробормотал узник, действительно, кажется, уничтоженный новостью.
– Понимаю, – с добродушной улыбкой кивнул начальник тюрьмы. – Понимаю и не нахожу ничего удивительного в вашей растерянности, напротив – я был бы удивлён, не встретив таковой.
– Но постойте, господин начальник тюрьмы, постойте… Нет, так не бывает, я не…
– Понимаю, понимаю, – покивал начальник тюрьмы. – Вы не верите, не в состоянии осмыслить, неспособны постигнуть, ожидаете подвоха… Напрасно, господин узник. То есть, господин надзиратель.
– А как же узник? – ухватился за эту оговорку узник. – Кто будет узником? За кем я буду надзирать?
– О, за это не переживайте, господин узник… то есть, господин надзиратель, – улыбнулся начальник тюрьмы. – Был бы надзиратель, а узник всегда найдётся. Мало, что ли, тюрем у нас, где можно при желании залучить себе узника. Да и вообще, как говорится, от тюрьмы да от сумы… Примите во внимание к тому же, что ещё месяц назад я получил указ о вашем помиловании. Судебная ошибка, оказывается, случилась, так что вы совершенно напрасно отбываете.
– Помилование? – оторопел узник. – Месяц на…
Потеряв, кажется дар речи, он удивлённо уставился на начальника тюрьмы.
– Месяц или около того, – замялся начальник тюрьмы.
– Но как же?.. – оторопел узник и даже привстал, упираясь в начальника растерянным до бессмысленности взором.
– Понимаю, понимаю ваше негодование, господин узник, – похлопал его по плечу начальник, незаметно принуждая усесться обратно. – Но сами ведь знаете: бюрократия, она такая бюрократия – пока от головы до ног дойдёт, как говорится, пока левая рука постигнет, что делает правая… Ну-с, к делу: вы готовы взять в руки надзирательскую палку? Готовы к блеску кокарды?
– Всё это… так внезапно, – с усилием проговорил узник. – У меня голова кругом идёт. О боже, боже!
– Не забывайте к тому же ещё и о том, что вы теперь мужчина почти семейный, обременённый, как говорится, определённым кругом обязанностей, что вы, как безусловно честный человек, обязаны жениться на дочери господина надзирателя. Как вы думаете содержать жену? А там, как водится, пойдут дети…
– Да… Да…
– Поэтому отказ от предложенной вам должности видится невозможным, ведь так?
– Да, вы очень точно выразились, господин начальник. Совершенно невозможным.
– Можете называть меня просто «шеф». Не всегда, конечно, а в особо доверительных случаях, которые несомненно будут возникать у нас в процессе совместной службы. Вам нужно будет научиться чувствовать такие моменты.
– О, господин начальник, это честь для меня…
– Безусловно. Ну-с, большое жалованье я вам положить не могу, сами понимаете плачевное положение нашего исправительного заведения. Небольшое содержание плюс комната и стол – всё, что обещаю на первых порах. А там уж как покажете себя, а уж вы-то покажете, я не сомневаюсь. И да, господин узник, господин надзиратель, попрошу вас не забывать о полном титуловании.
– Так точно, господин начальник тюрьмы.
– Вот и хорошо. С завтрашнего дня приступайте к исполнению обязанностей.
После того как начальник тюрьмы удалился, поздравив его с новыми перспективами, узник долго то смеялся, то плакал. Потом лёг на топчан, подложил под голову фон Лидовица и закрыл глаза.
«Помилован… – беззвучно произносили его губы. – Помилован… Помилован…»
И потом, уже на грани сна: «Значит, я не преступник?.. Не преступник?.. Нет?..»
Узник спал.
На улице шёл дождь, и лёгкая морось залетала с ветром в окно, а иногда и крупная капля падала на грязную робу узника и медленно стекала, не в силах впитаться в эту грубую ткань, навощённую многомесячной грязью.
Краем сознания надзиратель понимал, что дождь ему только снится. Как, впрочем, и спящий под окном узник. Его будущий узник. И поэтому лица узника надзиратель разглядеть не мог.
№∞
«Помилован», – было первой мыслью по пробуждении – «Помилован!»
Взгляд его сразу обратился к столу, чтобы увериться, что давешнее посещение начальника не было сном. И оно, кажется, не было – новенький китель всё так же синел на столе, поблёскивала в тусклом свете кокарда на фуражке, сияли начищенные пуговицы.
Узник сполз с лежака, подошёл к столу и, затаив дыхание, долго рассматривал обмундирование, словно боялся, что он ему снится и вот сейчас сновидение рассеется, как дым. Потом наспех умылся. Сбросил с себя робу, чтобы примерить китель. Униформа сидела справно, словно была сшита аккурат по мерке. Жаль, не было в камере зеркала, чтобы осмотреть себя с надлежащим тщанием.
Сунув руки в карманы, в одном из них он нащупал сложенный лист бумаги. Достал и развернул. На мятом листке в клеточку, вырванном, из ученической тетради сына начальника тюрьмы, неловко теснились дрожащие строки его жалобы. Испытывая мучительное чувство стыда за недавние столь неблаговидные движения своей души, невольно краснея, он торопливо перечитал письмо и с дрожащей поспешностью изорвал его в мелкие клочки, которые тут же забросил под топчан, с глаз долой. Душа его преисполнилась чувства бесконечной благодарности начальнику тюрьмы, который так деликатно вернул ему позорящий его листок, так тонко дал понять, что не намерен давать делу ход, что он доверяет узнику окончательно. «О боже, боже, – бормотал узник, – спасибо, что ниспослал ты мне человека сего!»
Бормоча так, он стянул с себя заскорузлые от грязи штаны, стесняясь несвежего исподнего, надел форменные брюки. Подпоясался широким ремнём. Натянул фуражку, стараясь придать ей по возможности строгую посадку. Обулся в чёрные кирзовые ботинки.
В голове вызрела мысль: «А ведь я свободен теперь!» Взбудораженный этой мыслью он метнулся к двери, толкнул её. Но нет, засов с той стороны был заложен. «Не время ещё», – тут же покорно смирился он.
В нетерпении, прищёлкивая на каждый шаг пальцами, принялся молодцевато вышагивать по камере, выправляя походку, стараясь избавить её от былой обречённости, вялой покорности, страха и придать ей новые ритм, размах, скорость, чёткость, независимость. Держать осанку. Взгляд ровный, целеустремлённый, спокойно оценивающий. Вот так, да. Плечи, плечи расправить. Ах, как пахнет униформа, как сладко веет гуталином от новеньких ботинок, как трёт жёсткий воротничок!
«Да, – думал он, шагая, – конечно, пока нет узника, я не могу быть свободен. Камера не может пустовать – никогда… Это была бы бессмыслица какая-то, неслыханный абсурд, да, разумеется… Задержка только в недостаче узника. Ничего, ничего, господин начальник тюрьмы что-нибудь придумает, я уверен».
Словно отвечая его мыслям, загремел с той стороны засов и дверь камеры распахнулась. Внутрь ступил начальник тюрьмы – выспавшийся, подтянутый, бодрый, с неизменной добродушной улыбкой на лице.
– Ого, господин надзиратель! – весело произнёс он, довольно оглядывая узника. – Да вы, я смотрю, уже совершенно готовы к исполнению новых должностных обязанностей. Похвально-с!
Узник смутился, скромно потупился, закраснелся. А начальник тюрьмы ободряюще продолжал:
– Ну, ну, не тушуйтесь, господин надзиратель! Мне нравится ваша мобильность, ваша такая лёгкость на подъём: вчера узник, сегодня палач, завтра надзиратель, всё очень быстро, беспрекословно, с полной готовностью и самоотдачей. Вижу, господин надзиратель, вижу, что я не ошибся в вас, не прогадал: наш штат пополняет отличная, так сказать, единица, да. Уместно будет упомянуть, господин надзиратель, что оклад будет начисляться вам как раз с сегодняшнего дня.
– Спасибо, господин начальник тюрьмы!
– Можно было сказать просто: спасибо, шеф. Сейчас имел место как раз один из таких моментов – помните, я говорил вам? – которые вы должны научиться чувствовать.
– Я научусь, – порывисто ответил узник. – Я обязательно научусь!
– Постарайтесь, – кивнул начальник тюрьмы. – Это немало поспособствует вашему продвижению по службе. Кстати, а где ваш фон Лидовиц? – вдруг как бы между делом спросил он.
– Мой фон Лидовиц? – не понял надзиратель.
– «Размышления о пустоте» я имею в виду, – улыбнулся начальник тюрьмы. – Книжка такая у вас была, помните?
– Ах, это… – надзиратель подошёл к лежаку, поднял томик, который использовал вместо подушки, протянул начальнику тюрьмы.
Тот взял книгу, с задумчивой улыбкой полистал, долго и сосредоточенно разглядывал страницы пустоты, словно читал или прислушивался к немым и незримым строкам. Потом вдруг одним быстрым движением переломил книгу пополам, дёрнул, с треском разрывая корешок. Надзиратель охнул, выпучил глаза на происходящее и почему-то задрожал – то ли в жутком страхе от свершившегося у него на глазах святотатства, то ли в предчувствии того, что следующей в очереди на разрыв будет его душа.
Начальник тюрьмы меж тем быстро и уверенно разодрал книгу на несколько тетрадок и отдельных листов, скомкал, сложил их кучкой на полу, присел, достал из кармана спички. Фыркнула и пыхнула серой одна. Занялся от жёлтого пламени верхний скомканный листок. Поначалу неуверенный, огонёк быстро оживился, метнулся, заплясал, пожирая строки, сжигая мысли, превращая их в серые и синеватые завихрения удушливо-острого дыма. Узник отметил для себя, что горящие мысли великого философа воняют ничуть не лучше любого брошенного в огонь бульварного романчика. «Вот она, тщета мысли человеческой!» – подумал он.
Книга горела долго и дымно. Затхлый коридор не мог втянуть в себя через открытую дверь весь чад, поэтому надзиратель и начальник тюрьмы заливисто кашляли, зажимали рот и взмахами рук пытались хоть как-то разогнать повисшие в тусклом воздухе камеры едкие останки мыслей великого философа.
Через несколько минут на полу оставалась лишь кучка чёрных, пожухлых и свернувшихся трупов, которые ещё тлели, испуская зловоние, и которые начальник тюрьмы двумя уверенными движениями ноги растоптал, превращая в лепёшку пепла.
– Вот же странно, – улыбнулся он, затоптав последнее слабое дыхание огня. – Казалось бы, пустота, а пепел – оставляет. Ну какой пепел от пустоты, скажите на милость? А вот поди ж ты… Странно и грустно, – поник он взглядом. – Никогда не сжигайте пустоту, господин надзиратель.
– Да, – кивнул бывший узник. – Да, вы правы, это очень печально.
– Грустно, – продолжал начальник тюрьмы, словно не слыша. – С каждой сожжённой книгой что-то уходит из этого мира, что-то он теряет – незаметное, быть может, но оттого не менее важное. Так же и с каждым человеком, покидающим сей бренный мир… Да, грустно. Ведь с этого момента в нашей жизни уже никогда не будет чего-то – чего-то, может быть, важного, красивого, очень нужного, но нелепой игрой судьбы обращённого в пепел. Мы лишились его, оно невозвратно утрачено, а нам и невдомёк.
– Какие грустные вещи вы говорите, господин начальник тюрьмы! – воскликнул надзиратель. – У меня мороз по коже.
– Надеюсь, это был не последний экземпляр великой книги.
– Да, – кивнул надзиратель. И неуверенно вопросил: – Но… но я не понимаю, зачем вы… Зачем?
Начальник тюрьмы словно не слышал его робкого вопроса. Он смотрел на кучку пепла, ворошил его носком ботинка и сосредоточенно думал о чём-то своём.
– Знаете, – произнёс он через минуту, – знаете, господин надзиратель, в одну из наших долгих бесед профессор сказал мне: если когда-нибудь, юный друг, вы захотите сжечь мою книгу, не отказывайте себе в удовольствии. А вы непременно захотите, потому что пустота противна природе этого мира, она всегда стремится быть заполненной – как детская память, торопливо вбирающая в себя любое малозначительное происшествие, как девственное лоно, жаждущее наполнения мужским жизнетворным соком, как хладная камера, тоскующая по своему узнику…