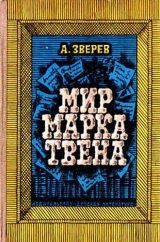
Текст книги "Мир Марка Твена"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
В США еще и через много лет после появления повести о Геке предпринимались попытки скрыть ее от тех, кому она прежде всего адресована, – от подростков. Какой-то духовный пастырь с пеной у рта доказывал, что книга кощунственна уже по той причине, что на плоту Гек и Джим разгуливают в костюмах Адама, а Гек к тому же «обладает отвратительной способностью распознавать запах дохлых кошек». Педагоги из города Омахи сочли, что Гек внушает своим ровесникам «вредные идеи». А в Нью-Йорке школьный совет исключил книгу Твена из числа произведений, рекомендуемых по программе изучения литературы. Причем было это сравнительно недавно – в 1957 году.
Как бы посмеялся Гек над своими хулителями, пекущимися о приличиях и нравственности! Ему незачем было бы вступать с ними в спор – читатели во всем мире, не обращая внимания на запреты и предостережения высокоморальных борцов за «истинную культуру», приняли повесть безоговорочно и полюбили ее героя навсегда. Иначе и не могло быть. Потому что «Гек Финн» – это сама правда. А в искусстве правда решает все.
Твен отдал своему персонажу не только мысли о сущности человека, которыми он особенно дорожил. Он отдал Геку и многие самые яркие впечатления, накопленные в те годы, когда лоцман Клеменс водил суда по Миссисипи. Нам могут показаться невероятными те или иные события, которые доведется наблюдать Геку, мы можем счесть всего лишь условными масками, обычными в юмористике, такие фигуры, как те же король и герцог, спорящие, кому спать на соломенном матрасе, а кому – на тюфяке, набитом жесткими маисовыми кочерыжками. Но на самом деле и эти события, и эти люди появились в книге Твена вовсе не по его прихоти.
Жизнь, о которой он писал, была и впрямь причудливой, полной самых диковинных явлений – как в невеселой сказке или в скверном сне. Трудно, к примеру, поверить, что на Юге старого времени действительно происходили родовые распри, вызывавшие самую настоящую войну – до полного истребления того или другого семейства. Но они были вполне обычны и в Кентукки, и в Теннесси, и в Арканзасе – местах, куда занесет судьба Гека и Джима.
Дуэли тогда вообще были приняты, и Твен обычно их описывал юмористически. Но в «Геке Финне», повествуя о Грэнджерфордах и их врагах Шепердсонах, он отказался от гротеска, создав один из самых грустных, даже трагических рассказов, какие можно найти во всем его творчестве. Сюжет этого эпизода сразу же напоминает самую печальную повесть на свете – историю Ромео и Джульетты из великой шекспировской пьесы. Впрочем, даже и без этой параллели тягостное чувство оставляют страницы, где появляются радушные и обходительные южане Грэнджерфорды, которые у себя дома живут, словно в осажденной крепости, и охотятся на Шепердсонов, как будто всеми забытую ссору нельзя уладить иначе, чем кровью. Сверстник Гека Бак и его брат, тоже совсем мальчишка, станут жертвами в этой бессмысленной и жестокой бойне, и как не понять чувства героя Твена, которому делается нехорошо, едва он вспомнит два мертвых тела на мокром прибрежном песке. Гек успокоится лишь после того, как плот, выйдя на середину реки, начнет быстро отдаляться от этих проклятых мест. А в памяти читателя останется скупо и точно написанная картина того страшного дня. И она заставит совсем по-новому посмотреть на американское захолустье, еще недавно казавшееся Твену счастливым уголком.
Нас позабавят ловкие проделки герцога и короля, которые несли со сцены чепуху, выдавая ее за творения Шекспира, а самих себя – за давным-давно умерших знаменитых лондонских актеров Гаррика и Кина. Мы, конечно, никогда не поверим, чтобы публика, пусть и самая невежественная, соблазнилась зрелищем вислоухого старого пройдохи в седых бакенбардах, изображающего юную и прелестную Джульетту, и потасканного шулера в роли пылкого и нежного Ромео.
Неправдоподобно? Но вот что пишет о театре поры своей юности Твен в «Жизни на Миссисипи». Гастролировавшая английская труппа играла «Гамлета», зал почти пустовал. День спустя сыграли пародию на «Гамлета», безвкусную и грубую, – никто из пришедших не заметил, что играют не Шекспира, а фарс. Дамы, краем уха слышавшие, что Шекспир пробуждает возвышенные чувства, выплакали глаза, пока рычащая Офелия гренадерского роста швыряла в Гамлета морковью и репой. Трудно представить себе американскую провинцию времен Твена без таких вот развлечений, без таких «художественных» запросов.
Да и без самих короля и герцога. Считается, что это лучшая комедийная пара во всей американской литературе. Скорее всего, так и есть. Только неверно думать, будто перед нами персонажи, которых Твен просто выдумал. Нет, и король, и герцог – проходимцы, каких немало встречалось Твену и в годы лоцманства, и потом на Дальнем Западе. Это типичные «джентльмены-авантюристы», валом валившие в Америку со всего света и мыкавшиеся по ее городам и весям в поисках быстрой наживы. Судьба их была жалкой. Рано или поздно очередная затея проваливалась, и разгневанные жители прокатывали непрошеных гостей на шесте, вываляв их в смоле и куриных перьях.
«Герцога» Твен хорошо знал в Вирджиния-Сити. Это был печатник из типографии, горький пьяница, рассказывавший давно всем надоевшую повесть о своих предках, якобы обманом лишенных дворянского звания и нищенствовавших в Нью-Йорке. Да ведь и миссис Клеменс, мать писателя, не раз заводила разговоры про то, что ведет свой род от графов Дэремов, хотя кому было до этого дело в Ганнибале! А дядя Джеймс Лэмптон, устраивавший у себя дома парадные обеды, на которых подавались изысканные блюда из репы, больше всего любил потолковать про знатность своего происхождения, и ничего не стоило угодить старому чудаку, оказав внешние знаки почтения к его сановности.
Самозваных королей тоже отыскалось бы в американской глубинке немало – целая династия. И все это были сыновья Людовика XVI. Единственный его настоящий сын после французской революции 1789 года умер в заточении десятилетним мальчиком. Но тут же пошла в ход легенда, будто на самом деле он сбежал в Америку и скрывается, дожидаясь своего часа. На французском троне уже давно сидел новый король, причем не первый за послереволюционные годы. Но американские провинциалы не слишком разбирались в истории да и в европейских делах. И легко было их морочить, распуская небылицы про «несчастного дофина», натерпевшегося от безбожников-санкюлотов и от интриг соперников.
Твен не был бы великим художником, если бы он попросту осмеял этих мнимых самодержцев и претендентов на звучные аристократические имена. И король, и герцог – это изгои, оказавшиеся на самом дне. В конечном итоге они обречены разделить судьбу тех, кому нет доступа в «приличное общество».
Существеннее другое: герцог и король – тоже бродяги, свободные, как Гек Финн, и, как он, не ведающие стеснительных оков сытого и благополучного оседлого житья. А значит, суть дела вовсе не в том, чтобы избавиться из-под опеки вдовы Дуглас и очутиться на приволье, хотя, например, Тому Сойеру ничего больше и не нужно. Нет, суть в том, чтобы жить по справедливости, потому что и у вдовы, и на плоту можно проявить себя добрым и смелым, а можно – бесчестным и трусливым. Решают не внешние обстоятельства, решает человеческое сердце, которое не должно оставаться глухим к неправде, к чужой беде, ко злу.
«Будь у меня собака, такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил, – признается Гек. – Места она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого». Что же, его можно понять. Он ведь еще очень юн, и ему непривычно видеть эту циничную жестокость, это лицемерие, этот холодный дух пренебрежения простой нравственной правдой. А все это он наблюдает на каждом шагу. И когда непрошеные спутники на плоту пытаются обобрать сирот. И когда их самих подвергает варварской расправе толпа. И когда оскорбившийся плантатор недрогнувшей рукой убивает подгулявшего фермера Богса (вот где пригодились детские воспоминания о том, как погиб на улице Ганнибала безвредный горлопан Смар). И когда Гек просто бродит по какому-нибудь Пайксвиллу, где свиньи хрюкают в грязи по щиколотку, и дерутся собаки, и, засунув руки в карманы штанов, лениво переругиваются томящиеся от непроходимой скуки парни, а иногда – то-то смеху! – намазывают бездомного пса скипидаром и поджигают или привязывают ему на хвост жестянку, чтобы он носился, пока не околеет.
Да только что поделаешь, таким уж устроила Гека природа, что его всегда будет тревожить совесть и слушаться он будет лишь ее голоса. А этот голос повелит ему, отбросив сомнения и предрассудки, помогать Джиму, что бы по данному поводу ни сказали ревнители закона и порядка из Пайксвилла или из Санкт-Петербурга. Он повелит Геку во всем полагаться на собственное разумение и собственное чувство, а не на чужие понятия и нормы. И безошибочным чутьем прирожденного поэта Гек Финн ощутит, что есть какой-то непреодолимый разлад между вольной стихией жизни, открывшейся ему на могучей реке, и тем убожеством, той приниженностью и пошлостью, которую он повсюду видел, причаливая к берегу и соприкасаясь с сереньким мирком людей, населяющих эти невзрачные поселки и городки.
С этим убожеством, с духовной спячкой и омертвением он никогда не сможет смириться, никогда не распрощается со своим убеждением, что жизнь должна быть совсем другой – свободной, яркой, человечной, такой, какой жили они с Джимом, пока оставались наедине друг с другом и с речным бесконечным простором.
Поэтому-то он непременно удерет от приветливой и славной тети Салли – куда угодно, ну пускай на индейскую территорию, раз уж она так влечет Тома Сойера. И снова Гек примется искать такое место, где человеку можно всегда поступать в согласии со своими лучшими побуждениями и со своей совестью, быть свободным и не уродовать себя смирением перед нелепыми и жестокими порядками. И это не игра. Это очень серьезно.
Трудно будет ему в Америке отыскать то приволье, о котором он мечтает. И все-таки пусть он его ищет. Без этого не могут ни Гек, ни Том. Ни их бесчисленные последователи – в литературе и в самой жизни.
Свет истории


Первые главы «Гека Финна» появились в конце 1884 года в популярном журнале «Сенчури». Читатели, радуясь возвращению своих любимых героев, настроились вдосталь посмеяться. Новая книга Твена их несколько разочаровала. Она была не такая забавная, как повесть о Томе Сойере. И затрагивала неприятные стороны жизни, о которых многим не хотелось серьезно задумываться. Ведь Твена в ту пору считали просто беззаботным балагуром и весельчаком. Эта легенда укоренилась настолько, что возникали курьезные ситуации. Как-то устроили чтение Твена в городке Утика. Он вышел на сцену, достал рукопись, но так и не смог приступить к делу. Едва завидя его, слушатели начали хохотать. На секунду переводили дух, аплодировали и снова смеялись до слез. А читать он собирался из «Гека Финна», о Грэнджерфордах и Шепердсонах, перестрелявших друг друга.
В конце концов он начал сердиться, когда его называли юмористом. «Юмор? – писал Твен одному из друзей. – Ну конечно, у меня юмор. И такой, что вполне подойдет для молитвы по усопшему. Никто даже не заметит, что тон ее не совсем уместен».
Необходимость чтения со сцены порой выводила его из себя. «Послушайте, это же унизительно. С какой стати я должен выглядеть идиотом? Что за мерзость! Не могу больше этого выносить».
Не мог, а приходилось. Нельзя было просто отказаться от тех же чтений – тогда публика начала бы быстро забывать Твена, чего он тоже не мог допустить.
И кроме того, на нем лежали заботы о семье. Вкусы Оливии Клеменс было не так-то просто удовлетворить. Выросшая среди роскоши, она не привыкла ни в чем себя ограничивать. Да и престиж в хартфордском обществе был для нее исключительно важен. Прошли времена, когда Твен разгуливал в куртке из тюленьего меха и дешевом галстуке, лихо повязанном на крепкой, загорелой шее. Теперь он был признанный литератор, к тому же владелец замысловато выстроенного особняка с башенками, галереями и фонтаном во внутреннем дворике. За домом тянулся сад, спускавшийся к берегу речки, именовавшейся Французским ручьем. В народе ее называли попроще – Свиной брод.
Этот дом бесконечно перестраивали, усовершенствовали, украшали, пока не выяснилось, что на банковском счету Твена осталось всего каких-то сто долларов, «о которых, к счастью, еще не пронюхал подрядчик». Удрученный этим открытием, он признавался сестре, что искренне желал, бы пожара, который избавит его от кабалы непосильных расходов. Он, наверное, пошутил. А может быть, и нет.
Правда, ни несчастным, ни обездоленным он себя не чувствовал. Детей – Сюзи, Клару, Джин – он любил без памяти. И отношения с Ливи оставались самыми нежными, хоть Твена и смешила и раздражала старательность, с какой жена выискивала не вполне благозвучные выражения и чуточку крамольные мысли в каждой строчке, выходившей из-под его пера.
А все-таки семейная жизнь оказалась вовсе не такой, какой ему хотелось. Покоя и сосредоточенности, столь необходимых писателю, Твен не знал. И если бы не дочери, его не влекло бы домой так сильно. Там «всегда пахло святостью, отчего-то издающей точно тот же аромат, что и деньги».
Спасением от непрекращающейся суеты была Элмайра – это загородное поместье дали в приданое за Ливи. Здесь, в большом и удобном доме с видом на лесистые долины и сверкающие под солнцем ручьи, в которых ловили форель, Твен завершил «Тома Сойера». Здесь он создал свою книгу «Жизнь на Миссисипи» – последнюю перед «Геком». Да и лучшие главы самого «Гека» тоже написаны в Элмайре.
И здесь в 1882 году он писал повесть «Принц и нищий», где действие – впервые у Твена – разворачивается в очень давние времена: перед нами Англия середины XVI века.
Сюда, в Элмайру, приезжали лишь старые, испытанные друзья, и всех их поражали энергия Твена, его молодой задор, возбужденная речь и блеск в глазах, как только принималось решение прокатиться на лодке до дальнего плеса или устроить поход за перепелиными яйцами. В Элмайре, неразлучный с дочерьми, он точно бы снова становился Сэмом Клеменсом из Ганнибала. Он жил так, как, наверное, и должен был бы жить всегда. Хоуэлс, побывав в Элмайре, говаривал, когда его спрашивали о Твене: «Там он у себя дома, этот вечный подросток, – сердце мальчишки и голова мудреца».
В 1880 году, за год до рождения Джин, он написал в Элмайре «Пешком по Европе», напомнив своим читателям, что начинал с «Простаков за границей». Между двумя этими книгами, разделенными целым десятилетием, много общего. Твен ездил в Европу летом 1878 года вместе с другом, хартфордским священником Джозефом Твичелом, которого он изобразил в своих очерках под именем Гарриса – такого же американского простака, такого же неудачливого туриста, как пассажиры «Квакер-Сити» и как сам автор. Несколько месяцев они прожили, переезжая с места на место, в Германии, а в августе перебрались в Швейцарию и через альпийские перевалы на своих двоих тронулись к итальянским озерам.
Перед поездкой Твен просмотрел несколько книжек путевых очерков и с десяток справочников для туристов – это помогло найти нужную интонацию. Она была пародийной. Авторы очерков восхищались красотами Рейна и Монблана, а путеводители нахваливали уют швейцарских гостиниц и прелести немецкой кухни. Твен решил изобразить себя и Гарриса американскими недотепами, которые с доверчивостью следуют советам, вычитанным из книг, и всей душой жаждут поскорее добраться до старинных замков и горных пиков, окруженных романтическими преданиями.
За свои денежки они желают получить полную порцию европейских чудес природы и памятников культуры, но проверка делом показывает, что восторгаться-то нечем. На альпийских лугах черным-черно от восходителей – вместо поэтического уединения настоящий базар. А памятники, предания, легенды путаются в голове, так что выходит полная нелепость. Да и кормят отвратительно, а гостиницы старые и запущенные. Нет, за культурой нашим туристам не угнаться, лучше уж они останутся простачками американцами со своими немудреными понятиями.
Читатели «Простаков за границей» хорошо помнили эту твеновскую маску. Она пригодилась и в книге «Пешком по Европе». Пешком? А не лучше ли сесть в поезд, благо скорость все равно черепашья – три мили в час. А на Монблан можно и в подзорную трубу полюбоваться…
Правда, Твен счел, что хоть на одну вершину в Альпах он должен подняться обязательно, и снарядил экспедицию, в которую, кроме него и Гарриса, входили семнадцать проводников, три капеллана, два геодезиста, ветеринар, шеф-повар со штатом помощников, три прачки, две доярки и учитель латыни. Всех их, а также мулов, коров и носильщиков сразу же по выходе из отеля Твен прямо на площади связал веревкой, потому что в горах так полагается. Запаслись складными лестницами, ледорубами, нитроглицерином и сотней пар костылей, которые вскоре пригодились: мул проявил неуместное любопытство к ящику с взрывчаткой, лягнув его копытом, что привело к исчезновению самой знаменитой из местных скал и некоторому ущербу для личного состава доблестного альпинистского отряда.
Разумеется, отряд быстро сбился с тропы. Проводника послали на разведку, обвязав тросом и велев дать сигнал, когда он отыщет дорогу. Часа через два трос вдруг бешено задергался. Все повскакали с мест как полоумные и бросились бежать что было сил. Так бегали до самого вечера, пока не очутились перед той самой гостиницей, из которой тронулись в путь. И что же оказалось? Во всем был виноват этот проклятый гид. Повстречав на выгоне отставшего от отары барана, шельма проводник привязал трос ему к хвосту и преспокойно отправился к себе в деревню. А потревоженный баран долго носился по оврагам и впадинам, таща за собой на тросе всю компанию, пока не уперся лбом в свой хлев.
Читатели веселились: гротеск и небылица в руках Твена все то же безотказное оружие. Мимоходом оно могло задеть и простака американца: светского хлыща, похваляющегося шапочным знакомством с титулованными европейскими фамилиями, или находчивого предпринимателя, который на постаменте памятника поэту Фридриху Шиллеру намалевал рекламу изготовляемой им мази для полировки печей. Но по большей части твеновский юмор был нацелен на порядки и нравы Европы. По-прежнему Твену казалось, что его родина на голову выше этих одряхлевших монархий, как бы они ни похвалялись своим былым величием. И он, как десять лет назад, не щадил претенциозное и надутое – так ему казалось – европейское самолюбие.
Но вслед за этими комическими очерками были созданы «Приключения Гекльберри Финна».
А после «Гека» уже невозможно было писать так, как Твен писал до этой своей лучшей книги.
И оттого «Пешком по Европе» окажется последним твеновским произведением, в котором юмор облегчен и не предполагает особенно серьезных творческих задач, – важнее, чтобы рассказ все время смешил. Талант Твена останется тем же самым: комедийным, юмористическим. Но сущность юмора изменится. Он сделается и сдержаннее, и глубже. Все чаще он теперь будет впрямую соприкасаться с трудными и невеселыми размышлениями о том, что же все-таки представляет собой человек, и общество, в котором он живет, и опыт, который им накоплен за долгие века истории.
История, ее смысл, ее уроки интересовали Твена особенно сильно. И неудивительно, что все эти размышления заполняют страницы «Принца и нищего».
Никогда прежде Твен не обращался к исторический прозе. Но «Принца и нищего» он писал для своих дочерей и хотел поговорить с ними о самом главном – о том, каким создала человека природа и как меняют его природу условности и нелепости, несправедливости и жестокости, с которыми каждый сталкивается, вступая во взрослую жизнь. Он создавал философскую сказку. История была для него материалом гораздо более богатым, чем современность.
Но тут же возникали свои трудности. В историческом жанре существует собственная традиция и есть собственные корифеи – ими в ту пору, да и позднее, оставались Вальтер Скотт и Фенимор Купер. Прежде всего Скотт. Купера мы сегодня тоже считаем историческим романистом, но для своих первых читателей он был вполне злободневен: ведь события, о которых он пишет, – это война Америки за независимость, ранние годы фронтира, иначе говоря, время, еще очень близкое к тому, когда жил сам автор «Следопыта», «Прерии», «Последнего из могикан». А Скотт описывал действительно далекую эпоху – средневековье, крестовые походы, борьбу Шотландии против англичан, подвиги рыцарей и героев-простолюдинов.
Но между шотландским бардом и создателем Кожаного Чулка при всем том есть много общего. Оба они любили изображать людей сильных и независимых, выводя на сцену персонажей, имевших только отдаленное сходство с реальными историческими лицами и, скорее, воплощающих романтический идеал личности. Оба обладали способностью передать не просто колорит, а самую суть описываемой эпохи, и поэтому их так высоко ценили современники, к примеру Белинский, отзывавшийся и о Скотте, и о Купере с глубочайшим уважением. Оба больше всех других сделали для того, чтобы исторический роман из развлекательного чтения стал настоящей литературой.
Только неверно было думать, будто никто уже не сможет написать об истории иначе, чем Скотт и Купер. Между тем именно так и считалось. Подражали им обоим просто рабски, Скотту в особенности. И Твена эти бездарные копии раздражали так сильно, что он переставал замечать достоинства и в самом оригинале – в «Айвенго» или в «Роб Рое» и «Квентине Дорварде».
Конечно, он был неправ, когда с такой пристрастностью судил о своих предшественниках, создавших исторический роман как полноценный литературный жанр. Суть дела заключалась не в том, что Твен не принимал Вальтера Скотта. Это реалистическая школа не принимала романтическую. Такое в истории литературы случается постоянно. Романтики тоже отвергали тех, кому шли на смену, – классицистов да и просветителей. И были точно так же несправедливы, как Твен по отношению к ним самим.
С дистанции времени хорошо видно, что каждое крупное явление в искусстве необходимо, чтобы сложилась плодотворная традиция и возникла органичная преемственность. Но ведь дистанция эта должна возникнуть. А пока ее нет, кажется, будто ближайшие предшественники писали совсем не так, как нужно. И с ними спорят куда яростнее, чем с писателями, которые творили давно.
Вот потому-то столько ядовитых стрел выпустил Твен в Вальтера Скотта, когда – одновременно с работой над «Принцем и нищим» – заканчивал цикл очерков о жизни на Миссисипи в пору своей молодости. Впоследствии от него сильно достанется и Куперу – за мелодраматичные переживания персонажей и их цветистую речь, за неуважение к здравому смыслу и приверженность к пафосу, за то, что невежественный охотник у него изъясняется так, словно десятилетие провел среди придворных вельмож, и за другие «литературные грехи». Но Вальтера Скотта он изобличал еще язвительнее. Твену представлялось, что Скотт не просто привил литературе напыщенный стиль, но оказывал пагубное воздействие на своих многочисленных поклонников. Ведь, вместо того чтобы учить честности и мужеству, Скотт своими романами «заставляет весь мир влюбиться в сны и видения, в сгнившие и скотские формы религии, в глупость, пустоту, мнимое величие… безмозглого и ничтожного, давно исчезнувшего общества». Твен полагал, что нравы на американском Юге с его кичливостью и фанаберией были прямым результатом повального увлечения книгами сэра Вальтера. И значит, «он причинил неизмеримый вред, быть может, самой большой и стойкий вред из всех доселе живших писателей».
Всерьез к этим запальчивым суждениям относиться, разумеется, нельзя. О подлинной силе и подлинных слабостях Скотта они не говорят почти ничего. Зато многое говорят о том, чего Твен не хотел в собственных исторических романах. Он не хотел ни выспренности, ни театральных эффектов, ни «снов и видений».
Хотел он совсем другого: правды. И простоты. И естественности.
А кроме того, он стремился, чтобы любое его произведение, пусть и посвященное истории, заставляло задуматься над вещами сложными и важными, над вопросами, к которым рано или поздно приходит каждое поколение и которые каждое поколение должно для себя решить.
Твен заботился не столько о достоверности создаваемых им картин прошлого, сколько о том, чтобы они заставляли снова и снова задуматься, что истинно, а что глубоко ложно и постыдно в побуждениях и устремлениях людей, их образе мыслей, их поведении, в общем-то неизменных, как, по сути, неизменен во все эпохи и сам человек. У него не было ни малейшего преклонения перед стариной. Наоборот, старина – и уж тем более средневековье – его не притягивала, а отталкивала. Одному из друзей он как-то сказал, что не любит зарываться в книгах историков: «То, о чем они пишут, слишком для нас унизительно».
И с Вальтером Скоттом он спорил не только впрямую, как на страницах своих очерков о Миссисипи былой поры. Он полемизировал с великим шотландцем и тогда, когда описывал в своих исторических произведениях средневековые нравы, понятия и порядки далекого времени. Скотт с увлечением и патетикой изображал пышность королевских дворцов, утонченный этикет рыцарей, изысканных в обращении сановников, бесстрашных и чистых сердцем аристократов. А Твен на полях мемуаров герцога Сен-Симона, долгие годы проведшего при дворе французских королей Людовика XIV и малолетнего Людовика XV, – эту книгу автор «Принца и нищего» читал как раз во время работы над своей первой исторический повестью – записывает: «Двор – всего лишь сборище голодных псов и кошек, отчаянно дерущихся за кусок падали». Уже в рассказе о лондонском уличном оборвыше Томе Кенти и наследнике английского престола Эдуарде, принце Уэльском, придворная знать – все эти лорды, графы, пэры и канцлеры выглядят комично, чтобы не сказать – жалко. Четырнадцать лет спустя, повествуя о Жанне д'Арк, Твен покажет короля Карла VII и его окружение не просто жеманными и смешными паяцами, а преступниками.
Для Скотта седая старина была окутана романтикой. Англия в эпоху крестовых походов, Шотландия, еще сохраняющая свою вольность, пока англичане не осквернят ее обетованную землю, – во многом условный, рожденный воображением мир. Через напластования экзотики и красочности подчас и у него пробиваются штрихи, меняющие весь колорит рассказа. Какая-нибудь на первый взгляд мелкая подробность дает ощутить, что отнюдь не такими уж великодушными и самозабвенными героями были тогдашние вассалы короны, да и сами короли. А за идиллией обнаруживаются столкновения своекорыстных интересов, страдания народа, драмы рядовых людей.
Заслуги Скотта лучше всех понял и определил Белинский, заметив, что он «своими романами решил задачу связи исторической жизни с частною». И Белинский, и Бальзак больше всего ценили в этих романах именно то, что относилось к «частной» жизни отверженных, обманутых и гонимых. Но почитателям Скотта казалось, что главное для исторического писателя – это донести романтику, которую заключает в себе сам аромат старины. А такая цель требовала многого не замечать, приглаживать противоречия и сложности изображаемого времени. Пользуясь пушкинской строкой – отдавать «нас возвышающему обману» предпочтение перед «тьмой низких истин».
А Твен не выносил никаких обманов, пусть и возвышающих. И хотя в его исторической прозе, особенно в «Принце и нищем», нам встретится немало повествовательных приемов, которые мы уже встречали в книгах Вальтера Скотта, Твен без обиняков предпочел сказать о средневековье истину, даже если она была удручающей.
Помните, как Том Кенти, волею судьбы сделавшись на время английским королем, вершит суд над тремя лондонскими жителями из простонародья, схваченными стражей и уже приговоренными? Том и в Вестминстерском дворце остался тем же мальчуганом со Двора Отбросов, которому улица с ее незамысловатыми происшествиями несравненно интереснее, чем все изощренные забавы, предназначенные для принцев. Это и спасло невинно осужденных. А за что вели их на казнь? Одного из этих несчастных признали отравителем только по той причине, что человек, видом с ним схожий, дал больному лекарство, от которого началась рвота, приведшая к агонии. Двух других – за то, что сочли причастными к козням дьявола.
Это обвинение было без труда доказано: кто-то видел, как ведьмы снимали чулки, а потом началась буря – конечно же, по этой самой причине. И виселицы им теперь не миновать. Но мнимый отравитель и виселицу счел бы для себя благом. Потому что отравителей и фальшивомонетчиков по тогдашним законам полагалось живьем сварить в кипятке. А в Германии додумались до еще более хитроумной казни. Преступника сваривали не в воде, а в кипящем масле, постепенно опуская жертву в котел на особом блоке. Таковы были подлинные, а не приукрашенные понятия людей средневековья.
Вальтер Скотт в нескольких своих книгах тоже коснулся диких суеверий и жестокостей того времени. Но у него это была лишь пикантная приправа к рассказу, в котором господствовала стихия романтики и поэзии. Для Твена же эпизод с разбирательством «преступлений», в которых простодушный Том Кенти не нашел ровным счетом ничего крамольного, не было ни случайным, ни маловажным. Этот эпизод органичен и необходим для того полотна, которое Твен создает.
Может быть, особенно ясны его расхождения со Скоттом и со всей традицией, опирающейся на заветы сэра Вальтера, выступают на тех страницах «Принца и нищего», где главным действующим лицом становится не Том, не Эдуард, а народ, лондонская толпа. Огромным завоеванием Скотта была уже сама мысль, что не короли и герцоги, а народные массы в конечном итоге вершат историю. После Скотта исторический роман всегда исходил из этого убеждения, если только перед нами настоящая проза, а не подделка, рассчитанная на пустую занимательность.
И все же в романах Скотта центральное положение неизменно занимает герой-аристократ, а простой люд лишь помогает такому герою осуществить его замыслы и планы. Не приходится сомневаться, что Роб Рой никогда не добился бы своих целей, если бы его опорой не стали обычные шотландские крестьяне, повергшие в бегство выученных ратников-англичан. Ситуация, очень типичная для Скотта. Но догадываться, кто истинный творец истории, а кто просто вознесен на ее гребень благодаря своему родовитому происхождению, мы должны сами. Даже в массовых сценах, вызывавших справедливое восхищение первых читателей Скотта, народ скромно располагается на дальнем плане. А в фокусе оказывается рыцарь, или граф, или лорд, при любых обстоятельствах ведущий себя в соответствии с кодексом знатного джентльмена.







