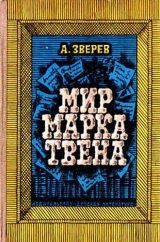
Текст книги "Мир Марка Твена"
Автор книги: Алексей Зверев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Сейчас подобный юмор покажется нам весьма грубоватым, даже покоробит. Американцам во времена молодости Твена он нравился. Окружающая их жизнь изяществом и утонченностью не отличалась. Жестокостей в ней было через край. И хотелось осмеять эту малопривлекательную повседневность, эту будничную жестокость. Чтобы уже не чувствовать себя их пленниками.
Анекдоты и комичные истории, особенно те, которые сочиняли на фронтире, отмечены упорным пристрастием к сюжетам, связанным с насилием, кровопролитием, избиением. Знакомясь друг с другом, герои таких историй обязательно дерутся, подстраивают всякие каверзы один другому, ломают руки и ноги, отстреливают пальцы и уши, проявляют удивительную изобретательность по части всевозможных издевательств и глумлений.
А что сам-то он собою представляет, этот герой небылиц и сложенных переселенцами юморесок? Как правило, это редкостный урод, богохульник, ненасытный пьяница, хвастун, каких свет не видел, зато уж с кольтом он выучился обращаться разве что не в колыбели, а о таких вещах, как сочувствие или доброта, отроду не слыхал. Анекдот, и прославляет его, и вышучивает, ведь герой, понятно, лицо собирательное, в нем воплощены типичнейшие черточки психологии фронтира, но уже доведенные до своей крайности, до явной нелепицы, потому что люди, воспевшие этих вымышленных удальцов, на самом деле повествовали о самих себе и умели не только собою восторгаться, но и сознавать уродство собственной жизни, весело потешаясь над нею.
В юности Твен просто обожал истории подобного толка, словно не замечая, до чего они примитивны и невзыскательны. Став репортером невадской газеты «Энтерпрайз», он и сам напечатал страшный рассказ про своего коллегу по газете Дэна до Квилла. Дэн поехал в гости на соседний прииск, а Твен в очередном номере оповестил, что с его приятелем произошел ужасный случай: лошадь понесла со скоростью полтораста километров в час, Дэн вылетел из седла, шляпу вогнало ветром прямо ему в легкие, а нога от толчка вошла в тело до самого горла. Отлично выспавшись и позавтракав у своих друзей, де Квилл развернул свежую «Энтерпрайз» и с растущим удивлением прочел эту мрачную повесть о собственных несчастьях.
Однако довольно быстро Твену приелся юмор, рассчитанный лишь на вкусы не избалованных высокой литературой старателей да переселенцев. «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» на фоне такого юмора казалась Монбланом рядом с небольшими холмиками. В ней тоже властвует гротеск и вольный смех, не оглядывающийся на искусственные разграничения комического и драматического, но в ней есть и качество, которое напрасно было бы искать в анекдотах и небылицах, – это умение буквально двумя-тремя штрихами обрисовать не просто потешную ситуацию, а целый жизненный уклад, целый мир в его необычности. И это умение будет крепнуть у Твена от рассказа к рассказу, стремительно завоевывая ему известность лучшего юмориста Америки.
Он постарался сохранить тональность такой, какой она была в устном, не ведающем никакой литературной приглаженности изложении, он добивался, чтобы его рассказ прежде всего смешил. Но в то же время ему было необходимо, чтобы читатель и за самоочевидным, буйным и несдержанным гротеском видел достоверно описанную американскую жизнь со всей ее многокрасочностью.
Он создал маску простака, человека доверчивого, неискушенного, недалекого и на каждом шагу попадающего в положения крайне нелепые, но не унывающего при любых передрягах и к тому же способного при всей своей неопытности да и глуповатости в нужный момент как бы мимоходом обронить словцо или замечание, бьющее в самую точку.
Он менее всего заботился о том, чтобы события логично вытекали одно из другого, разрывал необходимые внутренние связи, рисуя действительность как будто лишенной какого бы то ни было смысла и цельности, но эта мозаика на поверку обладала прочнейшими сцеплениями, потому что сама ее пестрота доносила ощущение контрастности, не сочетаемости начал, чересполосицы и хаоса, поражавшего каждого, кто в ту пору впервые приезжал в Америку.
Он знал, что «нет такой крепости, которая не рухнула бы, когда ее атакует смех», и выучился навыкам, необходимым юмористу, – дразнил публику, рассказывая ей совсем не о том, что обещало заглавие, или с невозмутимым видом повествовал про явления совершенно абсурдные, делал выводы, противоречащие всякой логике, и защищал их с упорством фанатика, которым овладела заведомо дикая идея, – но все это для него оставалось лишь техникой, а не сутью творчества.
Он и в ранних – шутливых и гротескных – своих рассказах был реалистом, первым настоящим реалистом в американской литературе, хотя – по беглому впечатлению – на его страницах реальность отступала перед яркой выдумкой и иронией, ничуть не заботящейся о правдивости создаваемых картин.
Только в конечном-то счете эти картины оказывались куда правдивее, чем простые зарисовки жизни в ее обыденном облике. Скольких людей заставляла смеяться до слез «Журналистика в Теннесси», один из самых известных рассказов молодого Твена! И конечно, все считали, что автор проявил на редкость богатую фантазию, а на самом деле ничего подобного происходить не могло.
Разумеется, Твен основательно сгустил краски. Гротеск этого требует по своей природе. А рассказ Твена можно изучать как образец гротеска. Тут и преувеличения ничуть не скрываемые, и герой-простак, которому взбрела в голову бредовая мысль, что, поработав с месяц на Юге, в Теннесси, он прекрасно отдохнет и поправит здоровье. Тут и какой-то оскорбленный газетой полковник, который, по-джентльменски объяснившись с редактором и получив смертельную рану, справляется перед уходом об адресе гробовщика. Тут и выдранные в драке вихры, и пули, упорно попадающие в безвинного практиканта, а не в шельму редактора, и под конец такая резня, которой не в состоянии описать перо. Тут и походя брошенное шефом газеты замечание, которое на весах юмора, пожалуй, перевесит все леденящие кровь подробности из жизни газетчиков Теннесси: «Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете».
Словом, бездна смеха и ни грана истины.
И впрямь так? Ничего подобного. Твен прекрасно изучил понятия фронтира и знал участь людей, решившихся избрать в этих условиях ремесло журналиста. В Неваде был случай, когда один тамошний босс, пришедший в ярость от статьи, раскрывавшей его плутни, обманом залучил к себе автора и, выпоров его плеткой, пригрозил расстрелом на месте, если тот немедленно не объявит самого себя клеветником. И никто этому особенно не удивился. Так обычно и поступали с газетчиками посмелее да позадиристей.
На Миссисипи, в городе Виксберге, выходила газета «Утренняя звезда». Ее издателя несколько раз избивали на улице и в конце концов прикончили выстрелом в упор. Четырех последующих редакторов убили на дуэлях. Пятый утопился, не дожидаясь, пока его линчует толпа, обидевшаяся на какую-то нелестную для Виксберга статью. Шестой сразил вызвавшего его дуэлянта наповал и уехал в Техас, но его разыскали и там, не успокоившись, пока он не отправился на тот свет. На этом и закончилась краткая, но бурная летопись невезучей «Звезды».
Вот и получается, что небылицы у Твена почти что быль, только нужно более или менее ясно представить себе жизнь, которую он описывает, и осознать законы гротеска. В мире гротескной литературы, по сути, возможно все – любая фантастика, любые чудеса, любые поступки и события, просто не укладывающиеся в голове. Но чтобы это была литература, а не просто выдумки да потешки, обязательно и необходимо ввести в причудливый этот мир вещи, предметы, явления, которые читатель сразу же узнает, примет как что-то хорошо ему знакомое из собственного опыта. Вымысел должен здесь соседствовать с достоверностью, условное – с безусловным.
Твен никогда не изучал трактаты по эстетике, по это непреложное правило, без которого гротеск выродится в пустые словесные фокусы, он инстинктом художника постиг с первых же своих шагов на писательском поприще. Отчего так смешны его ранние рассказы? Оттого, что основной их мотив всегда почерпнут из реальной действительности и детали повествования до какой-то черты строго правдивы, как будто непосредственно взяты из окружающего быта, но эти детали едва заметно для читателя начинают укрупняться, приобретать невероятный масштаб. Условное и безусловное, достоверное и вымышленное не просто сосуществуют, они вступают в конфликт друг с другом. Возникает юмористический контраст в самой ткани повествования. А Твен его все усиливает да усиливает, пока не добьется мощного комического взрыва.
Под старость Твен оглянется на пройденный путь и, вспомнив многих своих коллег-газетчиков, когда-то слывших замечательными остроумцами, а теперь всеми позабытых, скажет: «Только юмористы не выживают. Ведь юмор – это аромат, украшение… Если юморист хочет, чтобы его произведения жили вечно, он должен и учить и проповедовать. Когда я говорю вечно, я имею в виду лет тридцать».
Твен судил слишком строго и поэтому ошибся. Прошло не тридцать, а уже без малого сто тридцать лет, но его рассказы по-прежнему живут да и вряд ли когда-нибудь перестанут привлекать все новых читателей. А ведь Твен в них ничего не проповедует. Это просто юмор. Просто «аромат», но настолько свежий и сильный, что он не выветрился с ходом десятилетий.
На страницах твеновской автобиографии, которую писатель диктовал своему секретарю в последние годы жизни, есть забавный эпизод, связанный с френологами. Еще в детстве Твен не раз наблюдал, как жители Ганнибала доверчиво выслушивали россказни какого-нибудь жулика, который, ощупав черен, описывал человеку его характер и судьбу. Почему-то все черепа в Ганнибале оказывались на удивление схожи с черепом прославленного генерала Вашингтона, героя войны за независимость Америки. Ганнибальцам льстило такое сравнение, и они охотнее выкладывали денежки за сеанс.
Прошло много лет, и в Лондоне Твен увидел вывеску некоего Фаулера, который среди френологов почитался великим светилом. Любопытства ради он зашел к Фаулеру и узнал, что обладает многими качествами, о каких прежде и не догадывался, – необычайной отвагой, железной волей, безграничной предприимчивостью. Но вот той шишки, которая означает чувство юмора, на черепе не было и следа. Наоборот, на ее месте красовалась впадина. Данное лицо природа решительно обделила юмором.
Сейчас нам особенно хорошо видна «проницательность» жрецов почтенного искусства гадания. Каждая страница молодого Твена буквально сверкает блестками остроумия, которое было его врожденным свойством. Оно, разумеется, прежде всего «повинно» в том, что Твен заставляет смеяться даже самых хмурых людей.
А ведь и в самую раннюю писательскую пору юмор не был для Твена только украшением. По-настоящему понять его творчество можно лишь при том условии, что мы поймем то главное чувство, которое водило его пером.
Коротко говоря, это чувство абсолютной свободы – от всех предрассудков, от любых догм и притеснений, сдерживающих энергию жизни, которая бьет ключом, от всяческих выдуманных запретов и нудных правил, от всего мертвящего, скучного, враждебного человеческой природе и свойственному всем людям инстинкту справедливости.
Юмор может бичевать и клеймить, по свою работу он делает не хуже и в тех случаях, когда просто обнажает неразумность тех пли иных общественных установлений, моральных норм, жизненных принципов, вышучивая их беспощадно и таким способом выявляя их несовместимость с подлинно человечным устройством жизни. Юмор молодого Твена как раз такого рода – по видимости безобидный, а по сути ниспровергающий все противоестественное, косное и ложное.
Поэтому он, этот юмор, и не признает никаких сдерживающих центров. Покойник здесь может запросто усесться на козлы собственного катафалка рядом с кучером и премило побеседовать с приятелями – сама смерть выглядит лишь чудовищным насилием над динамичной, радостной и бурной жизнью, и юмор отрицает ее всевластие, что бы по этому поводу ни было написано в умных книжках. Сиамские близнецы могут здесь в два счета опорожнить бутылку с крепким напитком и потом забавляться, забрасывая камнями церковную процессию, – ведь эти самые близнецы тоже живые люди, а значит, им не могут быть чужды обыкновенные земные радости, а ханжеское благочестие не может не выводить их из себя.
Раз и навсегда должно быть покончено со всякой искусственностью, всякой унылой назидательностью, в какие бы одежды они ни рядились. Пусть через эти окаменелые и выхолощенные представления о том, что правильно и достойно, а что неверно и порочно, пробьется настоящая жизнь, которой дела нет до наперед вычисленных понятий и норм, потому что она все равно умнее любых мудрецов.
Издеваясь над бескрылой и убогой книжной премудростью, Твен очень любил чуть ли не в мельчайших особенностях воспроизводить присущую авторам наставительных и глубокомысленных книжек манеру изложения, но при этом вкладывал в свой текст содержание, ничего общего с такими книжками не имеющее. Это старый прием юмористики, и называется он пародией. Многие твеновские рассказы представляют собой пародии, явные пли зашифрованные.
Чаще всего он пародировал библейские легенды и их переложения в учебниках для воскресных школ. А кроме того, романы и повести, в которых герои изъяснялись возвышенным языком, каким на самом деле никто не говорит, и не умели ни одно событие, с ними приключающееся, пережить просто и искренне. И еще всевозможные эпизоды из биографий прославленных людей, преподносимые американским малышам в качестве примера для подражания, но до того скучные, что оставалось лишь поступать как раз наоборот, чтобы, боже упаси, не сделаться таким же занудой, как все эти праведники и «Моральные Образцы».
Есть у Твена рассказ «Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона», того самого Вашингтона, чья голова по форме была неотличима от черепов большинства ганнибальцев. Там говорится об одном любителе игры на аккордеоне. Его музыка производила совершенно необычное действие. Какой-то старец, годами прикованный к постели, с радостными слезами на глазах обнял нашего музыканта и сказал, что теперь ему хочется умереть, лишь бы не услышать вариации к «Застольной» еще раз. Хозяйки квартир охотно не брали с него ни гроша, но при условии, чтобы он съехал до истечения первого месяца. Едва раздавались душераздирающие звуки аккордеона, как с соседями делалось что-то странное – печальные становились отчаявшимися, а мирные жильцы впадали в бешенство, как коты в марте.
Постойте, ну при чем же тут маленький Джордж Вашингтон, Который Не Умел Лгать и доказал это, подрубив вишневое деревцо, но тут же признавшись папе и покаявшись? Да ни при чем, конечно. Действительно, был такой случай, и очень трогательный. Но, увлекшись повествованием о тяжких муках незадачливого маэстро, а также о скрипачах, кларнетистах и дикаре-барабанщике, которых автор в свое время спалил живьем, очутившись с ними под одной крышей, Твен – как жаль! – просто позабыл, в чем именно проявилась бесконечная правдивость будущего знаменитого генерала. Хотя, несомненно, каждому было бы полезно в тысячный раз выслушать эту назидательную историю.
Здесь тоже использован прием, обычный у юмористов, – розыгрыш или же мистификация. Нам вроде бы собирались рассказать об одном, а рассказали совсем о другом, или намеренно рассказ оборван там, где он, кажется, только и должен был начаться. Вместо логики в рассказах-мистификациях господствует бессвязность, слова означают вовсе не то, что они должны были бы обозначать, – мы ведь понимаем, отчего слезы немощного старца, которого аккордеонист угостил своей «Застольной», были радостными, хотя кто же обрадуется приближающейся собственной кончине.
Мистификация дразнит нас и заставляет отнестись к набившим оскомину прописным истинам без той почтительности, которая порой только мешает выяснить, так ли уж они бесспорны. Когда надо развенчать дутые сенсации пли претензии на абсолютную правоту, не подкрепленные ни аргументами, ни здравым смыслом, розыгрыш – оружие незаменимое. Оно бьет без промаха.
На фронтире любили самые разнообразные мистификации и розыгрыши. Когда невинные, а когда и озорные, насмешливые. Твен их тоже любил и не раз превращал свои рассказы в типичные мистификации.
Вот он пишет рассказ «Венера Капитолийская» – о живущем в Риме нищем художнике-американце, который влюбился в дочь богатого бакалейщика. Тщетно добивается он руки своей избранницы. Бакалейщик искусством никогда не интересовался и требует солидных доказательств деловитости претендента, для начала – по меньшей мере пятидесяти тысяч капитала. Положение отчаянное. Но, конечно, не безвыходное.
У героя, по счастью, есть приятель, которому практической сметки не занимать. Несколькими ударами молотка искалечив статую Америки – предмет гордости художника, хоть папаша и обозвал его работу мраморным пугалом, – этот смекалистый Джон Смит зароет обломки в землю, чтобы спустя полгода «случайно» их извлечь и заставить целую толпу дипломированных знатоков восторгаться новооткрытым созданием художественного гения греков. А папаша тут же воспылает страстью к скульптуре и лично проводит ошалевших от удачи молодоженов в свадебное путешествие.
О Джоне Смите нам не сообщается ничего, и дело происходит вдали от американских берегов. Но не может быть сомнений в том, что мы познакомились еще с одним сыном фронтира. Потому что вся проделка вполне достойна типичных для фронтира розыгрышей. А такого рода житейская сообразительность могла быть свойственна только человеку, с младых ногтей усвоившему, что надо полагаться на собственную голову да забыть про робость, и тогда любые трудности разрешатся в мгновение ока.
Рассказы начинающего Твена прямо-таки пропитаны жизнерадостной и в общем-то здоровой атмосферой почти незаселенных просторов на Дальнем Западе страны. Мир, раскрывающийся перед нами в этих юморесках, молод, он словно бы создается непосредственно у нас на глазах. Быт, отношения, мораль – все еще не установилось, только налаживается. Об утонченности, о совершенстве не приходится говорить, но зато все подчинено требованиям жизни, а не вымученным условностям. Действительность скрывает в себе бездну тайн и надежд. Она привлекает и завораживает. В ней нет места ни для какой косности и оцепенелости. В ней привольно чувствует себя простая, твердо верящая в близкое счастье душа.
И Твен улыбается. Его пьянит этот привольный мир, его еще не могут всерьез омрачить ни вспышки варварской жестокости, ни повальное невежество и бескультурье, ни всеобщая погоня за наживой – вещи, для фронтира столь же характерные, как и естественность тамошних нравов или бурная энергия обитающих там людей. Все тревоги пока кажутся недолговечными, все катастрофы еще не выглядят непоправимыми, и никакие неудачи до поры не способны поколебать уверенности в благополучном завершении любых испытаний и жизненных штормов.
Таким он входит в литературу, этот щедро одаренный и до беспечности радостный писатель, чей талант светится в каждой строке, в каждой пустяковой комической зарисовке. Для многих он таким навеки и останется, хотя время очень серьезно переменит его взгляды, поубавив лукавства и озорства, окрасив твеновский юмор в новые тона, которые уж никак не назвать лучезарными. Но как бы круто ни ломались впоследствии его убеждения, он всегда с бесконечной благодарностью будет вспоминать Неваду, «серебряную лихорадку», редакцию «Энтерпрайз», прииски, старателей с их суевериями и странноватыми привычками, стенные костры, продуваемые всеми ветрами гостиницы, выжженные зноем белесые дороги в прерии – время, когда он был молод и по-настоящему счастлив.
«Знаменитую скачущую лягушку из Калавераса» Твен напечатал в 1865 году, незадолго до того, как завершилась Гражданская война. На Западе – в Неваде и Калифорнии – о войне узнавали только из газет; новые штаты участия в ней не приняли, хотя и тут были свои сторонники северян и приверженцы южан. Последних к концу войны почти не осталось, и Твен теперь тоже всей душой сочувствовал делу отмены рабства и восстановления американского союза. Впрочем, политика не составляла для него главного интереса. Его помыслами завладела литература. Его увлекла пестрая и причудливая повседневность Сан-Франциско, где на каждом шагу обнаруживались россыпи захватывающих сюжетов и тем.
По первому впечатлению Калифорния казалась райским уголком. Ослепительная зелень, диковинные тропические цветы, реки, сверкающие под жгучим солнцем, пустующие пляжи, вытянувшиеся на десятки километров, – все зачаровывало усталого переселенца, долгие месяцы пробивавшегося к Тихому океану через безлюдные пустыни и труднопроходимые горные цепи. Калифорния встречала своих новых обитателей шелестом апельсиновых и лимонных рощ, пьянящим ароматом плодородной земли, густым акцентом, окрасившим речь ее старожилов.
На побережье смешались чуть не все народы мира. Еще недавно это была территория Мексики, и по-испански многие говорили лучше, чем по-английски. Развалины старинного форта напоминали о том, что когда-то здесь развевался русский флаг. По окраинам городов теснились перенаселенные китайские кварталы: строили сразу несколько железных дорог и из поднебесья империи вывозили самую дешевую на свете рабочую силу.
Сан-Франциско был разбросан по холмам и производил впечатление полного хаоса. Оставшиеся от испанских грандов роскошные особняки соседствовали с безликими кирпичными постройками, в которых располагались бесчисленные конторы, банки, правления, акционерные общества, страховые компании, торговые фирмы. На центральных улицах днем и ночью бурлила деятельная жизнь, а рядом ютились невзрачные деревянные домишки и незаметно начинались предместья, карабкавшиеся вверх по песчаным склонам. Бегала конка, франты хвастались друг перед другом туалетами, полученными от лучшего парижского портного, и брезгливо обходили устроившихся прямо на тротуаре нищих или перемазанных сажей чернорабочих-китайцев. Кабаки и игорные дома не закрывались никогда, как на дрожжах росли здания театров и цирков, вокзалов и доков, складов и пакгаузов, в порту толпились шхуны, баркасы, катера, прижавшиеся к борту больших океанских пароходов.
Калифорнийцы с почтением относились к тем, кого называли людьми сорок девятого года. Тот год был для Калифорнии особенный – под Сакраменто нашли золото и население утроилось в считанные месяцы. Когда Твен приехал в Сан-Франциско, золотой ажиотаж давно стал только воспоминанием, но его остывшие следы еще попадались повсюду. Стоило прогуляться по окрестностям калифорнийской столицы, и глаз непременно останавливался на свалке мусора, догнивающих досках, обвалившейся, заросшей травой шахте – памятнике канувшему в вечность палаточному или фанерному городу, где не так давно каждый клочок земли продавали за бешеную цену и везучие старатели зарабатывали до тысячи долларов в день, тут же обменивая их на жалкие радости, какие мог предоставить фронтир.
Теперь золота почти не осталось, а текучее, беспокойное старательское племя рассеялось по ближним и дальним уголкам Америки. Кто-то сложил голову в уличной потасовке, кто-то, не выдержав напряжения, состарился и одряхлел в тридцать лет. Но многие ветераны сорок девятого так и осели в Калифорнии, сделавшись незаметными служащими или десятниками на стройках, а все-таки сохранив в душе тот огонь романтики и надежды, который ярко полыхал на изрезанной карьерами и штоками калифорнийской земле лет пятнадцать назад. Бум прошел, но еще не до конца улеглось вызванное им возбуждение, и везде в Сан-Франциско чувствовалась атмосфера повышенной активности, захватывающей самые разные сферы жизни.
Местная журналистика процветала – газет было множество, и все они шли хорошо. Несколько твеновских фельетонов и юморесок из «Энтерпрайз» было перепечатано в Сан-Франциско. Его имя знали, и работу он достал без труда, причем в лучшей из здешних газет, в «Колл».
Утром он отправлялся в полицейский суд за материалом. В каждом номере «Колл» шла хроника, которую Твен целиком заполнял заметками из суда. Однажды он увидел, как группа ирландцев забрасывает камнями рабочих китайской прачечной, которые несли тяжелую корзину с бельем. Полисмен равнодушно наблюдал за этой сценкой и не думал вмешиваться. Раньше все прачечные были ирландские, но китайцы стирали дешевле и лучше. Отбивая клиентов, они озлобляли своих разорявшихся соперников по ремеслу.
Вернувшись домой, Твен описал увиденное в проникнутой негодованием статье, но, к своему удивлению, не обнаружил ее ни в очередном, ни в следующих номерах «Колл». Пришлось объясняться с издателем. И тот заявил, что не потерпит в своей газете никаких глупостей. Ирландцы – белые, а значит, в стычке с желтыми они заранее правы. Если Твен с этим не согласен, ему лучше поискать себе другое место.
Он ушел из «Колл» и сразу оказался на мели. Его не оставляли мысли о том конфликте, который произошел из-за несчастной статьи.
К этой теме он еще вернется – в рассказе «Друг Гольдсмита снова на чужбине». Оливер Гольдсмит, знаменитый английский писатель XVIII века, ни минуты не сомневался в том, что всякий человек от природы добр, разумен, чистосердечен, и только ложные социальные установления мешают немедленно осуществиться всеобщему счастью, торжествующей справедливости. Нужно показать их ложность, просветив умы, и тогда воцарятся гармония и красота.
Такие взгляды были свойственны многим лучшим людям той эпохи, ее мыслителям, ее художникам. Восемнадцатое столетие осталось в истории как век Просвещения.
Первая книга Гольдсмита озаглавлена «Гражданин мира, или Письма китайца». Она представляет собой серию очерков, созданных в форме писем наблюдательного, пламенно сочувствующего Просвещению человека, якобы приехавшего погостить в Англию из Китая и, конечно, удивившегося порядкам и нравам, которые сильно отклоняются от представлений о естественности, о благоразумии.
Просветители питали пристрастие к подобным мистификациям. Твен прибег к испытанному оружию пародии. Использованный Гольдсмитом литературный прием, который успел стать ходульным, был осмеян, но суть рассказа не в этом. Получился острый памфлет. Простодушный китаец А Сун-си считал себя удачливым человеком, когда ему представился шанс уехать в Америку. От вербовщика он наслушался трескучих фраз о том, что в Америке каждого ждет счастье и удача, богатство и равноправие. И все это он принимал за чистую монету. В грязном, переполненном трюме парохода, который за шестьдесят долларов – еще предстояло отработать эту колоссальную для китайца сумму – вез его через океан, А Сун-си не уставал возносить хвалу обетованной земле, где нет ни голода, ни нужды, ни предубеждений.
Но убежище угнетенных и униженных оказалось приютом воров и насильников, которые сначала обобрали новоприбывшую партию азиатов до нитки, а потом начали их травить, словно шелудивых псов. И дня не прошло, как друг Гольдсмита, избитый уличным отребьем, которому охотно помогли полисмены, очутился за решеткой, и суд, разумеется, признал, что порядок нарушил он сам, а значит, должен выплатить штраф или задержаться в тюрьме на десять суток. Китайцы не имеют права свидетельствовать против белых. И других прав они тоже не имеют. Мало ли, что конституция говорит о равенстве всех перед законом. На негров и китайцев конституция не распространяется. Пусть знают свое место – в самом низу, на дне.
«Чтобы сделать историю китайца в нашей стране занимательной, помощь фантазии не нужна, – писал Твен в кратком предуведомлении читателю, утверждая, что рассказ точен, как документ. – Достаточно простых фактов».
Калифорнийская пресса такие факты обходила молчанием. «Друг Гольдсмита» был напечатан лишь в 1870 году, когда Твен давно уже жил в Нью-Йорке. Но горькие мысли, которыми заполнен этот рассказ, зародились под непосредственным впечатлением судебных разбирательств, которые описывал репортер из «Колл». И ни случайными, ни преходящими они не были.
А пока Твен сочинял смешные очерки, заботясь скорее не об их содержании, а о том, чтобы придумать какой-нибудь особенно неожиданный поворот сюжета, особенно комичную реплику или забавную нелепость. В Сан-Франциско издавался литературный журнал «Калифорниец», где с удовольствием принимали все, что он приносил. Возглавлял этот журнал писатель, который вскоре станет знаменитым, – Фрэнсис Брет Гарт.
Брет Гарт не забыт и сегодня, но трудно поверить, какой славой он пользовался в первые годы после Гражданской войны. Когда, заваленный приглашениями от крупнейших издателей и самых изысканных литературных клубов, он в 1871 году двинулся из Калифорнии в Нью-Йорк, это было событие национального значения. Целая свита репортеров сопровождала каждый его шаг.
За год до своей поездки он напечатал «Счастье Ревущего Стана» – превосходную новеллу об искателях счастья, побросавших дома и службу, чтобы устремиться в Калифорнию, к берегам неведомых ручьев с пышными испанскими названиями, по слухам прямо-таки искрящихся золотом. Этих людей Брет Гарт обрисовал правдиво, хотя немножко сентиментально. Сколько пролилось слез над этим рассказом про то, как у единственной на весь Ревущий Стан женщины родился младенец и старатели в едином порыве собрали для ребенка целое состояние, заодно взяв на себя функции нянюшек и прачек.
Ту жизнь, о которой шла речь в его книгах, Брет Гарт изучил досконально. Он приехал в Калифорнию вместе с золотоискателями, сам ставил заявочные столбы, а когда понял, что сокровищ ему не найти, сделался курьером почтового дилижанса, учительствовал, выпускал недолговечные газеты. И постепенно приобретал известность как литератор.
Природа не обделила его ни умом, ни чувством. В своей вилюйской ссылке Чернышевский прочел рассказ Брета Гарта «Мигглс» и отозвался об авторе очень точно, назвав его «человеком необыкновенно благородной души», которому, впрочем, недостает запаса наблюдений и размышлений. Брет Гарт был убежден, что писателю надо изображать не выдуманных персонажей с их оранжерейными страстями и вычурными позами, а только такую действительность, которую он хорошо знает и любит, пусть даже кому-то она покажется непривлекательной и грубой. Необходимо, чтобы в литературу вошла живая жизнь в ее истинном облике, столь изменчивая, столь разная в бесчисленных отдаленных уголках просторной Америки.
Эти взгляды были близки и Твену, и другим начинающим писателям той поры. Возникло целое литературное движение противников шаблонной романтики и искусственности, приверженцев достоверного изображения будничной реальности, которую художник наблюдал у себя дома в Калифорнии или на Юге, в глухом городке посреди прерии или на фабричной окраине Чикаго. Таких писателей называли «местными колористами». Для них впрямь было очень важно передать особые краски повседневности тех мест, где сами они прожили десятилетия. Брет Гарт был талантливее их всех.







