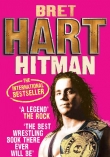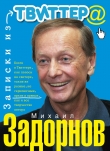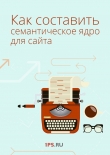Текст книги "Запад-36 (СИ)"
Автор книги: Алексей Янов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Подавшиеся в бега волыняне, пройдя насквозь лесной массив, внезапно обнаружили с двух краёв обширной поляны ровные ряды вражеской пехоты. Не соврал, значит, тот громогласный посланник смоленского князя! Пехотинцы мерным шагом, отчитываемые ударами барабанов, тут же стали надвигаться на обнаружившегося противника. Вынырнувшие из зарослей волыняне в растерянности замерли. Началось спонтанное накапливание сил, всё подходящих из глубин леса.
– Бежим все разом на пролом! – послышалась чья – то уверенная команда из задних рядов, словно по мановению волшебной палочки, сдвинувшая и приведшая всех разом в движение. И вся эта многотысячная толпа с оглушительным криком «Волынь!» резво рванула в прорыв.
Смоленские войска сразу остановились. Стрелки, повинуясь командам, принялись бить по площадям. Одновременно, из пехотных построений выглянули жерла пушек. Ещё несколько мгновений – и они жахнули, разразившись в накатывающую толпу чугунной картечью.
Как результат, до позиций «кривецких» войск, задыхаясь, добежало не более одной трети, рискнувших ринуться в этот смертельный забег. Пехотные прямоугольники ощетинились пиками. Беглецы, смешавшись с линией войск, ежесекундно тая в своей численности, растекались по интервальным проходам, оставленным между ротами. Пройти это кровавое сито и затеряться в лесах смог лишь каждый десятый, остальные – попали в плен или погибли.
Все эти разборки с многочисленным волынским ополчением, отсутствие ратьер из – за отстающих грузовых дощаников, не позволили мне подойти к Владимиру – Волынскому раньше сбежавшего туда Василько. Ну да ничего страшного! На военном совете было принято решение не спешить, первым делом следовало обеспечить безопасность своей главной речной коммуникационной артерии. Исполняя это решение, судовые рати гребного флота повернули обратно на Пинск.
Глава 11
Параскева Брячиславна, вот уже восемь месяцев находящаяся в тягости с нетерпением ждала появление на свет Божий своего первенца. Муж четвёртый месяц был на войне, но присылаемые им в столицу письма вместе с вестовыми гонцами, раз за разом сообщали о славных победах русского оружия над язычниками. Глашатае, точнее политруки, собирали смоленский люд на городских площадях и говорили внемлющему им народу о новых великих победах ратей Смоленской Руси ведомых твёрдой государевой рукой. Заслышав эти славные вести, народ неизменно и бурно ликовал. Салютовали из крепостных пушек, люди гуляли по нескольку дней к ряду, будто отмечая большой церковный праздник.
Всё это время в управлении государством Параскева не принимала ровным счётом никакого участия. Удивительно, но даже в отсутствие её мужа продолжали исправно работать столичные государевы службы и управления, как – то координирующие свою деятельность с походной ставкой государя.
Внезапно, словно порыв ветра, в комнату ворвалась молодая служанка Залита.
– Государыня! По дороге от Гнёздова идут толпы литовцев!
– Что!? Как!? Откуда!? – перепугано всполошился женский коллектив, состоящий из служанок и боярынь, собранный вместе в светёлке. Им почему – то подумалось, что это на Смоленск надвигаются литовские войска. Успокоить «раскудахтавшийся курятник» смогли лишь срочно вызванные в терем помощники смоленского наместника Перемоги Услядовича. Взволнованным женщинам объяснили, что к Смоленску под охраной ополченцев подходят всего лишь первые колонны полоняников, ничего страшного и опасного в этом нет.
Женское любопытство пересилило страх и осторожность – все обитатели женской половины терема дружно, во главе с самой государыней, изъявили желание посмотреть на полонённых язычников. Под охраной десятка телохранителей и двух десятков пехотинцев, по причине ранений и увечий выбывших из строя, но продолжающих выполнять посильную работу по охране княжеской резиденции, теремные затворницы выметнулись на городские улицы, под завязку запруженными любопытствующими обывателями.
Из первой десятитысячной пешей колонны литовцев до Смоленска дошли меньше семи тысяч. Остальные – кто умерли в пути, кто больными и ослабевшими были оставлены в попутных городах и сёлах Западных областей. Литовцы не бунтовали. Они знали, куда и зачем их гонят, а также, самое главное, они знали, точнее, им всем объяснили, что выучившие русский язык и принявшие православие обретут свободу и станут вольными русскими смердами, рабочими, ремесленниками, да хоть кем угодно! Эти известия малость приободрили людей, заодно резко понизив уровень агрессивности к окружающим вообще и к своим конвоирам в частности.
Но дорога, всё же, всем им давалась очень тяжело. На редких в колонне телегах перевозились только малые дети. Остальные обессиленные, не способные самостоятельно передвигаться оставлялись вместе с их семьями в западнорусских боярских усадьбах в качестве холопов. Все собственные припасы полоняников были давно съедены и люди были вынуждены довольствоваться скудным питанием на перевалочных пунктах, расположенных один от другого на расстоянии дневных переходов. Там же они и ночевали. Поэтому, все дошедшие до Смоленска являли собой жалкое зрелище.
Исхудавшие, в лохмотьях и разваливающихся лаптях, они брели по Заднепровской набережной к мосту, чтобы переправиться в левобережную часть города.
– Хватит глазеть по сторонам! Двигайтесь быстрее! – разорялся в приступе крика на своих подопечных главный конвоир, лихо восседающий на жеребце. – Иначе до следующего пересыльного лагеря в Немикорах мы только за полночь доберёмся!
Головная часть колонны полоняников, взошедшая на мост, послушно прибавила шагу. Первые литовцы вступили на левый берег Днепра. Здесь раскинулся Торг. Торговали все и всем подряд. Богатые купцы – бояре и их приказчики сидевшие в оптовых торговых конторах имели многотысячные торговые обороты, купцы помельче довольствовались торговлей со стационарных прилавков, а простой смоленский люд без лишних изысков торговал прямо с возов и переносных лотков. Выстроившиеся цепью смоленские ополченцы отгородили набережную улицу от рынка, во избежание возможных происшествий. Но нет, никакой татьбы не случилось, уже через пару часов в окрестностях столицы литовцев и след простыл.
С этого дня и до конца осени такие колонны полоняников, следующие транзитом через Смоленск, появлялись на горизонте еженедельно. Очень скоро, шествующие литовские колонны военнопленных превратились в привычную, обыденную картину, на которую мало кто из горожан обращал особое внимание.
Назад до Пинска дошли быстро. Не теряя время понапрасну, под стенами города сразу же приступили к сооружению осадного лагеря.
Городские ополченцы и дружинники Пинска всё это время суетливо прохаживались по крепостным стенам, даже не помышляя о вылазке в стан врага. Одно имя смоленского князя, не знавшего горечи поражений, выигравшего все свои битвы, изничтожившего всех своих врагов, разменявшего второй десяток взятых «на копьё» городов, уже само по себе заставляло трепетать весь город. Ещё страшней было воочию наблюдать за этим противником, изготавливающимся к штурму родного города.
Князь Михал Владимирович, поднявшись на стену, внимательно осматривая приготовления врага, не знал, что конкретно ему следует предпринять. Войско смоленского князя, на первый взгляд, не понесло видимого урона в схватках с волынянами. А ведь волынский князь Василько Романович был куда более сильным противником, чем пинский князь. Силы княжеств были меж собой плохо сопоставимы. Михал Владимирович, расхаживая по стене, подёргивал свою бороду, теребил одежду, в пол уха слушал ближников, но не находил даже призрачной тени выхода из сложившейся ситуации.
Горожане чувствовали себя не лучше. Все приготовления ими делались неохотно, без энтузиазма и веры в собственные силы. Котлы, с кипящей смолой, установленные на стенном парапете устрашали больше самих пинчан, нежели их врагов. В скорой и кровавой расплате, в случае применения котлов по прямому назначению против смоленских войск, мало кто из пинчан сомневался. И ладно бы так вели себя только лишь горожане! Дружинники князя в этот день и час смотрелись бледными тенями самих себя. В победу над врагом эти ратные мужи верили ещё меньше неопытных в воинском деле горожан. Упаднические настроения распространялись с быстротой заразного морового поветрия.
И Михал Владимирович не выдержал психологического прессинга. Свою независимость он думал отстоять, противостоя ослабленному противнику, а не этому явившемуся под стены хищнику, пышущему охотничьим азартом. Пинский князь, заворожённо глядя на изготавливающегося к бою противника, приказал, словно не своим голосом, действую как сомнамбула, открыть ворота, а войску разоружиться и сойти со стен. Принятое князем решение все защитники города встретили с плохо скрываемым облегчением.
Михал Владимирович, спустившись со стены, велел подать ему коня и в сопровождении пятерых именитых бояр выехал в стан победителя. Смоленские войска, вытянувшись колоннами, беспрепятственно пропускали пинских гостей сквозь свои эшелонированные порядки, но на подъезде к шатру смоленского князя пинский князь был остановлен конной охраной. Его вместе с боярами обыскали, заставили сдать всё оружие и спешиться. К смоленскому володетелю пинчане подходили уже пешком. Владимир Изяславич в шатре величественно восседал на покрытым золотом резном стольце в окружении своих ближних воевод.
Прямо в шатре, в присутствии войсковых церковнослужителей были составлены грамоты, скрепленные государственными печатями. Михал Владимирович отрекался и передавал Пинское княжество «во веки вечные» смоленскому государю и его наследникам. Пинское княжество ликвидировалось, превращаясь вместе с Туровым в Припятьскую область, во главе с назначаемым смоленским государём губернатором. Сам бывший пинский владетель получал наследуемую вотчину под городом Кричев Смоленской области. Эти грамоты были торжественно оглашены пинчанам, и в тот же день горожане целовали кресты с иконами во всех городских храмах и часовнях, тем самым подтверждая свою верность новому государю.
Весь следующий день в городе служились многочасовые молебны в честь обретения Пинском своего нового государя. Кроме того, был устроен невиданный по своему размаху пир. Казалось, что все улицы города были уставлены ломящимися от яств столами. Теперь, перед введёнными в город смоленскими войсками никто из горожан не испытывал страха. Наоборот, смоляне и пинчане братались за чашами хмельного вина, с радостью провозглашая тосты в честь смоленского государя и единой Смоленской Руси.
С колокольни городского собора Пинска открывался прекрасный вид на полноводную Припять. На лугу мирно паслась домашняя скотина, своим видом создавая идиллическую картину. Под городскими стенами, рядом с живительными, дарящими тень зарослями, расположились лагерем пехотные рати. Войска отдыхали уже пятый день, что прошли с момента сдачи города.
Из этой благостной обстановки послеполуденного отдыха мой взгляд неожиданно зацепила несшаяся с верховьев Припяти галера, активно вспенивающая воду вёслами. При помощи подзорной трубы на носу лодки удалось разглядеть и узнать комбата пятнадцатого батальона Белослава прикомандированного к грузовой части флота, сейчас самостоятельно поднимающегося по направлению к волоку на Западный Буг. Белослав внимательно вглядывался в ратников, расположившихся у речного причала, ища там знакомые лица, из числа командного состава. Вот он первым по откинутому с галеры настилу спустился на берег. Вступив на причальные мостки, Белослав сразу же обратился к дежурному командиру, а затем, не задерживаясь ни на секунду, быстрым шагом пошёл по направлению к моей колокольне.
– Видать что – то случилось, – услышал снизу чей – то озабоченный голос.
Надолго задуматься не удалось. Через пару минут по узкой лестнице ко мне проворно пробрался телохранитель. Его высунувшаяся из хода голова проговорила:
– Государь, вестовой от полковника Олекса! У него срочные известия!
– Пускай сюда поднимается, – мне категорически не хотелось покидать эту наблюдательную позицию, с которой так удобно подсматривать за райским уголком – стадом скота пасущегося на сочном, заливном луге, омываемым искрящейся на солнце рекою.
Вспотевший вестовой в лице комбата пятого Вяземского полка, звеня доспехом, буквально взлетел по лестнице.
– Здравия желаю государь! – поднявшись, комбат вытянулся в струнку, и бодро откозырял.
– С чем прибыл, Белослав?
– На Западном Буге появились ляшские рати! – взволнованно отбарабанил комбат. – Они с ходу взяли Дорогочин, спалили Берестье. Оборонять города некому, князь Василько большую часть городских полков к нам навстречу увёл.
– Откуда дровишки?
– Что?
– Откуда всё это узнали?
– Перехватили северо – волынских бояр из Дорогочин и Берестье. С этими вестями они плыли в свою столицу – Владимир – Волынский.
– Я не понял! Поляки действуют самостоятельно или как союзники Михаила Черниговского!?
– Не известно это было перехваченным боярам.
– Ладно, без разницы – я махнул рукой. – Вскоре, что так, что этак все эти города и земли станут моими. Какова численность поляков, состав войск?
– По словам уже помянутых бояр, ляхов несколько тысяч, но не больше десяти. Основа войска – пешцы лодейной рати, но присутствует также рыцарская конница. Всего около трёх сотен конников. Среди рыцарей были замечены «Добринские братья».
– «Добринский орден»? – удивился я. – Так, он, если мне не изменяет память, в прошлом году, с благословения папы, был поглощён Тевтонским орденом.
– Волыняне говорят, что с поляками около полусотни орденских немцев, причём пришли они под символикой «Добринского ордена».
Я задумался. Этот рыцарский орден был основанный в городе Добрине Кристианом Прусским по приказу Конрада Мазовецкого при участии епископов Пруссии, Куявии и Плоцка в 1228 году для защиты от набегов пруссов, а также в качестве политического противовеса Тевтонскому ордену. Хотя Орден формировался преимущественно из немцев, но и местная польская шляхта тоже привлекалась в его ряды.
– Раскинем мозгами сообща, – прервал я затянувшееся молчание. – Спустись и передай, чтобы созывали военный совет. Сам тоже на него явись!
– Слушаюсь государь!
Комбат с шумом спустился, а я, бросив прощальный взгляд на величественные, убаюкивающие воды Припяти, вскоре последовал вслед за ним.
Конный отряд поляков, дислоцированный в Берестье, без боя, впопыхах покинул город – остров, лишь завидев приближение огромного гребного флота. Переправившись по мосткам на «большую землю» они поскакали вдоль берега Западного Буга на северо – запад, по направлению на Мазовию.
Берестье, будущий Брест, словно вымер. Многие деревянные постройки превратились в угольные кучи. В обезлюдевшем городе витал сильный запах гари. А в уцелевших домах хозяйничали шайки мародёров, грабя всё подряд. Большая часть горожан, сразу после штурма сбежала из города, и сейчас обретается где – то в его окрестностях. Подразделения пехотинцев, немедленно приступившие к патрулированию, передвигаясь по улицам, поднимали облака пыли, смешанные с золой, создавая вокруг себя непроглядный туман.
Уже здесь нам удалось выяснить, что на Волынь, по любезному приглашению Михаила Черниговского, пожаловал со своим войском сам Конрад Мазовецкий, да ещё и немцев с собой притащил! Этот тип, до недавних пор, между прочим, считался главным союзником братьев Романовичей в Польше. Ну, Михаил, ну сукин сын! Ни хрена не известил, сподобился – таки, жучара, подбросить на мою голову «клятых ляхов». Последние свои мысли я, незаметно для себя, высказал вслух, на что тут же получил возражения от Малка.
– Государь! Михаил может вовсе и не со зла тебе поляков пограбить Волынь созвал. Он сейчас с Даниилом Галицким, братом твоего ворога Василька, борется! Вот и пытается, как может, хоть часть сил братьев отвлечь от себя.
– А чего же тогда меня о поляках не известил?
– Так может он и сам не знал, придут ляхи, али нет. Помощи у Конрада в сём деле испросил, ну а Конрад – «сам с усам», когда захотел, тогда и явился, а мог и вообще не прийти. Хотя о своих планах Михаил по – хорошему, должен был бы заранее известить, – под конец задумчиво протянул полковник.
– Вот и я о том же! Чёрт с ним, с Михаилом! Ну, один хрен, мне поляки, на моих Волынских землях нужны только в качестве удобрения в земле!
– Придётся тогда идти за ними…
– Судовая рать плывёт медленно, со скоростью, двигающейся вдоль берега конницы, а конницу сильно подтормаживает огромный обоз с полоном и награбленным добром …, – обдумывая ситуацию, я нервно забарабанил пальцами.
– Истинно так, государь! – посчитал нужным вставить свои две копейки Злыдарь.
– Сегодня заночуем в Берестье, а завтра с утра выдвинемся вслед за поляками. Предупредите войска, пускай пока устраиваются на отдых, завтра им силы понадобятся! – этим распоряжением я закончил военный совет.
Ратьеров, серьёзно тормозивших галеры, решено было оставить в Бресте, преследуя драпающих поляков лишь только силами судовой рати.
Поляки, двигаясь по направлению к ранее захваченным городам Мельник и Дорогичин, оставили за собой отчётливо видимый след. В полях и деревнях попадались неубранные трупы местный пейзан, а на горизонте ото всюду виднелись дымы пожарищ. Клубы едкого дыма смешивались с утренним туманом, давали просто тошнотворный результат, резали глаза. Недозрелые ржаные поля были попорчены, напрочь вытоптаны польско – рыцарской конницей.
Этим же вечером передовые галеры застали поляков у городка Мельник. Польская судовая рать выгрузилась, оставив свои ладьи у городского причала, а прямо у стен города поляки разбивали лагерь. По всей видимости, намеривались дать полевое сражение своим преследователям.
Атаковать лагерь сходу не стали, не хотелось, чтобы Конрад, подобно Василько, сбежал со всей своей конницей. Поэтому свои галеры мы разгрузили в трёх километрах от Мельника. А утром следующего дня мы вышли к польскому лагерю.
Лагерь раскинулся в удобной долине вблизи хлипких тыновых городских стен Мельника. Разведка вывела полки таким образом, что нас с поляками разделяла речушка, заросшая по берегам ольхой и ивами. Пикеты заслона, установленные поляками на нашем берегу были легко сбиты, походя.
Выехав на пригорок, я отчётливо разглядел сотни разноцветных, с преобладанием белого, четырёхугольных шатров. Над самыми массивными цветными шатрами развевались на ветру флажки и знамёна. Особняком расположились «Добринские братья». Над их лагерем веял белый флаг с красным стоячем мечом со звездой над ним.
Но с чисто утилитарной, военной точки зрения, лагерь производил удручающее впечатление. Никакого порядка и элементарной дисциплины не было и в помине. Шатры лепились друг к другу как попало. Никаких оборонительных сооружений, защищающих лагерь, тоже не было заметно – просто приходи и бери их за филейную часть голыми руками!
Завидев нас, поляки начали судорожно метаться, в лагере воцарилась неимоверная, бестолковая суета. А мне уже докладывали:
– Пушечные расчёты с орудиями заняли позиции и готовы открыть огонь по лагерю!
– Не будем пока их раньше времени пугать. От нашей пальбы они могут просто разбежаться, оставшись безнаказанными за свою татьбу в моих землях.
Польское войско состояло из тяжелой конницы, привыкшей действовать преимущественно ударом, шоком. И сейчас они намерены были действовать сходным образом, выставив на своём правом фланге многотысячные пешие рати. Разделявшая нас с противником речушка для конницы не являлась серьёзным препятствием, она была довольно мелкая, с пологими берегами.
Дело началось энергичной атакой польских пеших ратей, которые под беспрестанным обстрелом наших стрелков – лучников и арбалетчиков, ещё даже не добравшись до русла реки, уже успели расстроить свои силы, атакуя наши, выстроившиеся вдоль берега полки, не стройной толпой. Артиллерию я пока берёг для более знатного, конного противника, который сейчас, под прикрытием атаки своих пешцев начал обходной маневр, намереваясь обрушиться на нас с тыла.
Воевать перевёрнутым фронтом для моих полков вообще не проблема, но на правом фланге была сосредоточена вся артиллерия, поэтому, чтобы прикрыть сейчас занятые боем с пехотой противника центр и левый фланг, я отдал команду развернуть полки правого фланга на девяносто градусов. Самое главное, что пока шла переправа вражеской конницы, всю артиллерию удалось оперативно передислоцировать – перекатить и развернуть.
Что же касается польских пешцев, то они уткнулись в непреодолимую стену из копий, пробиться сквозь которую у них не было ни сил, ни особого желания. Тем более лучники прицельно расстреливали весь этот польский сброд из – за спин присевших на колена пикинеров, отчего и так всерьёз обескровленные ряды поляков, заваленные раненными и трупами, редели ещё быстрее, к тому же всё больше и больше пешцев начинало «линять» в сторону своего обезлюдевшего лагеря.
Наконец, переправившаяся на наш берег конница Конрада Мазовецкого устремилась в атаку. Накатывающие на правый фланг конные дружинники, во всё горло крича боевые кличи, начали опускать копья наперевес, примериваясь для разящего таранного удара по спешенному противнику.
Вот первые ряды конников миновали рубеж в четыре сотни метров – войдя в зону поражения ближней картечи. Раздались сигналы труб и дублирующие их выкрики командиров. «Заговорила» полковая артиллерия, пехоту сразу окутали густые облака порохового дыма, а громкий грохот орудий причудливо соединился с противным визгом чугунных картечин. Вскоре, практически «вслепую» из – за окутавшего всех дыма заработали лучники – на врага с металлическим шелестом полился целый дождь из стрел.
По всему фронту наступления противника начали образовываться и быстро разрастаться завалы из агонизирующих тел людей и животных. Эта печальная участь в первую очередь постигала плохо доспешных дружинников, облачённых в кожаные доспехи. Но, не смотря на наши локальные успехи, решительности и мужества оставшимся «в строю» всадникам было не занимать. Подстёгивая ногами коней, они объезжали завалы и продолжали нестись, желая лишь одно – как можно быстрее врубиться в ряды ненавистных русичей.
Но рвущихся вперед рыцарей повторно и более эффективно «причесал» ужасающий залп десятков орудийных стволов. Спотыкнувшиеся о смертельно жалящий металл кони на полном ходу перебрасывали через голову своих наездников, другие кони заваливались наземь, взбивая копытами воздух и раздавливая своей тушей седоков. Даже уцелевшие кони начали останавливаться, взбрыкивать и словно пьяные шарахаться по сторонам. Совсем непривычная к артиллерийскому бою конница так и не доскакала до позиций полков, окончательно встав у образовавшихся многочисленных кровоточащих завалов. Целых и невредимых среди этих «счастливчиков» практически не наблюдалось – у многих из щитов и даже доспехов торчали стрелы. То, что этой толчеёй они изображают из себя прекрасную неподвижную мишень до них, похоже, ещё не доходило. Поляки с немцами принялись жарко обсуждать свои дальнейшие намерения, кричали, размахивали руками.
Раздались команды звуковой и флажной сигнализации, передние ряды пикинеров присели на корточки. Повинуясь командам, прицельную пальбу начали арбалетчики. Лучники тоже перешли с навесной стрельбы на настильную.
Редкие стайки болтов и куда большие скопления стрел со зловещим шелестом принялись бодро расчерчивать разделяющие противоборствующие стороны пространство. Глухие удары арбалетных и лучных тетив отзывались доносящимися с той стороны душераздирающими воплями боли, страха и неистового конского ржания.
Окончательно эта импровизированная «дискуссия» внезапно оборвалась, стоило лишь пушкарям перезарядить свои орудия, возобновляя свою прицельную, оттого особенно губительную пальбу. Повторные орудийно – ружейные залпы, дополнительно приправленные выпущенной тучей стрел и арбалетных болтов, повергли атакующую польско – немецкую конницу в ужас. Захлебывающиеся в крови конники пребывая в полном смятении, подавшись тлетворному действию внезапно охватившей их всех панике, стали резво разворачивать своих коней в противоположную сторону и безудержно понеслись во весь скач назад, преследуемые колючим стрелочно – арбалетным дождём.
Конрад Мазовецкий хоть и участвовал в атаке своей конницы, сумел выжить. Во время отступления под ним была ранена ло¬шадь, и он только чудом избежал плена. Жалкие остатки поляков с немцами даже не пробовали укрыться под хлипким частоколом стен городка Мельник, сразу направившись в северо – западном направлении, в сторону польских земель.
В плен удалось захватить пару сотен поляков из пеших судовых ратей. Перехватить, давших стрекоча, основную массу польских пешцев, в условиях отсутствия у нас ратьеров, не было особых возможностей. А в самом городе Мельник обнаружились несколько тысяч человек русского полона, который прямо на месте был освобождён и разошёлся по прежним местам своего жительства.
У речных причалов Устилуга заякорился на отдых галерный флот. У стен этого города в реку Буг впадала река Луга, а в дневном переходе от Устилуга находилась столица Волынского княжества – город Владимир – Волынский. Часть войск – полки: 2–й Смоленский, 4–й Дорогобужский и 10–й Полоцкий под командованием назначенного старшим Клоча, продолжили сплавляться вверх по Бугу, перед ними ставилась задача по захвату города Волынь.
Прежде чем начинать поход на Владимир – Волынский, в Устилуге – важнейшем узловом пункте, планировалось организовать нашу временную тыловую базу. Войска располагались как внутри самого городка, так и в его пригородах. Местный монастырь, укреплённый бревенчатыми стенами, пришлось брать с боем. В нём потом разместили ставку.
При моём появлении из ворот монастыря, под вооружённым конвоем, выходили две сотни монахов в чёрных рясах и с котомками в руках, шествующие во главе со своим настоятелем. Монастырь я планировал вскоре перепрофилировать, разместив в нём в скором будущем учебные роты одного из Владимиро – Волынских полков. Хоть в самом Устилуге вряд ли получится рекрутировать больше батальона, но здешняя природа богата на популяцию homo sapiens, местность изобилует множеством деревенек, где можно будет набрать недостающую пару батальонов.
– Государь! – ко мне подбежал Малк. – На территорию монастыря введён третий полк. У монастырских ворот поставлены посты, на стенах посменно будет стоять одна из полковых рот. Под контроль также взяты входы – выходы в помещения, внутри домов – коридоры, лестницы, входы в комнаты.
– Государь, внутренности монастыря проверили! – первого докладчика сменил подошедший Сбыслав – начальник моей конной охраны. – Осмотрели все дома, постройки, подвалы и погреба, чердаки. Посторонних лиц нигде не обнаружено!
Я согласно кивнул головой и вместе с воеводами проследовал в обеденный зал. Пока посовещаемся, а там глядишь – и обед подоспеет! Ведь мои повара уже вовсю хозяйничали на местной кухне.
– Государь! – меня нагнал политработник. – Войсковые священники спрашивают, можно ли им провести торжественное богослужение в монастырском храме.
– Молиться тихо могут и наши церковнослужащие и все свободные от несения службы воины. Но никаких торжественных мероприятий! Им ещё предстоит помочь подготовить жителей Устилуга к принесению мне присяги! Так, что передай им мои слова.
– Слушаюсь! – отдал честь и чётко развернулся быстро удаляясь.
А мы с воеводами продолжили свой прерванный путь. Предстояло обдумать, как одержать решительную победу, венчающую всю нашу летнюю военную кампанию. Оставшиеся города Волынского княжества без своего князя и в виду отсутствия сильных гарнизонов не были для нас серьёзным препятствием. Тем более на юге, в Галиции, по данным разведки, мой черниговский союзник вполне успешно громил Даниила Галицкого – родного брата нашего волынского князя.
По указаниям князя и бояр горожане Владимира – Волынского загодя готовили город к обороне: подновили стены и башни, углубили рвы. Но, не смотря на это, простой народ был отнюдь не единодушным, волынянам было, по большому счёту, безразлично кто именно будет у них князем – Василько ли, Владимир Смоленский или Михаил Черниговский. Меньше всего им хотелось проливать свою кровь в княжеской междоусобице, тянувшейся уже и так не первый год, а тут ещё и новые действующие лица из Смоленска появляются. Бояре тоже были далеко не единодушны – захват смоленским князем не одного десятка городов, княжеств и уделов, разгром литовцев, а недавно и волынских полков, заставляли их серьёзно призадуматься, стоит ли в начавшейся борьбе ставить на братьев Романовичей? Многие на этот вопрос ответили отрицательно и сбежали со своими дружинами к надвигающемуся на Владимир Волынский войску. Наиболее осторожные из бояр предпочли держать нейтралитет и уединиться в своих вотчинах.
Бегство бояр спровоцировало народные выступления. Люди уже знали, что Василько был намерен отсиживаться за стенами столицы, изматывая войска противника и дожидаясь «мифической» помощи от брата – Даниила Галицкого, который сам увяз в борьбе с Михаилом Черниговским.
Волыняне были наслышаны о подвигах смоленского князя, а оттого не безосновательно считали, что смоляне смогут, как минимум овладеть окольным городом и посадом, причинив, тем самым, горожанам имущественный урон, что ещё более усиливало ропот. А случившееся 3 августа солнечное затмение вызвало в городе у суеверного народа самую настоящую панику.
Примерно такие же упаднические настроения, преобладали и в княжеском детинце. К Василько Романовичу чуть ли не ежедневно вместе с гонцами приходили всё новые донесения о перемещении речных и конных ратей врага по Волынской земле. День за днём всё дальше продвигались Владимировы рати по Волыни. Уже занята Берестейская земля, а вчера утром стало известно о том, что вражеские рати подобрались вплотную к столице, заняв Холмскую землю. И самое обидное, что тот же Холм был взят Владимиром не без предательства, перешедших во вражий стан холмских бояр.
Да и в столице с боярами творилось что – то неладное, думал Василько, с горькой усмешкой оглядывая сильно опустевшие лавки в гриднице. Появление Владимира в волынских землях сразу выявило всех тех, кто был против Василько, кто за его спиной строил козни и общался с врагами – сейчас лавки этих бояр пустовали. Да и на оставшихся бояр волынский князь не мог положиться в полной мере. Поэтому, покидать столицу ни в коем случае нельзя. Ведь самые хитрованы, оставшись в покинутой Василько столице, могут переметнуться к Владимиру, вынеся ему навстречу ключи от города.