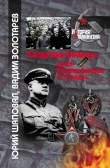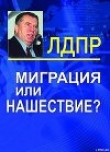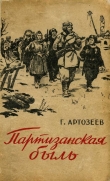Текст книги "Вперед, на запад!"
Автор книги: Алексей Федоров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
*
Охота на вражеские эшелоны продолжалась. Вскоре наши минеры стали поднимать вражеские поезда на воздух и днем нисколько не хуже, чем ночью. И хотя количество составов, направляемых через Ковельский узел, значительно уменьшилось, число сброшенных под откос в августе возросло до 209, то есть больше, чем втрое.
Мы стали получать в изобилии новейшую подрывную технику. Для достижения успеха это имело решающее значение. Однако мы не забывали сталинского указания, что "техника без людей мертва". Овладеть передовой минно-подрывной техникой и полностью использовать ее возможности на железнодорожных коммуникациях – вот в чем мы видели свою цель.
Я уже говорил, что еще в Боровом было подготовлено свыше трехсот подрывников-минеров. Теперь их распределили между всеми нашими батальонами и ротами. Но все-таки подрывников было мало. Новый отряд Кравченко мы уже не смогли обеспечить подготовленными кадрами. Кравченко, его комиссар Накс, начальник штаба Разумов, старый подрывник Владимир Бондаренко вынуждены были сами готовить минеров. А немного погодя у нас образовалось еще несколько отрядов, батальонов, бригад – и все они тоже сами готовили для себя подрывников.
Главной задачей, поставленной обкомом и командованием, была задача массового применения новых, только что полученных нами мин замедленного действия, с электрочасовым механизмом. Раньше подрывник дергал за шнур, когда паровоз уже наезжал на мину. Минер и все, кто ему помогали, все, кто его охраняли, должны были присутствовать при взрыве, отходили только после того, как эшелон слетал с рельсов. А мины замедленного действия можно было устанавливать на разное время, даже на несколько суток вперед, установить и уйти. Мина, поставленная ночью, взрывалась днем, вечером, когда наступал заданный ей срок действия. Нужно было только так спрятать мины, чтобы обходчики, немецкие саперы, специально натасканные собаки – никто не мог их обнаружить.
Потом мы поставили перед собой новую, не решенную конструкторами, задачу: сделать мину неизвлекаемой. Пусть вражеские саперы найдут ее вытащить или обезвредить мину они не смогут, только взорвать, а это значит разрушить какой-то участок пути.
И мы решили эту задачу. Сто двадцать предложений сделали партизаны-подрывники, и вот коллективными усилиями была создана кнопка неизвлекаемости, приспособление весьма совершенное – крупные специалисты, командированные из Берлина, поплатились жизнью за попытку раскрыть этот секрет.
Массовые крушения выводили из строя сотни паровозов, вынужденное снижение скорости требовало увеличения подвижного состава в пять-семь раз против нормы. Топлива тоже расходовалось несравненно больше. Гитлеровцам пришлось значительно расширить парк паровозов и вагонов, следовательно, уменьшить производство танков, орудий, автомобилей.
То, что немцы, несмотря на колоссальные потери, упорно посылали по партизанским дорогам и грузы, и людское пополнение, говорило о том, что они готовы идти на любые жертвы, лишь бы не удлинять путь к фронту. С началом мощного неудержимого контрнаступления наших войск на орловско-курском направлении и на Украине потери гитлеровцев стали умножаться с небывалой скоростью. Приходилось подбрасывать в гораздо больших количествах и войска, и технику, и продовольствие. Южные железные дороги были, конечно, для немцев безопаснее, но по ним большей частью перевозились зерно, фураж, мясо. Балканские страны стали основными поставщиками продовольствия как для германского тыла, так и для фронта. Вот почему немцы не могли отказаться ни от украинских, ни от белорусских железных дорог, которые теперь даже в официальных штабных документах оккупационное командование именовало "партизанскими".
Никогда еще за всю нашу историю партизаны не уделяли так много внимания технике, изобретению разного рода приемов минирования. Генеральному штабу германской армии пришлось создать специальное бюро по борьбе с партизанской техникой. В него вошли и представители железнодорожных компаний, и инженеры-саперы, и разведчики-диверсанты. Начиная с середины июля 1943 года, недели не проходило, чтобы не появилось какое-нибудь организационное или техническое новшество для борьбы с нашими минерами. Надо было быстро отвечать на хитрости, уловки и технические новшества немецких специалистов... До самого конца партизанской войны, до тех пор, пока мы не выдворили оккупантов за пределы нашей Родины, изо дня в день работала партизанская смекалка, давая все новые и новые примеры находчивости.
В первое время, когда мы только начали установку мин замедленного действия, части охраны железных дорог полагали, что взрывы производятся обычными средствами – минами на шнур, на палочку или конструкциями нажимного действия.
На участке между Луковом и Люблином партизаны установили семь новых мин на разные сроки. Через два дня первый эшелон полетел под откос. Немцы расстреляли сторожа и усилили охрану, состоявшую из поляков. Взорвался второй поезд – немцы сняли местную охрану и поставили своих солдат. Взорвалось еще два поезда – прибавили к солдатам группу эсэсовцев. Но и это не помогло – опять полетел под откос поезд. Немцы оградили весь этот участок колючей проволокой – и крушения прекратились. Оккупанты расхвастались – послали командованию торжественный рапорт. А дело было просто в том, что мины на этом участке кончились. Они стали взрываться на другом участке.
У железных дорог всюду появились грозные надписи: "Запретная зона! За нарушение расстрел!" Солдат стали премировать деньгами и отпусками за поимку людей в запретной зоне.
Через каждые пять километров охрана соорудила стрелки-переводы с одного пути на другой. У насыпи возвели дзоты, вырыли окопы. Не хватало солдат, и оккупанты стали собирать по окрестным селам собак, привязывать их к колышкам, вбитым в насыпь. При подходе эшелонов сельские собаки, никогда не видевшие паровозов, срывались с цепи, бесились от страха. Были случаи, когда ночью на привязанных собак нападали волки. Собаки скулили, лаяли, визжали почти беспрерывно. Толку от них немцам было мало.
Тогда на железных дорогах появились выдрессированные на запах тола ищейки. Партизаны стали посыпать подходы к закопанной мине нюхательным табаком – растертой махоркой. Но махорки самим не хватало, и вскоре был найден другой способ борьбы с ищейками: начали разбрасывать и закапывать вдалеке от установленной мины крохотные кусочки тола. Собаки бросались из стороны в сторону, рыли лапами насыпь там, где ничего не было. Разъяренные солдаты хлестали своих породистых псов нагайками – не могли понять в чем дело: тол – желтый, маленькие его кусочки в песке человеческому глазу незаметны.
Впереди паровоза немецкие железнодорожники ставили одну или несколько груженных камнем и песком платформ. Однако мины рвались не под ними, а под паровозом. Для достижения этого наши товарищи произвели расчет прогиба рельс. Убедившись, что перевозка камней не приносит никакой пользы, противник бросил эту затею, стал пропускать специальные контрольные составы: паровоз или автодрезина и один вагон, за которым тянулись цепи, оставляя на песке насыпи желобки. Это, чтобы патрули, обнаружив перерыв в таком желобке, приняли меры. Но, во-первых, такие следы цепи оставляли только в сухую безветренную погоду (дождь желобки размывал, ветер заметал), а во-вторых, это "изобретение" доставляло патрулям массу хлопот – партизаны разрывали и прерывали желобки местах в двадцати слева и справа: попробуй тут разбери, где мина!
Пробовали немцы красить балластный слой мелом, и это не помогло: партизаны запаслись ведерками с разведенной краской.
На железной дороге Ковель – Сарны, близ станции Трояновка, охрана применила такой способ: с наступлением темноты на каждые триста метров пути поставили по человеку, мобилизованному из местных жителей. Всем дали по железному ломику и приказали раз в десять минут ударять по рельсу. Если же увидит такой стукач что-либо подозрительное – он должен ударить дважды. Остальные тоже стукнут по два раза, и так двойной этот стук дойдет до ближайшей охранной будки. Оттуда немедленно выедет бронедрезина, а с ней охранный отряд. Тогда нашим командирам подрывных групп был дан приказ незаметно снимать стукачей в четырех-пяти местах одновременно и на двух освобожденных участках ставить мины, а на других копать ложные ямы с сюрпризами против патрулей противника.
После того как было снято сорок стукачей и несколько патрулей взорвалось на сюрпризах, противник отказался и от этого способа охраны дороги.
На железных дорогах Брест – Пинск и Брест – Ковель охрана пыталась скрытно расставлять засады вдоль полотна дороги. Раньше рота охраны шла пешком по шпалам, на каждом участке отделялась группа. Команда давалось громко, и мы, как правило, знали все "точки". Теперь солдат с наступлением сумерек развозили на поездах и заставляли их группами спрыгивать на ходу поезда. Такая группа, обычно 11 – 12 человек, соскакивала сразу из нескольких вагонов и тут же залегала в кустах. Но оккупанты не учли, что солдат, ошеломленный прыжком с поезда, да еще в темноте, может стать легкой добычей партизан. Наши засады против прыгающих немецких засад оказались настолько выгодным мероприятием, что некоторые подрывные группы увлеклись им в ущерб работе по минированию. В самом деле – поймать и разоружить несколько охранников дело прибыльное: у каждого автомат, на худой конец винтовка, гранаты, запас патронов. Наш штаб уже готовил приказ, предупреждающий против чрезмерного увлечения такой охотой. Однако немцы сами догадались прекратить нам массовую доставку "языков" и вооружения.
И все же нашим подрывникам становилось работать все труднее и труднее. Уже на втором месяце нашей Ковельской операции вдоль железнодорожных насыпей валялось огромное количество спущенных под откос вагонов и паровозов. И вот в этих-то обломках собственных эшелонов оккупанты начали прятать группы противопартизанской охраны. Обнаружить их там было нелегко, а обнаружив – выбить оттуда тоже было не просто, особенно после того как оккупанты повырубали вдоль железной дороги леса, попалили кустарник и понастроили бункерные башни: высокие сооружения с двойными дощатыми стенами, между которыми засыпали песок. На таких бункерах устанавливались мощные рефлекторы, освещающие линию на сотни метров. Башни были оснащены пулеметами и минометами...
*
На втором месяце нашей "железнодорожной" практики выработался список обязательных предметов, которые подрывник, выходя на работу, должен брать с собой. Это (кроме, конечно, мины, приспособлений к ней и оружия): лопата, плащ-палатка или одеяло, веничек, фляга с водой. Плащ-палатка или одеяло для того, чтобы вынести на них всю землю, которую вынет минер: веничек, чтобы заровнять и загладить место, где заложена мина; вода, чтобы побрызгать это место, – тогда не видны будут края... Накапливался опыт, его обобщали, делали достоянием всех наших подрывников. Знание выработанных приемов становилось частью квалификации минера, освобождало его от н е н у ж н о г о р и с к а, давало гарантию успеха.
На курсах наши минеры-подрывники получили только самые необходимые сведения. И не только потому, что курсы эти были краткосрочными, лесными, походными. Нет, надо признать, что и самые опытные инструкторы никогда раньше не действовали в таких широких масштабах и никогда не встречали такого организованного технического сопротивления противника. Инструкторам и самим пришлось переучиваться в процессе работы.
Мой заместитель по минно-подрывному делу Егоров ежедневно получал рапорты всех батальонов, рот, групп. Он требовал, чтобы в рапортах этих были не только сообщения о количестве подорванных эшелонов, но чтобы подробно рассказывали, как минировали, как подходили к полотну железной дороги, как маскировались, как разгружали поезд и т. д. Все новое, все ценное Егоров обсуждал в штабе соединения и писал потом инструкции-приказы. Собрав, их и сейчас можно использовать как учебное пособие.
Партизаны-подрывники – это люди, которым, выходя на операцию, приходится смотреть смерти в глаза. Противник их очень боится: они несут на железную или шоссейную дорогу, или к военному объекту снаряд, который, будучи пущен в ход, почти всегда попадает в цель и производит разрушения огромной силы. Поэтому противник принимает все меры к тому, чтобы отклонить удар: уничтожить подрывников и обезвредить мину. Засады, ловушки, мины на путях подхода к коммуникациям, сильная охрана... Пройти к намеченному объекту, добиться результата – то есть произвести нужные разрушения и вернуться невредимым – такова задача подрывника. Это требует ловкости, выдержки, хладнокровия, упорства в достижении цели, презрения к смерти. И, конечно же, риск, которому подвергается подрывник на пути к цели, а также возвращаясь с операции, – очень велик. Это риск, неизбежная, обязательная принадлежность его военной специальности. С увеличением количества проведенных операций риск этот не только не уменьшается, но увеличивается. Противник усиливает охрану, придумывает новые способы борьбы с подрывниками; внезапности достигнуть с каждым разом труднее.
Но, кроме неизбежного риска быть пораженным пулей противника, есть еще другой риск: погибнуть от собственной мины. Существование этого риска тоже в высокой степени романтизирует профессию подрывника-минера, окружает ее ореолом мужества.
"Минер ошибается только раз!" Поговорка эта хоть и не совсем верна, однако в ней отражен тот риск, который принимает на себя человек уж одним тем, что повседневно имеет дело с взрывчатыми веществами.
Человеку, не умеющему обращаться с миной, гранатой, бомбой, брать их в руки, разумеется, не следует Мы ведем речь о людях, хорошо знающих, с чем они имеют дело. И вот эти умелые люди, подрывники, минеры, идут на операцию. Минер, преодолев все препятствия, ползет к объекту. Он заложил мину. Теперь ее надо соединить с взрывателем. Опасно ли это, рискует ли он жизнью?
Минер лежит на животе или стоит на четвереньках, торопится, чтобы его не обнаружил противник, да еще дождь или мороз, или ветер и всегда темная ночь... Он помнит: малейшее неверное движение – капут... Хорошо, если мина замедленного действия, а когда на шнурок, на палочку... нахальная мина! Тут о немецких пулях надо забыть. Мина, она хоть и своя, а так шибанет, рук и ног не соберешь. Кроме того, действует сознание, что если она до времени сработает, так мало минера – и товарищей приголубит!
Значит, и риск второго рода обязателен?
Он есть. С этим спорить нельзя. Но чем лучше подрывник знает свое дело, чем он опытнее, спокойнее, хладнокровнее, тем риск этот меньше. Не гордиться им надо, а добиваться, чтобы сделать его минимальным, свести на нет, сохранив тем самым жизнь наших людей и нанося противнику больше ударов.
*
В 1941 и 1942 годах, когда не было у нас новейшей минной техники и очень немногие умели обращаться с толом, тех, кто шел на подрывную работу, считали отчаянными ребятами. В то время рвали поезда исключительно на шнурок и на палочку. Минер ставил мину, когда уже видел поезд, и чем позднее он ставил мину – тем больше была и гарантия успеха. Машинист, увидев человека на рельсах, немедленно тормозил. Приходилось так близко подпускать поезд, чтобы и тормоза не помогли.
Репутацией отчаянных хлопцев наши подрывники очень гордились. Бравировали своей храбростью и неуязвимостью. Держались особняком. Подрывники были выделены у нас тогда в особое подразделение. Руководили подрывными операциями люди исключительной личной храбрости – такие, как Балицкий, Кравченко, Артозеев.
Не знаю, удалось ли Георгию Артозееву, ныне Герою Советского Союза, хоть под конец войны немного умерить свое лихачество, вызывавшее чрезмерную растрату взрывчатки. Под маленький мостик он клал с обеих сторон по ящику тола, отбегал всего на десяток метров и ложился – так, мол, безопаснее.
– И балки, и перила, и доски летят через меня. Даже песок опускается за мной.
– Зачем, Жора, – спрашивали у него, – ты ложишься лицом вверх? По инструкции полагается ложиться ничком. Попадет еще ненароком что-нибудь в глаз или обожжет.
– Мало ли что напишут в инструкции! А мне, может, интересно посмотреть. Все ж таки моя работа! Трусы в карты не играют.
Сначала командование да, признаться, и я сам смотрел на такое лихачество сквозь пальцы. И многие подрывники стали щеголять им не только в боевой обстановке.
На Волыни мы категорически, под страхом серьезного наказания, запретили глушить толовыми шашками рыбу в реках. Но еще на Уборти партизаны часто прибегали к этому варварскому способу рыболовства. И высшим шиком считалось глушить рыбу шашками с коротким шнуром. Таким коротким, чтобы взрыв произошел до того, как шашка достигнет дна, а еще лучше – на самой поверхности воды.
Кончилось это тем, что у одного лихача шашка взорвалась в руке и тяжело его ранила.
Охотились с помощью тола на зайцев и косуль: делали крохотные шашки с приманкой. Во взводе подрывников во время дождя разжигали толом костры: разотрут, присыпят порохом и сунут в хворост. Костер разгорался не хуже, чем политый бензином.
Бывали случаи и другого рода лихачества подрывников.
Командир взвода Слепков, тенор и большой сердцеед, ухаживал за молодой поварихой Полей. Он долго очаровывал ее своим голосом и, наконец, однажды вечером похвастал в кругу друзей, что этой ночью заберется к ней в палатку. Тогда Миша Глазок, очень изобретательный и ловкий подрывник, решил проучить этого сердцееда... Часа в два ночи весь лагерь был потревожен взрывом, происшедшим где-то неподалеку от штаба. Народ сбежался на поляну. По ней метался из стороны в сторону, потрясая кулаками, и что-то кричал Слепков. Тут же стояла перепуганная Поля. А Миша Глазок с товарищами, держась за животы, хохотали.
Оказывается, Миша подвесил на верхушке сосны семидесятипятиграммовую шашку, протянул от нее проволоку к корням дерева и дальше, к входу в Полину палатку. Комвзвода, пытаясь проникнуть к Поле, задел ногой за проволоку, дернул ее и вызвал тем самым взрыв.
До приезда в соединение Егорова наши подрывники относились к толу запросто, хранили его как попало, резали, раскладывали, упаковывали в ящики в любых условиях, даже во время движения колонны. Детонаторы носили в карманах. И никого не удивляло, если подрывник ехал на возу с взрывчаткой, а в карманах у него побрякивали – в одном детонаторы, а в другом – пистоны. В этом тоже видели шик.
Егорову, когда он стал вести борьбу с нарушителями правил хранения и перевозки взрывчатых веществ, пришлось выслушать немало насмешливых замечаний:
– Не бойся, начальник, мы народ привычный!
– Ну что ты, товарищ Егоров, шум зря поднимаешь? Повоюешь с наше станешь спокойнее относиться!
Как-то Егоров пожаловался мне на Павлова.
Павлову, к тому времени уже опытному подрывнику, было поручено принять с самолетов груз – взрывчатку и взрыватели, в подмогу ему дали двух подрывников – Мустафу и Губкина. Тол сбрасывали нам тогда в мешках. Между брусками тола накладывали большое количество мятой бумаги. Еще больше бумаги бывало напихано в мешки с детонаторами. И вот Павлов и его помощники сволокли все мешки с толом в одно место, вырыли яму, заложили туда весь тол, а прислали его в тот раз немало – несколько сот килограммов, – детонаторы и капсюли отнесли в сторону, потом собрали всю бумагу в кучу и подожгли. Стоят и отдыхают после тяжелой работы, греются у костра. Прибегает на огонь Егоров:
– Что вы делаете! Тушите немедленно, яма с толом открыта.
– Не беспокойтесь, знаем! Не в первый раз, – с большим апломбом отвечает Павлов. – Что может случиться?
– Мало ли что. А вдруг детонаторы!
– Откуда они здесь!
Только Павлов сказал это, как в костре что-то выстрелило. А потом еще и еще. Тут хлопцы всполошились. Давай скорее засыпать костер землей. Обошлось! А ведь могла произойти страшная катастрофа: недалеко от этой ямы были заложены еще две ямы с толом, в общей сложности около пяти тонн. Взрыв в одной яме вызвал бы по детонации взрывы и в других ямах.
Лихачество, беспечность искоренялись с большим трудом. Надо признаться, что так до конца мы и не смогли справиться с этими тяжелыми грехами.
Как-то я присутствовал на занятиях Федора Кравченко с новым пополнением подрывников.
– Вот как присоединяется бикфордов шнур к корпусу капсюля-детонатора! – ровным, как всегда, голосом объяснял своим слушателям Кравченко. – Вставляйте шнур, потом зажимаете... – С этими словами он взял в зубы алюминиевую трубку детонатора, сжал и дал посмотреть молодому партизану. – Передайте дальше. Посмотрите, товарищи, внимательно. Но имейте в виду – если вы сожмете на полсантиметра дальше или слишком сильно, детонатор может взорваться. В этом случае оторвется нижняя челюсть...
Я напомнил Кравченко, что существуют специальные обжимки – род плоскогубцев.
– У меня на весь отряд одни, товарищ генерал.
– Да что ты! Я скажу Егорову, надо поискать, чтобы снабдить каждого.
– Не трудитесь, товарищ генерал, все, что было, разобрали подчистую, я уже спрашивал...
– Можно радировать в Москву, с первым самолетом пришлют.
– Можно, конечно, только...
– Ну, говори! Что ж ты не договариваешь?
– Не нужны они, товарищ генерал. Те, что были, ребята давно побросали. Неудобно, лишняя тяжесть в кармане. И, знаете, традиция. Зажимали с самого начала зубами...
– Но ведь совершенно напрасный риск!
– Не скажите, товарищ Федоров. Подрывник с первого дня должен учиться преодолевать страх. Так я считаю.
Я все-таки радировал в Москву с просьбой прислать обжимки, и их нам прислали, но пользоваться ими наши подрывники стали только зимой, с наступлением морозов, когда неприятно было брать металлическую трубку в рот: губы примерзают...
Мы боролись со всеми видами лихачества, даже если оно вызывалось благородными побуждениями.
Большой друг и помощник Федора Кравченко – Владимир Бондаренко, прибывший недавно вместе с ним из Москвы, имел уже немалый опыт минера.
Кравченко поручил ему проводить занятия с молодыми подрывниками. По ходу дела надо было ознакомить их и с новой миной замедленного действия. Но Бондаренко, хотя и подорвал до вылета в Москву несколько эшелонов, мины этой никогда не видал. В то время, когда он ходил на диверсии с Балицким, об этих минах у нас знали только понаслышке.
Признаться перед молодыми ребятами, что он, опытный партизан, награжденный за подрывную работу, не знает эту мину, Бондаренко не мог. Сославшись на ухудшение болезни и сказав, что для успокоения нервов ему надо побыть некоторое время в одиночестве, Бондаренко поставил свою палатку за полкилометра от лагеря в густом ельнике. Там он действительно пробыл совершенно один четыре дня. И, вернувшись, отрапортовал Кравченко:
– Товарищ командир отряда, боец Бондаренко явился в ваше распоряжение.
– Выздоровел, Володя?
– Так точно, Федя, выздоровел.
– А что это у тебя в узелке?
– Мина замедленного действия, товарищ командир!
– Так вот, значит, где она была. А я ума не приложу, куда она девалась. Зачем ты ее брал?
– Изучал, товарищ командир.
Оказывается, за эти четыре дня Бондаренко без посторонней помощи разобрал мину на составные части, изучил каждую ее деталь, а потом вновь собрал.
– Теперь могу преподавать!
Когда в ночь на 7 июля группа наших подрывников во главе с Егоровым вышла на железную дорогу, чтобы поставить первую автоматическую мину замедленного действия, произошел такой эпизод.
Во втором часу ночи Владимир Павлов и Всеволод Клоков уложили мину под рельсы. Надо было вставить взрыватель. Момент этот и вообще-то опасный для минера, а тут впервые в боевой обстановке да еще в полной темноте, когда действовать можно только наощупь...
Павлов нащупал мину, потянулся к ней с взрывателем.
– Подожди минуту! – прошептал Клоков.
– Что такое?
– Не волнуйся, все в порядке, Володя. Я только голову положу поближе... Гибнуть – так вместе!
И случай с Бондаренко, и эпизод с Павловым и Клоковым стали мне известны только после войны: ни Кравченко, ни Павлов мне об этом в партизанские времена не рассказывали. Почему? Боялись нагоняя?
Да, надо думать, я наказал бы и Бондаренко, и Клокова. Пришлось бы наказать. Хотя в глубине души я бы, конечно, и гордился ими.
*
К августу 1943 года во всех западных областях Украины и Белоруссии создалась весьма своеобразная обстановка. Оккупанты не только не чувствовали себя здесь хозяевами, но и не пытались уже делать вид, что они здесь хозяева. Главной заботой немцев была теперь охрана коммуникаций и в первую очередь железных дорог. Сколько-нибудь регулярная связь с глубинными районными центрами прекратилась вовсе. Гарнизоны небольших городов и местечек сообщались между собой и с командованием по радио и телефону, но и телефонная связь, если кабель проходил через лес, почти никогда не действовала. Почту доставляли самолеты. Автомобили, если и шли по шоссейным дорогам, то лишь в сопровождении сильной охраны и колонной не меньше, чем восемь-десять машин. Не будет преувеличением сказать, что в таких городках, как Любишов, Камень-Каширск и даже Ковель, оккупанты чувствовали себя постоянно осажденными. Гарнизоны этих городов ни на минуту не снимали круговую оборону.
Теперь не оставалось ни одном области в оккупированной части Украины, где бы не действовало большое партизанское соединение. А мы уже знали, что если в области есть хоть одно крупное соединение, оно вызывает к жизни десятки новых отрядов. Так было на Черниговщине, так стало и после нашего прихода на Волынь.
До нашего прибытия тут действовало несколько отрядов, а также и специальные, заброшенные сюда группы. После же того, как наши батальоны разошлись по области, охватив своим влиянием почти всю ее территорию, местные отряды стали рождаться, как грибы; появлялись новые, обрастали людьми старые. Из-за Буга, с польской стороны, перебрались в наши леса группы бежавших из лагерей пленных. Они присоединялись к нам или к местным отрядам, или сами объединялись в отряды. Никогда еще леса не были так населены! Трудно даже определить, где было теперь больше людей – в селах и местечках или в лесах. Сколько возникло лесных поселений! Именно поселений. Ведь, кроме отрядов, в лесах обосновались и крестьяне, ушедшие из сожженных карателями сел. Они сеяли на лесных полянах и лужках хлеб, садили картофель. Были такие своеобразные хутора из землянок и украинские, и польские, и еврейские, и цыганские. Рассказывали мне, что где-то в глубине болот прячется группа немцев: бежали из концлагеря политзаключенные, к партизанам идти не решились, вырыли землянки, добывают всякими правдами и неправдами пропитание и отсиживаются, ждут конца войны.
Редко, очень редко оккупанты предпринимали теперь попытки прочесывать леса, вообще вести открытое наступление против партизан. И если пытались, то предпочитали направлять против партизан руководимые немцами ОУНовские, бендеровские и прочие националистические банды.
Гитлеровцы, унаследовавшие политику немецких оккупантов 1918 года, старались вызвать у нас хотя бы подобие гражданской войны. Однажды под Любишовом повели наступление против партизанских гарнизонов Фролова и Лысенко весьма организованные части, по внешним признакам бендеровские. В бою они сначала держались стойко – ну, регулярное обученное войско, не иначе! Но когда на них как следует нажали, дали им отведать минометного и пулеметного огня – пошли улепетывать врассыпную. Некоторые попали в руки партизан. Все в фуражках с трезубцами, а один так даже в шароварах. И что же? Оказалось, что и двух слов не знают по-украински – все чистокровные немцы!
Зачем же, спрашивается, они устроили этот маскарад? Все в тех же целях – вызвать у местных жителей ощущение того, что тут происходит гражданская война. Как показали эти пленные, их провели в строю через несколько сел и команду нарочито громко, и без нужды часто, подавал на украинском языке переводчик.
Позднее, к концу 1943 года, когда фронт стал приближаться к этим местам, немецкое командование оттянуло часть отступающих войск, пытаясь взять нас в клещи, чтобы предотвратить массированный партизанский удар по своим тылам. А пока оккупанты не вылезали из своих укрепленных гарнизонов. Давно прошли те времена, когда они на ночь ложились в кровати и переодевались в ночное белье. Теперь они спали в одежде. Ни один сколько-нибудь значительный офицерский чин не желал жить в доме без стальных дверей и ставней. Вероятно, где-нибудь в Германии был построен специальный завод по изготовлению этих дверей и ставней – столько их потребовалось оккупантам.
Железнодорожные станции вместе со складами и управленческими зданиями огораживались двухлинейными укреплениями из бревен и земли толщиной до трех метров. Штаб, комендантское помещение, караульные точки у ворот – все это было соединено подземными ходами. И в уборную, и на кухню ползали траншеями.
По Любишову и Камень-Каширску партизаны нет-нет да и пошлют два-три снаряда. Там гарнизоны оккупантов дошли до того, что понастроили на всех уличных перекрестках дзоты и передвигались только перебежками по нескольку человек от дзота к дзоту.
Поняв, наконец, что нас интересуют не столько их гарнизоны, сколько коммуникации, немцы стали минировать подходы к железным дорогам, лесные тропинки.
Если раньше на пути из одного нашего отряда в другой нам приходилось остерегаться встречи с регулярными частями немцев, то теперь мы опасались только мин, которые противник ставил с помощью своих лазутчиков из националистических банд. Мины стали главным оружием обеих сторон. Но эффективность их действия у нас и у немцев была несравнима. Мы рвали мосты, железные и крупные шоссейные дороги, сбрасывали под откос эшелоны, немцы же и их подручные действовали на тропах.
И все же нашим подрывникам с каждым днем становилось труднее подходить к железной дороге. Раньше надо было только обмануть бдительность охраны, теперь следовало помнить, что за кустами, возможно, притаилась засада, что под мостиком через какой-нибудь ручеек может подстерегать подрывника вражеская мина; иными словами, прежде чем заминировать железную дорогу, надо было разминировать подходы к ней.
Несмотря на возросшие трудности, число эшелонов, сброшенных нами под откос, с каждой неделей увеличивалось. Но нас очень тревожили участившиеся случаи тяжелых ранений на минах противника. В наш центральный госпиталь то и дело прибывали подводы с ранеными от Маркова, Тарасенко, а чаще всего из батальона Балицкого.
При отходе от железной дороги погиб на мине один из лучших наших командиров Илья Авксентьев. Эта тяжелая утрата была следствием того, что после нападения на поезд наши подрывные группы, окрыленные успехом, на обратном пути к лагерю становились уже гораздо менее осторожны. Так же нелепо погиб и командир взвода Белов. Оба они были из батальона Балицкого.