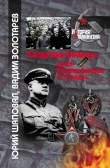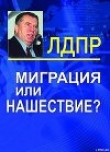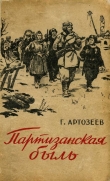Текст книги "Вперед, на запад!"
Автор книги: Алексей Федоров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Кравченко нас убедил. Через несколько дней после этого разговора мы провожали его отряд. Лил отчаянный дождь, и было по-осеннему холодно. А ребята бодро проходили мимо и, самозабвенно сжимая винтовки, размашисто шлепали лаптями по лужам.
*
Маслаков принес радиограмму, полученную из Москвы: "В ночь на 7 июля в бою, при выходе из окружения, погиб командир Черниговского партизанского соединения и первый секретарь Черниговского подпольного обкома Николай Никитич Попудренко".
Ох, Николай, Николай Никитич! Вот ведь знаешь – война, любого из нас завтра, а может, и сегодня настигнет пуля, бомба, снаряд. Знаешь, а в смерть не веришь.
В смерть Попудренко как-то уж очень не хотелось верить. До того он был счастливый в бою!
Подробностей его гибели мы еще долго не знали. "Погиб в бою..." А как же иначе? И представить себе невозможно было, чтобы Попудренко умер в постели. Как только я прочитал радиограмму, в моем воображении сразу же возник вздыбленный конь и Николай Никитич верхом с шашкой наголо.
Вошел в палатку Дружинин. Я дал ему листок с радиограммой. Рука комиссара задрожала. Рванов, самый молодой из нас, прочитав радиограмму, выбежал из штабной палатки. Пришлось за ним посылать – дела не ждали.
Вместе с этой печальной радиограммой Маслаков принес и две другие: от Балицкого и от Егорова – и тот и другой подорвали первые на ковельском узле немецкие эшелоны. Первый успех! Принес бы Маслаков эти известия до радиограммы из Москвы – сколько было бы торжественных возгласов. А теперь Дружинин ограничился одним словом:
– Хорошо!
Но дела действительно не ждали. Пришел дежурный и сообщил, что прибыли к нам еще две группы местных партизан, что вернулся из дальней разведки Илья Самарченко, что явился с рапортом об окончании строительства аэродрома Лысенко, Гнедаш принес программу краткосрочных курсов хирургических медсестер. Я пытался читать эту программу, но строчки расплывались.
– Вы слышали, Тимофей Константинович: погиб Попудренко!.. Впрочем, ведь вы не знали Николая Никитича!
– Знаком не был, но знал. За неделю, пока здесь, слышал о нем очень много! И в Москве слышал...
Хоть и разделились мы с Попудренко уже четыре месяца назад, но до сих пор было такое чувство, будто он по-прежнему воюет вместе с нами. Дня не проходило, чтобы не вспомнили мы о том или другом из наших черниговских товарищей. О Попудренко же не только вспоминали. Когда обсуждали в штабе предстоящую операцию, кто-нибудь из "стариков" обязательно говорил: "А вот Николай Никитич предложил бы такой вариант..." Мы как бы советовались с ним.
Гнедаш неожиданно спросил:
– А как в черниговском соединении, хорошо поставлена медслужба? Хирурги серьезные есть?
Я понял, о чем подумал Гнедаш, горько усмехнулся и махнул рукой... Если уж Попудренко ввязался в бой, то, конечно, он был на самом опасном участке, в самой гуще. Вряд ли санитары могли его вынести. Когда я был его командиром, мне приходилось силой приказа удерживать Николая Никитича от излишнего риска. Но и приказ не всегда действовал.
Я уже рассказывал о том, как в бою Попудренко выходил на переднюю линию и в упор расстреливал из пистолета ползущих навстречу врагов. В Гордеевке он ворвался вместе с тремя партизанами в немецкую комендатуру. Комендант выстрелил в него на расстоянии нескольких шагов и промазал. Попудренко выбил у него пистолет. Тот выхватил из ножен кортик... Когда мы с Николаем Никитичем расстались, этот кортик висел у него на поясе.
Другой раз Попудренко с четырьмя автоматчиками на тройке, запряженной в рессорную коляску, днем ворвался в село, где стояло не меньше трехсот гитлеровцев. На улице шло учение. Попудренко и его товарищи полоснули автоматным огнем по рядам солдат и совершенно невредимыми ускакали из села... А ведь он занимал в то время должность заместителя командира соединения, был вторым секретарем обкома. Не его делом были такие налеты.
Но Николай Никитич был убежден, что командир, Как бы высоко он ни стоял, обязан показывать подчиненным пример личного героизма и презрения к смерти. Случалось, попадало ему и от обкома, и от меня лично за то, что в бою он превращался в рядового – не командовал, а только дрался. Чем ближе он сходился с противником, – тем яростнее становился. Больше всего его увлекал рукопашный бой, горячая схватка.
Могу ли я сказать, что у Николая Никитича не хватало дисциплинированности?
В наступлении он был в высшей степени дисциплинированным, если дисциплиной считать добросовестное и горячее выполнение боевого приказа.
Но вот, когда надо было сдержать себя или сдержать других, когда надо было отступить, Николай Никитич это не умел. А точнее – не мог.
– Признаю, – говаривал он мне, – большой это мой недостаток! Я петух драчливый... Учтите, буду и лавировать, и отступать, но трудно, ох, трудно мне эта наука достается!
Если обсуждался в штабе план предстоящей операции – Николай Никитич предлагал всегда самый дерзкий и чаще всего лобовой удар. Он понимал, конечно, что партизанам нужно уметь и ускользать от врага и совершать обходный маневр, но это было не очень по душе ему.
Мы любили Николая Никитича за кристальную честность, преданность коммунистической идее, за страстность и за беззаветную храбрость.
Обстоятельства гибели Попудренко я узнал только в конце войны, когда встретился с Новиковым, Коротковым, Капрановым и другими участниками боя 6 июля.
Сохранилась фотография, сделанная за несколько часов до гибели Николая Никитича. Командиры совещаются у карты. Николай Никитич водит по ней карандашом, что-то говорят. Все внимательно слушают. Он спокоен, и все командиры тоже спокойны.
А ведь лагерь, в котором шло совещание, уже вторые сутки был под артиллерийским огнем. Карательные части общей численностью до сорока тысяч солдат окружили черниговское соединение. И кольцо окружения стягивалось с каждым днем. "Вырваться ночью из кольца или погибнуть" – вот как ставился вопрос на этом совещании.
Получив эту последнюю фотографию Попудренко, я долго вглядывался в черты лица так хорошо знакомого и дорогого мне человека. Я знал его десять лет. Знал его только что выдвинутым с комсомольской работы агитпропом Городнянского райкома партии, потом первым секретарем райкома; перед войной работал вместе с ним в Черниговском обкоме, а когда пришли на землю Украины войска оккупантов, мы вместе остались в подполье, вместе партизанили больше полутора лет. Много ли может сказать фотоснимок, да еще сделанный в такой обстановке, в такой момент? Но я видел командирскую властность, уверенность и решимость. Четыре месяца отделяло Николая Никитича, которого я видел на этом снимке, от того дня, когда мы прощались и когда он сказал мне: "Навсегда!"
За эти четыре месяца под руководством Попудренко отряд в четыреста человек вырос до партизанского соединения в тысячу двести человек. За это время черниговское соединение провело в тягчайших условиях прифронтовых действий несколько больших рейдов и не один раз прорывало кольцо окружения. Десятки карательных отрядов были разгромлены молодым соединением, больше двадцати эшелонов сброшено под откос – и это на ходу, в непрерывных рейдах!
Конечно, фотография не очень точно передает душевное состояние людей. Вряд ли товарищи были так уж спокойны в тот день. В предыдущую ночь никто из них не спал, и уже третьи сутки люди не разжигали костров, а значит не получали горячей пищи, даже кипятка не пили. И, хоть шел июль, день за днем лил холодный дождь; все промокли и озябли. Нет, не спокойны они были – сдержанны.
На этом совещании, как потом рассказывали мне Новиков, Яременко, Коротков, Петрик, между другими делами решили, что во время прорыва вражеского кольца командный пункт будет в центре колонны. Товарищи по обкому предупредили Николая Никитича: "Не рвись вперед, не увлекайся! Командиры отрядов должны в любую минуту знать, где ты!" Попудренко молча кивнул головой. Потом он подписал приказ. В 17 часов его получили все командиры отрядов, а в 22 часа, с наступлением темноты, колонна двинулась на прорыв блокады.
Первая группа прошла благополучно. Когда же двинулась вторая противник ударил пулеметным огнем с флангов. Наступило временное замешательство, колонна дрогнула, попятилась. И в ту же минуту Попудренко дал шпоры коню и помчался в темноту, в самую гущу боя.
– Вперед! – крикнул он. – За Роди... – И тут голоса его не стало слышно.
Он был убит, упал под ноги своего коня.
Когда я стою у обелиска, воздвигнутого над его могилой на площади в Чернигове, – не могу не волноваться, навертывается слеза. А все-таки скажу: у него были недостатки, красивые, мужественные, но были, с этим ничего не поделаешь!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОДРЫВНИКИ
Взрывы на железных дорогах Ковельского узла начались в дни, когда немцы развернули наступление в районе Курска – Белгорода. До семидесяти эшелонов в сутки проходило к фронту по линиям, на которые вышли наши подрывники. Поезда шли со скоростью 40 – 50 км в час, точно и аккуратно по графику, составленному немецкими диспетчерами.
С начала июля диспетчерские функции присвоил себе штаб нашего соединения. Но диспетчерские распоряжения давались машинистам паровозов не в виде письменных приказов и даже не при помощи световой сигнализации. Наши диспетчеры-подрывники "регулировали" движение на железной дороге с помощью мин. Не подчинявшиеся им эшелоны сбрасывались под откос.
С 7 июля, когда раздались первые два взрыва, до 1 августа на вверенном нам узле железных дорог было подорвано, сожжено и частично разрушено 65 поездов. Скорость движения снизилась до 25 – 30 км в час. Отныне по ночам поезда стояли на крупных станциях под охраной больших гарнизонов, тем самым пропускная способность узла и всей железной дороги резко сократилась.
В складах, в вагонах застряли сотни тысяч тонн зерна и другого продовольствия, заготовленного для отправки в Германию. Но что еще важнее – людское пополнение для фронта, немецкие солдаты и офицеры, сутками просиживали на станциях. Составы с боеприпасами, танками, орудиями и другим военным грузом стояли на запасных путях, подолгу дожидаясь своей очереди на отправку.
С начала августа сбрасывалось ежедневно по шесть, восемь и даже десять эшелонов.
Как первые наши крупные бои на Черниговщине привлекли к нам внимание всех жителей, создали нам славу и вызвали мощный приток людей, так и здесь взрывы всполошили весь народ. Весть о том, что на железных дорогах то и дело происходят крушения, быстро пронеслась по области. Охота за вражескими поездами увлекла и другие партизанские отряды. Люди из соединения "дяди Пети" – Героя Советского Союза Брынского – раньше редко выходили на железную дорогу. А в августе и они подорвали несколько эшелонов. Отголоски взрывов на Ковельском узле прозвучали и в Белорусском полесье, и на Житомирщине, и за Бугом в Польше. И вот пошел к нам люд со всех сторон. Приходили одиночки, приходили группы бежавших пленных, целые отряды, пожелавшие присоединиться к нам. И все, ну решительно все, хотели принять то или иное участие в действиях на железной дороге.
Между партизанами начались споры о том, кому принадлежат те или иные участки железной дороги. Еще до нашего прихода в эти места в районе Киверцы – Лыка располагался отряд Медведева. Туда теперь пришел Балицкий, самый, можно сказать, ярый наш подрывник. Медведеву же, "ловцу немецких генералов", как его называли партизаны, нужна была тишина. Он нанес визит Балицкому и сказал, что надо мол вам отсюда перебираться – место занято. А если, дескать, станете возражать, если увижу на подходах к железке ваших людей с толом и прочей музыкой, извините, буду принимать свои меры.
Заявил свои претензии и "дядя Петя". Он считал, что в том районе, где располагается его отряд, он хозяин всех сел, местечек, всех дорог, как железных, так и шоссейных, словом, всего недвижимого и движимого имущества, включая солдат и офицеров противника. Так что, если бы мы совершили на "его" территории налет на немецкую комендатуру, он тоже поднял бы шум.
Вскоре мы примирились и с Медведевым, и с "дядей Петей" – правда, не без вмешательства Центрального штаба, но, к сожалению, местничество в партизанских делах так и не прекратилось.
В августе, в дни, когда я находился в инспекторской поездке, разъезжал по своим батальонам, прибыли к нам в Лобное командир ровенского соединения Бегма, его комиссар Кизя и еще кто-то из их штаба. Ждали-ждали и уехали. Передали мне и Дружинину, что просят в гости.
Надо сказать, что командиры соединений и отрядов не так уж часто могут встречаться и, конечно, радуются такой возможности. Получив приглашение Бегмы, мы с Дружининым, как только нашли время, отправились к нему.
Встретили нас очень радушно, хорошо угостили, познакомили с лагерем, с командирами отрядов. Познакомили и с моим однофамильцем Иваном Филипповичем Федоровым (его называли Федоров-Ровенокий), командиром большого отряда. И вот мой однофамилец в довольно в общем добродушном разговоре начинает намекать, что, мол, нехорошо – ваши ребята нас обижают.
– Что такое, где, когда?
– Да знаете ли, Алексей Федорович, залезают ваши подрывники на наши линии.
Я ответил:
– Били врага, бьем и будем бить там, где его обнаруживаем, где считаем удобным!
Василий Андреевич Бегма улыбнулся (он вообще-то человек мягкий, очень вежливый, сердечный) и возразил:
– А все ж таки тебя послали в Волынскую, а меня в Ровенскую область, а не куда попало. Значит, есть разница. Может, ты завтра захочешь вообще к нам передислоцироваться?
– Если обстоятельства потребуют...
– Какие такие обстоятельства?
– Представляешь – нажмет враг вдесятеро большими силами.
– Тогда-то конечно. Тогда-то мы тебя примем с дорогой душой и будем вместе драться. А в этом случае с твоим тезкой – надо бы его права уважить.
– Не согласен я с тобой, Василий Андреевич, но думаю – не подеремся... А кстати, район, о котором вы с тезкой моим говорите, кажется, вовсе не Ровенской области. Давай-ка посмотрим карту.
– Давай! Позовите, – попросил он адъютанта, – полковника Григорьева! Где он пропадает?
Адъютант побежал. Вернувшись, доложил, что полковника Григорьева не нашел.
– Говорят, уехал в Чапаевский отряд.
– Странная штука, – сказал Василий Андреевич, – чего это его вдруг понесло туда? Да постой, постой... Не ты ли тот Федоров?.. Ну да, конечно же ты! Вспомнил. Григорьев мне как-то рассказывал, что в начале войны сколачивал с Федоровым партизанский отряд, что ты, то есть тот Федоров, погиб в бою... Он будто сам видел и пытался тебя спасти... Получалось даже вроде того, что ты на его руках дух испустил.
– Вот ведь бывают какие вещи. А я живой! И собираюсь еще пожить.
Никак не думал я, что начальник штаба Бегмы – тот самый начальник артиллерии корпуса полковник Григорьев, который сколачивал со мной отряд, а потом ушел с моим автоматом в неизвестном направлении. Немудрено, что он сейчас избегает встречи со мной.
Гостали мы у Бегмы три дня. И только на третий день увидел я этого Григорьева.
Человек военный – он умел скрыть волнение, но все же по выражению его лица было видно, как неприятна ему встреча со мной. Представились:
– Полковник Григорьев!
– Генерал Федоров!
В этот момент, надо признаться, мне было очень и очень приятно, что я ношу это звание.
– Что ж это вы?! – спросил я. – А! Да отвечайте же, я вас спрашиваю, как это вы тогда к немцам переметнулись?
Он ответил со спокойной дерзостью:
– Отчетом я вам не обязан...
– Нет, вы посмотрите на него!.. – рука моя невольно потянулась к пистолету.
– Подожди, Алексей Федорович, – ровным, обычным голосом оказал Василий Андреевич и взял мою руку своими теплыми, мягкими пальцами. Давай тихонько разберемся. Садитесь, товарищи... И вы садитесь, товарищ Григорьев.
Сели. В первые минуты смысл его слов до меня не доходил, так был я взбешен. Он говорил:
– ...И вот, понимаете, мотоциклисты. Назад, к вам, ходу нет. Я пробовал бежать в другую сторону. Заметили. Окружили. Автомат дал осечку. Все. Плен... А дальше – это очень длинно, вы не захотите слушать...
– Нет, нет, продолжайте, – сказал Василий Андреевич.
– Что ж дальше, я командиру соединения – вам, товарищ Бегма, все рассказал. Факты проверены. Люди отряда Брынского знают. Я из плена бежал. Удалось найти добрых людей. Спрятали. Потом устроился в пекарню. Заведовал. Как только появились партизаны вблизи Любомля... Да, работал в Любомле... Только появились в лесах партизаны – пошел к ним. Спросите Брынского, я у него был несколько месяцев. Потом передали вот – генералу Бегме. Служу.
– Нет, Алексей Федорвич! Ты зря кипятишься, – сказал Василий Андреевич. – Полковник в плену и потом в пекарне намучился. Я им пока доволен...
– Но зачем, слушайте, – перебил я Василия Андреевича, – зачем это вам, полковник, понадобилось делать из меня убитого, хоронить на Полтавщине? К чему это все?
– Виноват. Были слухи. Я предположить не мог, что тот Федоров и вы одно лицо. Такой ужасный тогда был у вас вид – я был уверен: все для вас, как и для меня, кончено. Вы бы видели себя в тот день! – Он помолчал и повторил: – В тот день!
Я все понял. Передо мной был человек, "в тот день" признавший себя побежденным. Подобные люди погибали, если не физически, то морально. Хорошо еще, что у Григорьева хватило честности, чтобы вовремя перейти к партизанам.
– В общем – партизан 1943 года! – сказал я и махнул рукой.
В слова "партизан 1943 года" я волей-неволей вложил то чувство, с которым партизаны-старики относились к примкнувшим к ним в 1943 году – в пору сокрушительного наступления Красной Армии, чувство своего превосходства над ними. Чувство это понятно. "Где ты был, когда Красная Армия отступала? Прятался, пережидал, а то еще и перед гитлеровцами выслуживался! Ну хорошо – приняли мы тебя, признали, дали оружие, чтобы ты искупил свою вину и все-таки полного доверия и уважения ты у нас не вызываешь". Так примерно рассуждали мы и, конечно, далеко не всегда правильно.
Ведь сюда, на Волынь, мы пришли не только для того, чтобы взрывать железные дороги, но и для того, чтобы поднять народ, вовлечь его в наши ряды, внушить ему веру в победу, дать ему оружие против врага. В своих листовках мы обращались и к полицаям, и к бульбовцам, и к тем, кто добровольно сдался в плен, а теперь бежал из немецких лагерей: "Хотите искупить свою вину, хотите снова обрести Родину, получить великое право стать гражданином Советского Союза – идите к нам, бейте вместе с нами оккупантов и предателей всех мастей!"
И люди к нам шли. Одни по велению сердца, другие под давлением обстоятельств, третьи, чтобы прикрыться званием партизана.
Со временем мы разбирались в каждом. Однако в повседневных отношениях с нашими новыми товарищами нельзя было выражать недоверия к ним – ведь тех, кто пришел к нам, чтобы прикрыться званием партизана, было не так уже много.
Прощаясь с полковником, я пожал ему руку без особого энтузиазма, но время показало, что он пришел к партизанам без камня за пазухой. Работал честно, был ранен в бою.
После ухода полковника мы с Василием Андреевичем и моим тезкой вернулись к вопросу о том, можно и следует ли действовать на "чужой" партизанской территории.
Развернули карту. Оказалось, что наши ребята и впрямь забрались в Ровенскую область. Поставили две мины. Подорвали два эшелона...
– Так, что ж, разве это плохо? – спросил я. – По-моему, если и плохо, то для оккупантов, не так ли? Там же не было в это время ваших минеров!
– Мы собирались их послать. Вы нас опередили.
– Выходит, что мы вам помогли!
Так или иначе с Бегмой, Кизей, Федоровым-Ровенским, как и с Медведевым, мы дружбу не потеряли и месяца три спустя нанесли совместный удар по направленным против нас войскам оккупантов.
*
На обратном пути в Лобное ехавшие впереди хлопцы увидели на тропинке двух человек.
– Стой! – крикнули им наши хлопцы. Оба бросились в сторону, в лес. Их догнали, вернее, они сами вернулись, поняв, что мы – партизаны.
Оказалось, что один из них – наш разведчик Василий Трофимов, которого вот уже две недели считали погибшим. А второй... Это был весьма странный субъект. В лесу мы таких никогда не видели. Клетчатый голубой пиджак, серые брюки гольф, ярко-красные полуботинки, чулки с замысловатым рисунком – ни дать ни взять цирковой актер. Но эта франтоватая одежда была сильно помята, на полуботинках кое-где роса смыла краску. Вид он имел жалкий, лицо его обросло серой щетиной, глаза выражали тоску, отчаяние, голод и страх.
– Откуда ты взялся, Трофимов? Мы тебя давно похоронили. И что это за тип? "Язык" или новоявленный партизан?
И Трофимов рассказал весьма примечательный случай. Раньше, чем привести его рассказ, несколько слов о самом Трофимове.
Это был человек очень выдержанный, дисциплинированный. Но только до той поры, пока не хватит лишку. А тогда его начинали одолевать стремления к самостоятельным действиям. Например – пройти незамеченным перед носом немецкого патруля, что ему было вовсе не легко при его видной фигуре.
Недели три перед тем Василий был направлен с небольшой группой в Любомль. Там, после выполнения задания, позволил себе выпить у неведомой шинкарки самогону и на обратном пути отстал от своей группы. Его товарищи по разведке говорили, что они услышали стрельбу, потом крики, решили, что погиб парень... И вот мы его встретили. Худой, обросший, весь в синяках... Сделали привал.
Поев, Василий стал рассказывать про своего "спутника", которого мы сочли за "языка" и держали в стороне.
– Вы спрашиваете, что это за человек? Я и сам не пойму. Спас мне жизнь. Это факт. За это ему надо спасибо сказать. А мог погубить. Не буду касаться, как и что было перед тем; за мой проступок мне еще придется держать ответ, это особая сторона...
...Ну, сидим мы, значит. Тюрьма – не тюрьма, просто картофельный подвал. Вода по стенкам бежит, свету чуть-чуть. На окошке борона заместо решетки. Мое дело ясное: расстрел или петля – вот и весь выбор, да и тот не за мной. Личность моя пострадала от предварительного разговора с полицаями, да еще и с похмелья голова шумит наподобие камнедробилки. Нехорошо! Одна радость, что и на тех полицаях кое-что удалось повредить. Почему сразу меня кончать не стали? Известно – полиция. Самостоятельно принимать решение сомневается. А немецкий следователь отбыл в округ, скоро вернется. У него, как те полицаи объяснили, имеется аппаратура. Будет заниматься мною по правилам науки. Одним словом: "физиотерапия". Что же, я лежу и сам с собой рассуждаю, что в данных условиях руки – ноги не помогут, вспоминаю, как жил, как воевал и как сдуру вляпался. Себя я не миловал: все ж таки, если ты разведчик, имей мужество в крепких напитках держаться нормы, а не надеяться на авось. Так вот и гибнут лучшие люди!
Лежу я, значит, на спине, раздираю пальцами свои распухшие веки, оцениваю обстановку. Рядом, как раки ползают, шелестят на соломе еще двое. Вечер. Свету из окошка так недостаточно, что разглядеть лица нет никакой возможности. Люди стонут, страдают без слов. Им тоже там наверху кое-что повредили, но все же заговаривать с ними надо с осторожностью.
Утром просыпаюсь – одного уже нет, а другой, вот этот, сидит на тощеньких коленках, кланяется в сторону окошка, крестится и сопит. Я, конечно, уважаю религиозное чувство и потому не вмешиваюсь. Потом вижу, что интеллигент этот переходит от церковных молитв к обычным жалобам на судьбу, и спрашиваю его, чем могу помочь. Он отвечает, что мол ни в чем не нуждается.
Тут открывается дверь и полицай протягивает нам по кружке кипятку, а также по куску хлеба. Что значит в данных условиях кусок? Сто граммов. А хлеб этот в переводе на русский язык – глина, в которую для видимости замешано немного теста и овса. Мой сосед говорит спасибо и вежливо спрашивает полицая, не воскресенье ли сегодня? Но тот молча и грубо захлопывает за собой дверь.
Я вмешиваюсь и говорю, что не воскресенье, а пятница. Но этот не слушает. Он буквально в минуту сглатывает весь хлеб, свою, а также и мою порцию. Смотрит на меня дрожащими глазами, думая, наверно, что я его буду бить. Тогда я вынимаю из порточины завалявшийся кусок сала, мой энзе, и предлагаю: "Может, не побрезгуете?"
Он берет себе скибочку сала, другую скибочку кладет передо мной, протягивает мне руку: "Будем знакомы – художник Консторум Казимир Станиславович", и ест, ну просто наслаждается. "Вы, – спрашивает, – по какому делу замешаны?" Я не говорю ему, что из партизанского отряда. Говорю, что бежали группой из немецкого плена, кое-кого стукнули, другие товарищи уже спаслись, а на мою долю пришлась такая вот судьба. Потом я спрашиваю: почему его интересует воскресенье? Он отвечает, что по воскресеньям дают суп. "Значит, вы давно уже здесь?" Он отвечает, что около месяца, но что когда приедет немецкий следователь, эта неприятность должна кончиться. Мне это не понравилось – выходит, что он на немца надеется.
Потом мы больше молчали, но дня так через три стали понимать, что нам особенно друг друга побаиваться нечего. Его, то есть этого хлопца, надо было остерегаться исключительно в те моменты, когда полицай приносил два раза на день хлеб. Тут Казимир этот совершенно терялся, думал почему-то, что я потребую от него ту порцию, которую он в первый раз сожрал. В последние дни у меня тоже сильно подвело живот. Я привык все-таки к приличной пище: или каша, или рыба – партизанский стол. Если мы, помните, голодовали, то по-другому. У нас все вместе, и песня выручает, и всегда чем-нибудь занят. А в этих условиях о чем думать: только о прошлой жизни, о будущей смерти или об еде. Так что и я стал вроде психа: перебираем с Казимиром в памяти разные блюда. Например, он скажет, что в таком положении хорошо бы чашку горячего бульону, а я в ответ, что неплохие пирожки мамаша пекла по шестнадцати штук на пуд.
Казимир все-таки рассказал про себя и за что в полицию попал. Это удивительная история. Он до войны из глины лепил разные фигуры для городского сада или на могилы. Жил в Львове и не слишком плохо, мог кормить семью, а когда продукты подорожали, решил переехать в Ковель. Работал по заказам, а потом напала Германия, фашисты заняли Ковель, и никаких заработков не стало. Он и раньше, говорит, ненавидел фашистов, а тут ненависть у него, как он мне сказал, переполнила чашу. Статуй много, но их никто не покупает. Он когда рассказывал, все смеялся. "Это, говорит, – смех от нервов". У него все от нервов. От нервов и в полицию попал.
Как это вышло? Поехал он по селам достать что-нибудь из продуктов. Повез разные дамские трикотажные штаны, рубашки, галстуки. Захватил и маленькие статуи Наполеона в шляпе. На базаре в Любомле полиция спрашивает его: "Почему вы наполеонами торгуете, а гитлерами нет?" Ему бы не связываться с полицией, а он от нервного раздражения и недоедания распсиховался и ответил, что не считает Гитлера достаточно великим, чтобы делать его статуи. Тут Казимира и взяли. Вот так и оказался он рядом со мной в подвале.
Еще проходит дня четыре. Казимир этот уже плачет от голода. Ну что нам дают? Хлеба около двухсот граммов на весь день... А немецкий следователь все не едет.
И вот один раз Казимир говорит: "Если бы мое преступление было такое сильное, как у вас, я бы бежал, я знаю, как можно совершить побег. Но без меня вы не сможете, а мне рисковать нет смысла".
Тогда я стал расписывать его преступление, убеждать его, что ему один путь – на виселицу.
И он, наконец, сообразил, что рассчитывать на немецкого следователя глупо. Стал рассказывать свой план бегства. Один из наших сторожей имел фигуру наподобие моей. Надо его обезоружить, раздеть, связать.
Как обезоружить? А вот как: сделаем из хлеба пистолет, напугаем охранника.
Договорились. Я описываю форму, размер нашего "тэтэ". Художник возражает: "Это очень крупный пистолет, нельзя ли вроде "бульдога"? Но ему приходится согласиться, что в нашем полутемном помещении такое ничтожное оружие, как "бульдог", не напугает полицая.
Вот мы не съели один раз свою порцию и Казимир начал лепить. Но двух наших порций оказалось мало. Прибавляем вечерние. Получается очень похоже на пистолет. У меня даже настроение становится веселым, я хлопаю Казимира по плечу, жму руку, соглашаюсь, что он очень талантливый. А ночью слышу жует. Потом запивает водой. Я ему шепчу: "Казимир, вы что кушаете?" Он молчит, будто оглох. Ну, конечно, он скушал пистолет "тэтэ"! Вы понимаете, как хотелось его стукнуть! Удерживаюсь. Утром, наоборот, успокаиваю его. Оправдываю его предательство тем, что он больше истощен, чем я. Говорю ему: "Давайте снова будем не есть, только, пожалуйста, лепите!"
А тут еще новость. Охранник, когда принес хлеб, сказал, что следователь уже приехал и виселица готова. Художник окончательно понял, что надо бежать. Лепит снова "пистолет" и клянется своей католической клятвой, что больше не съест его. Но я все-таки прячу "пистолет" себе под пиджак...
Ночью, представляете, лезет. Думает, что я сплю, и щупает на моей груди. Я со злости локтем его как садану. "Ах, вы вот какой! – и началось... – Вы пользуетесь моим талантом, а потом избиваете..." Я ему затыкаю рот, а он крутится под рукой, мычит. Вырвался на минуту и как завизжит – будто кошку дверью придушили... Слышу – бежит охранник и к нам с фонарем:
– Что тут такое?
А я ему:
– Руки вверх! – и дуло к носу.
Он растерялся, я с него автомат снял, кинул пистолет художнику: "Жря!" Охранник смотрит, думает, что такое? Но мне объяснять ему некогда. Я его слегка прикладом угостил, он лег. Ладно. Говорю Казимиру: "Идем!" А он, как полоумный – трясется, губа на губу не попадает, слова не вымолвит. "Идем, – повторяю, – глупый ты кутенок, несчастье мое!" Пошел. Для верности я на него автомат наставил. Одежду с охранника не снимал, взял только фуражку с трезубцем, надел на себя и фонарь забрал. Держу его светом вперед, чтобы самому находиться в тени. Так и вышли.
Когда идем по двору, от ворот ко мне тулуп движется: "Куда ведешь?" Отвечаю сердито: "Хиба не знаешь!" Пропускает. Думаю – налево сейчас или вправо? А Казимир уже поворачивает. "Куда, сволочь?" – орет тулуп и я за ним: "Бери, растак твою, налево!.." Понял, изменил направление. Тулуп полез в свою будку, а я художника за шиворот, фонарь об мостовую. "Ну, бегом, Казимир, а будешь визжать, пулю в затылок!" Ничего, побежал. Он вообще-то сообразительный...
Казимир оказался человеком, не лишенным чувства юмора. Мы спросили его – так ли все было, как рассказал Трофимов? И он, смеясь, подтвердил, что все так и было, и что он с голоду мог бы еще и не то натворить.
Он доехал с нами до Лобного. А когда неделю спустя пошел в разведку на Ковель Илья Самарченко, художник пошел с ним. Мы дали ему для его ребятишек сала, немного соли, сахару.