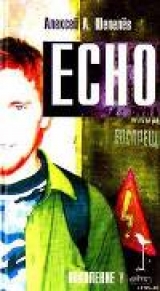
Текст книги "Echo"
Автор книги: Алексей Шепелев
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Блять, в рот ебать! – довольно провозглашал он в порыве непристойнейшего танца, остальные удыхали впокат, особенно не ко всему ещё привычный Михей.
Я пытался его остепенить, остановить, взывал к совести, к пропагандируемому им христианству, но больше для комедии, потому что «пидор уже разошёлся» и «требует логического завершения». Его лицо было абсолютно дебильным: расслабленно открытый рот, безвольно застывший полувысунутый язык, глаза навыкате, остекленевшие, расширенные зрачки – и глаза, и рот, как у рыбы какой-то. Он лез ко всем со своей промежностью – и чтобы избежать встречи с ней, так сказать, лицом к лицу, приходилось буквально вылетать из комнаты в коридор. Неопытный и маролослый Миша, прижатый в углу, рассмотрел наверно её в деталях. У него на лице появилось серьёзное выражение – растерянности или даже испуга. Только Репе выходка этого бесноватого, этого бессовестного отступника человечества (кстати, называющего себя «Великим» и «Учителем», а также, если помните, «князем Мышкиным» и сравнимого разве что с другим выродком – Укупником) пришлась впору – она стала охаживать его палочкой по ягодице, а потом и тыкать, так что он сразу вынужден был ретироваться – развернуться к другим.
Я сам выступал уже в одних трусах. Репа на ходу, на лежу, извиваясь, выпутывалась из штанов. О. Фролов вдруг бросился на Сашу «Босса» Большого (стабильно и добровольно обряженного в майку «BOSS»), пытаясь стянуть с него штаны, за что был схвачен и отведён в коридор для воспитательной беседы.
В паузе между песнями послышалось басовое восклицание Саши: «Во имя Господа нашего, опомнись!», а затем взрыв его же удыханий навзрыд. И они выскочили опять к нам – о. фролов (его фамилию стыдно даже с большой буквы писать), раскорячившись почти до состояния шпагата и передвигаясь прямо в таком виде наверно в основном за счет рук (одна из которых по-прежнему была перетянута полотенцем), а Санич упал на колени, рыдая, и бия головою в пол, и захлёбываясь, и указывая пальцем на Великого ренегата, который зажимал в горсть и оттягивал свои гениталии – словно пытаясь отсоединить их и протянуть каждому в нос.
Я в анус крестик засунул! – громко пояснил О. Фролов.
Ты что, долбак! богохул! анафема! – практически в один голос выпалили мы с Репой, воспользовавшись паузой в музыке.
Ну ведь где-то он должен быть! – ответствовал О. Фролов с безупречной логикой помешанного.
Саша, опомнись! – едва успели выкрикнуть мы, как начался «Faget», вскочил Саша Большой, заорав: «Сакраментальная песня моя!»
Бог пидарас! – заорал О. Фролов и развернулся своей задницей к иконе, которую он недавно снял из красного угла на кухне и повесил над своею кроватью, обращая тем самым внимание на свою новоявленную, «радикальную» религиозность. «В присутствии иконы» запрещалось материться и даже «замышлять недоброе» – доходило даже до избиений и до взимания платы с Репы за право находиться в комнате, «Вериги, вериги сконструирую… и себе и вам…» – бормотал он всё это время. Тут Санич, чуть оправившись от смеха и слёз и расправившись из состояния крючка, обратил своё внимание на икону, завешенную разорванными трусами О.Фролова – его тут же прошиб новый приступ эпилептического удыхания – опять до слёз – он, трясясь, указывал на икону, а сам ещё всячески бился головой в пол, потом начал отчаянно сучить лапками.
Теперь сам «князь Мышкин» явно замышлял что-то недоброе, но по обычаю этой песни мы сцепились в один непотребный хоровод или даже клубок, раскачиваясь и извиваясь и повторяя с нагнетанием интонации вместе с патологоанатомом Джонатаном Девисом: «О, май лайф, хуэм ай???!!!», и когда следовал ответ: «Айм джяст а фагет!!! Фэге-э-эт!!!», весь наш хоровод рассыпался, и каждый «отрывался», расшибался один, превращаясь в конце концов в труп до завтрашнего утра, а иногда и долее…
…На этот раз все расшибались «как в последний раз»… О. Фролов на раскоряченных и согнутых в коленях ногах и одновременно на руках, опираясь на ладони, а то и на локти – разгонялся, отползая, как паук, а потом врезался в стену задом, пытаясь заползти по ней вверх, к иконе. Что удивительно, это ему почти удавалось – гибкое, длинное, тощее тело, потные конечности, дурачая напроломность… Он раздирал ягодицы, бился задом в стену, выкрикивая «Щас насру!..», потом выпрямился, встал на две конечности (даже непривычно), ритмично подпрыгивая и «выскинывая» на икону, потом выскинул двумя руками – через каждый прыжок изменяя сии жесты нацистского приветствия на факи и плюясь в сторону иконы, потом ввёл и третье чередование – крестное знамение, потом рухнул на ягодицы и выскинул и руки и ноги – вытянутые балетные ножки, а потом, конечно, пытался изобразить и четыре фака и перекреститься ногой… Плюнул вверх – и плевок, вернувшись, упал ему на губы. Тут он заметил, что на кровати навалено всякой всячины – одеяла, спинки от кресел, подушки и т. д. – он превратился опять в человека-паука, размял свой анус (крестик было выскочил), вроде как присоску у мух, нацелился им куда надо и – помчался через баррикады кровати под потолок…
Хотя мы сами были уже в состоянии последних трепыханий под хрипы и всхлипы Девиса (помню, как на Новый год я, сам от себя не ожидая, единолично и публично – был ещё ортодоксальный рокер На Крыльях, и мы с О. Ф. обрядились в сельпоманов: одели пиджаки с галстуками, сделали чёлочки набок и нарисовали себе чёрные усики – в концовке «Дэрри» забился в угол и изломался и расшибся, как пидарасина), но видели его этот файнел рывок – первый раз он саданулся копчиком о бок кровати, упал, скорчившись от боли, второй раз залетел чуть выше, но рука попала в дырку – сетку кровати, полотенце съехало, хлынула кровь, он кувыркнулся обратно – не успев высвободить руку, угодил хребтом о ту же железяку, однако не долго сумлившись он атаковал в третий раз – с неизвестно откуда взявшейся силой для такого чудовищного рывка, неизвестно по законам какой физики преодолев все препятствия, вскарабкался по кровати и стене почти до самого потолка, сбив и трусы, и икону! Упав вниз, извиваясь, с визгом и стоном, он кинулся раздирать трусы, а потом и разбивать икону – тут вмешался Санич – отобрал – и вот в куче на полу оказались все мы – все бьют друг друга, все в крови, кусаются, Репа отхаркивает свою жидкость… Я почувствовал спазм в желудке и начал чуть-чуть блевать…
Это привело меня в чувство, я высвободился, вскочил, пиная всех подряд и призывая в союзники Санича. «Давай этого туда, – говорю я ему, – где его повязка, надо затянуть, Мишу на полу – брось ему подушку, Репу наверно ко мне, только валетом…» Было уже совсем светло, я зашторил окна и лёг спать – Репа сжалась в комок в углу моей кровати, вяло сплёвывая жидкость и подкашливая, О. Фролов лежал на самом краю своей черепаховой кровати, на железке, лицом вниз и продев руки в сетку, рядом Саша – уже спит, Михей – в двух подушках под столом…
Всё закончилось быстро – Светка начала стонать (пришлось зажимать ей рот), потом захотела в туалет. Сдвинув ноги и держа руку на промежности, согнувшись, как от боли в животе, она в сопровождении подруги добралась до туалетной комнаты. Ксю стояла на атасе – мало ли ещё родаки проснутся.
Отправила эту никудышную любовницу, села сама и вдруг – та же негодная мысль. Флакон шампуни – это слишком большой и плоская, как бы ребристая верхушка – не пойдёт, уже пробовала; дезодорант «Рексона» – это уже маловато будет, неинтересно… А когда-то даже остроконечную тонкую «Рексону» не могла засунуть! Что значит регулярные тренировки – если человека одухотворяет (сжигает) страсть к чему-нибудь, и ему не надо постоянно быть в напряжении, проявлять так называемую силу воли (в существование которой, кстати, не верю), а ему, напротив, надо тужится, чтобы поумерить свою непонятно кем и чем данную болезнь, – тогда он определённо достигнет крутых результатов! А enemas, thee enemies!.. Самая большая спринцовка, на которую в нетерпении надавливаешь сразу обеими руками… бьющая сразу высоко вверх!.. Потом и душ вплотную – «до помутнения желудка» – даже саму лейку душа засовываю по рукоятку!.. Рубить с плеча! Всегда во всём! Пётр Ι почему-то вспоминается… И никакие условия не нужны, и никакой тренер! Пойду потренирую Светочку…
Она легла под одеяло (простыню), примостилась совсем высоко на подушку, выставив задницу чуть ли не под нос Светке.
Поласкай меня там пальчиком, – сказала она подруге, а та уже сама гладила ладошкой ее гладкие ягодицы.
Давай, ещё пальчик, ещё…
Светка нехотя подчинялась.
Давай всё, все, всю – не бойся, у тебя миниатюрная ручка… это даже меньше, чем та штучка!..
Светка выполняла осторожно, постоянно смачивая слюной и влагой из Ксю.
Погрузив всё, начала двигать рукой, второй держа Ксю за талию. Та извивалась, довольно постанывала и шептала «Ещё, ещё!»… А ещё уже сама влезла пальцем к своей визави.
Вскоре она из пассивной превратилась в активную. Светкина ручка уже была свободна, а вот три пальца Ксю ворвались в тесноту брыкающейся, вырывающейся жертвы.
Не надо, не надо… – стонала она, грубо кантуемая более сильной девушкой.
Конечно не надо: у меня ведь кулак в два раза больше твоего – кто же скажет надо! Но ты не бойся: вот смазочка… не бойся: я тебя так продеру – на всю жизнь запомнишь… тебе же понравилась боль, да?
Нет! нет!! не-э-э-эт!!! – кричала почти в голос, но её сильно ударили в живот, под рёбра, она икнула, ёкнула, пукнула, а Ксю, воспользовавшись паузой расслабления, отвлечения внимания через силу втиснула весь кулак. Светка дёрнулась и испустила отвратительный стон. Она плакала и пищала, как маленькая девочка, как грудной ребёнок, как будто ее резали. И билась и дрожала.
Замри, дура, тебе надо привыкнуть. – Приказала Ксю, свободная рука которой фиксировала рот мученицы – the second fist is in the mouth.
Света заливалась слезами, ей было всё хуже, а когда вынимали, чуть вообще не сдохла. Она проклинала Ксю, хотела даже уйти домой, но не смогла. Она корчилась, лёжа на спине и согнув в коленях ноги, держась за живот, стонала «Живот, живот…» И рыдала почти в голос, своевременно заткнутая Ксюхой.
Ксю потащила ее в сортир буквально на руках.
Потом обратно.
Потом опять.
Я опять, опять хочу в туалет – и писать, и ка-какать… но получается только каплю, а потом опять хочется… И там – и впереди, и сзади всё жжёт, и где-то внутри, в боку жжёт, – плакала она, шепча Ксю в ухо.
Что ты мне плачешься, думаешь, я не знаю этих ощущений? Думаешь: это серьёзно настолько, что надо вызвать «неотложку»?! Ха-ха! Думаешь, я могу тебе помочь? Нет! Терпи. Терпи, моя малышка, ляг и спи, забудься, я с тобой… всё успокоится и пройдёт где-то через полчаса… Я понимаю: страшные рези… Ничего… завтра и послезавтра тоже всё будет болеть, кремом помажешь и всё пройдёт… А сейчас я тебе впрысну чуть-чуть мяты для успокоения и дам таблетку для сна.
Со спрынцовкой Ксю действовала уже очень деликатно, после заботливо уложила пациентку, укрыла и держала ее почти до рассвета, не пуская в туалет. Та пыталась вырваться, пыталась бить Ксю, но только попёрдывала очередями со звуком как в воде. «Тварь, тварь, убью… ты мне не подруга, уйду…» – сдавленно стонала и форсированно шептала она. А Ксю в ответ только каждый раз целовала её в щёчку – как целуются подружки при встрече, как братик целует сестрёнку.
Вскоре они уснули.
Вопреки всем своим ожиданиям, я наверно быстро заснул. Какая-то зима, мороз, всё белое, чёрное, чёрно-белое, даже дома холодно – дома у Санича. Мы с Саничем обманываем О. Фролова: говорим, что у нас дела, что идём снимать телепередачу (!). Уходим от дома, крупными хлопьями валит снег… О.Ф., голый, выскакивает на Саничев балкон и кричит: «А как передача-то называется?» – «Бог и время»!» – отвечает Саша, широко улыбаясь. Мы с ним в обнимку и подбарахтываем, напевая как обычно:
С одесского кичмана
Сбежали два уркана…
О. Фролов плюётся, а нам очень весело. Мы вновь затягиваем куплет из Аркадия Северного:
Сегодня свадьба в доме дяди Зуя
А дядя Зуй сидит как жирный кот
Маруську бряколку косую
За Ваську замуж отдаёт!..
Ат-да-ёт! Ат-да-ёт! Атдаёт!!!
Тут я проснулся – как бы от холода и стыда. Было невыносимо жарко и жужжали комары. Все храпели и сипели.
«Погода у нас хорошее», – вспомнил я строчку, обычно добавляемую мною в письма и не означающую, по сути дела, ничего. «Зимою хлад, а летом жир», как писал Хармс; весной, осенью невыносимо. Темно, снег хрустит, падает, засыпает, кружит, завывает – а ты сидишь, думаешь, представляешь, пишешь – думаешь, когда же конец этой зиме. Летом жарко, солнечно, некомфортно, всё чешется от пота, все суетятся, всё тебя терзает, ночью жарища, духота, комарьё, крики с улицы… Весна будоражит; осенью – каждый день как последний, весной – как первый, может… Было бы всё одно, «в одном флаконе», ровно, без перемен и вспышек!.. А весна и осень имеют сами несколько градаций – об этом я даже не могу написать тебе, дочка, не могу – физически. Или зимой – оттепель – это ведь совсем иное… А летом дожди и после них… Помню какую-то строчку, какой-то обрывок —
…после дождливой и ржавой погоды…
он не дождался этого утра…
или что ли:
…ржавое утро пришло в понедельник…
или:
…ржавое солнце взошло в понедельник
после дождливой…
Впрочем, не важно. Это было совсем давно, в самой что ни на есть юности – и это из группы «Красная плесень». Да, тогда слушали иной раз – Перекус, Яночка, Замире, Яха, Ленка, братец… А потом слушал один одну эту песенку и была одна такая погода летом…
И тогда я ещё писал так называемые «стихи»:
сегодня лето нынешнего года
вчера было лето прошлого года
завтра будет лето следующего года
все три лета одна и та же погода
да мне нравится дождь
пасмурная зелень капель
да мне приятно топтать одуванчики
где сорваны и сломаны «мечты»
растоптаны кровавые цветы
тебе дал по соплям
не девочка ты на диванчике
я их подарю твоей дочке
когда объестся на блядках
селёдочки со льдом из бочки
Лучше, я думаю, «из бочки» зачеркнуть, а написать «и луком». Впрочем, текст наверно можно совершенствовать до бесконечности, а как вот в жизни своей собственной свести концы с концами – прошлого, настоящего, будущего… разве только через… через (или через «с»? хотя вряд ли) – бабушка так говорила, когда ведро или другой какой-нибудь сосуд был наполнен, переполнен, и из него течёт уже… течёт…
# 3. – MI (minority)
Мы с О. Фроловым как обычно сидим у себя, пишем – вернее, он сидит за столом, за печатной машинкой, а я диктую со своей кровати. Мы пьём пиво и очень веселы – как и в прошлый раз, когда мы впервые писали «под пивом», то есть под мухой – окосели, размякли, распустились, и мало что кроме мата получилось…
…Нет, надо чередовать как и раньше жестокие приступы творчества и пьянства… – говорю я.
…Репа говорит, что в таком состоянии (вроде речь уже идёт о конопле) можно такое написать…
Это только люди далёкие от искусства думают, что мы с тобой пишем под кайфом, что я, О. Шепелёв, гений филфака и всего мира, пишу под кайфом! Я презираю каннабинольщиков – это всё равно что отовариваться в сэкондах, у них нет своих исконных образов и эмоций…
А курточку-то из сэконда, которую Реппа покупала, ты носишь…
Курточку ещё ладно (да и то вынужденно), а вот майку оттуда никогда не надену!.. Я не только никогда не писал в этом так называемом «таком» состоянии, но даже и никогда не слышал, не читал, чтобы кто-нибудь это делал. Разве что амфетамины.
Появилась Уть-уть – не та, моя, а официанточка из «Диониса» – прошмыгнула куда-то с подносиком, – мы как всегда внимательно проследили за её попкой, затянутой в чёрное, но всё равно воздушной по своей консистенции и движениям в пространстве и, конечно же, в один голос выдыхнули: «уть-уть!»…
Подошла к нам, что-то заказываем. Скорее всего, «конодолбоскальпель» – так О. Ф. называет хат-дог – по аналогии с неудобоваримостью для русского языка его оригинального названия и «навороченностью» – для мозга О. Ф., конечно – его состава. А вообще этимология такова: мы слушали по радио передачу для подростков, и там всякие девочки-литтолфифтинчики задавали в письмах вопросы, как жить да почему меня никто не любит и родители не понимают – тут он вскочил, плюнул в приёмник, расшиб его и мотивировал риторически: «Ну что за вопросы! Всё про хуй и про пизду – с таких лет и поголовно у всех одна проблема! Нет чтоб задуматься: а почему я не коно… долбо… скальпель?!» (он, скальпель, как раз лежал на столе). С тех пор и повелось…
Заказываем, и почему-то мне кажется, что этот О. Фролов сейчас скажет отвратительную гадость из дворовых анекдотов, уже идущую у Сашы Большого за пословицу: «А можно у Вас в духовочке сосиську отджярить?..» (от слова «Аджария»!); но тут же я осознаю, что сам хочу шепнуть ей именно это (загадка: в устах О.Ф. кажется пошлостью и пошлятиной, а в собственно моих – остроумным, утончённым комплиментом-намёком) и боюсь, что О. Фролов меня опередит…
Но она уже сидит у меня на коленях. Я пью пиво и очень легко мне – воздушная… воздушные она и пиво. Вдруг – кошмар – я вижу свою Уть-уть – двухметровая фигура в леопардовом платьице (моё заветное мечтанье вообще-то – стать модельером и я знаю, что это пошловатая расцветка, но пошлоВАУтость-то в основе своей и инстинктивно-притягательна – например: Шеарон Стоун), очень уж длинные ноги, очень круглые бёдра, очень хорошая, большая и уютная жопка, совсем девичий бюстик, красивая, соблазнительная шея, бледная, белая кожа, румянец на щёчках (наверно искусственный), вдёрнутый востренький носик, кроткие пухленькие губки бантиком, превращающиеся в очень большой красный рот, белые слюнявые зубы в крошках помады…
Ту Уть-уть я передаю О. Фролову, сам догоняю и обволакиваю свою, тащу за наш столик с машинкой и двумя бутылками пива. О. Фролов доволен, буквально закатывает глаза, смотрит под потолок, я тоже – и вижу наш потолок, нашу одинокую, голую…. ярко горящую… слепящую нашу лампочку… О’Фролов, слегка подхрюкивая от комфорта, тепла и уюта, приносимых самой близостью подобных диковинных, бессмысленных и безмысленных существ (когда они ещё не требуют себе того-сего – Хочу Быть Владычицей Морской…), от лёгкости довольства и похоти, что-то печатает (стих, наверно), другой рукой льёт себе и сидящей на нём Уть-уть в рот пиво. Моя села на меня очень точно – рука в точности на руке, ляжки у меня на ляжках, мягкий жумпел очень удачно вместил в свою расселину мои набряклости, спина прижата к моему животу – моему гениальному пупочку, великолепные робкие плечи у меня на впалой грудине, волосы вокруг шеи. Мы пьём пиво практически одновременно – мне кажется, что я чувствую её глотки, как пиво поступает по магистрали ее организма в ее желудок, а затем и ниже… Вдруг я замечаю пятно крови под столом. Она, моя, естественно тоже. О. Фролов и его подруга, смотря на нас, чувствуют перемену и тоже смотрят на пол, на пятно, замечают ещё.
Гы-хы, что ж ты, сынок, так плохо помыл полы? Стыдно перед девушками.
(Сейчас он по своей несуразной привычке обратится на «вы» к своей Уть-уть, думаю я, и он тут же говорит что-то с «вы».)
Я вскакиваю, хватая бутылку.
Блять, я за… – трахался убирать за тобой! (уродская его привычка «не выражаться в присутствии дам»!).
Чтобы не ударить в грязь лицом пред дамами, я, как в хороших домах, ударил бутылкой об стол – с образовавшейся «розочкой» (это что-то совсем по-дамски – с корягой!) недвусмысленно подступаю к О. Фролову…
Уть-уть, моя, с искривлённым лицом, вытягивает вперёд руки, выставляя ладошки: не надо, нет, нет…
Защищать?! (тут же мелькают имена: Алексей – просто защитник, Александр – защитник народа!) С тобой, сука, я ещё разберусь. Ты, звезда неугасимая моих очень очей, будешь вечно стоять вон там на кухне, около руковины, наутилуса ёбучего, в который мы ссым, у газа, чистить и жарить картофель, а я буду приходить, пьяненький или даже пьяный в жопу, задирать тебе подол и ебать прямо так, причём в жопу или, чтобы было узко и уютно, купишь себе аппарат Фролова для тренировки мышц влагалища (если оно у тебя всё же есть… – есть? признавайся!), а сам буду курить, а ты не будешь курить, а потом буду гисть, а ты будишь хуй сосать!
Я размахиваюсь, О’Фролов бьёт своей забинтованной рукой. Я бью по теннисному мячу какой-то палкой, а О. Ф. одной рукой подбрасывает, а второй, забинтованной, лупит. И так, играясь, мы попадаем в другую комнату, более просторную и лучше освещённую, чем наша, но смежную с нашей. Странно, мелькает самый кончик мысли, почему раньше не было этой комнаты.
А там их знаешь сколько! – восклицает О. Фролов и открывает… Мы попадаем в другую комнату, освещённую ещё ярче, прыгаем по ней, бьём по мячам… Потом в другую, ещё одну – вдруг комната с кишками и венами на стенах, спотыкаемся о какую-то мразь и слизь на полу, руки, ноги – окоченевшие, белые, синие (коченеют и у нас самих), мясо, мясо, всё изрублено, и из кучи вылезает какой-то пидор и говорит: «Гля, бородатые! Наркоманы наверное. Да ещё выёбываются на наших баб!». Через дверь видно другую комнату, где собрались ребятки – собрались нас бить. Тут я кричу, хватаюсь за голову, кричу:
Что же я ей сказал! – бросаюсь в истерике на колени (осознал наверно что сказал своей Уть-уть).
Нас же сейчас убьют! – разрывается О.Фролов, поднимает меня, тащит почти тоскма.
Бегут с чем-то в руках, с топорами.
Запрёмся в сортире, в ванной!
Залетаем в ванную, запираемся, а те уже бьют в дверь. Ванна до самых краёв наполнена красной, мутной водой.
Сейчас вода должна почернеть, – объявляет О’Фролов.
Мы падаем, попадаем в какой-то коридор, бежим по нему. Смотрю в стёкла, в окна и осознаю, что коридор этот – переход над землёй, как раньше у нас был из института в столовую, и соединяет нашу квартиру с домом напротив, в котором бар «Феникс» (мы его зовём «Феликс»). Мы, как упомянутый выше кот, удачно перебегаем, проваливаемся ещё вниз, на первый этаж и попадаем буквально за столик. Сидим, пьём пиво…
Как всегда здесь много бычья, оно косится на нас, мы озираемся, нам неуютно, все смотрят на нас, нас хотят избить… Мочить – я внятно слышу это слово… Или это только кажется. «Это только так кажется, – говорит О. Фролов, – простая измена от передозировочки и от стресса». Я пригубляю, прихлёбываю пиво – пенистое, как моча, но холодное – всё чаще обращаюсь к нему, пью, пью, пью, и мне хочется мочиться – с каждым глотком всё сильнее и невыносимее – до рези в мочевом пузыре…
Пей, блядь, пиво! – говорит О. Фролов с такой интонацией, как будто оно куплено за его счёт.
Не могу, я хочу ззадь, – от боли я говорю нервозно, даже с некоторым озвончением.
Сзади?! Извращенец скрёбаный!
Наш разговор улавливает Уть-уть, но не та чёрная, и не моя красная, а белая – блондинистая (тоненькие волосы в хвостике), фигуристая (бёдра в светло-голубых леггинсах), мягкая (белое, бежевое лицо, именно «смазливое» «по понятиям» «нормальных пацанов», золотистые ручки), крашеная (малиновая помада, сиреневые тени, густо-чёрные ресницы) – продавщица бара и смежного с ним магазинчика. Мы, конечно, всегда заглядывались на неё: подходишь к ней, тихо так – как правило с похмелья и последние деньги, всяческая непотребная мелочь – говоришь: «Один хлеб пробейте, пожалуйста», а она так нежно пробивает, так вежливо говорит: «Пожалуйста» – «Спасибо»… А пьяное бычьё смотрит, лыбится, тянет пиво, жуёт креветки, опрокидывает водку или коньяк, жрёт закуски, внимает своей отвратиельнейшей жлобско-ресторанно-цыганско-еврейской музычке, да ещё подзывает её как кошку: кыс-кыс: «Ленок, подь сюды, с нами посиди!»… Гениальное изобретение – чтобы попасть в магазин «Продукты», надо прошествовать через притон бычья, а затем, выбрав там хлеб или батон, вернуться и пробить в кассе бара, а потом опять вернуться и забрать их, после чего вновь протиснуться через притон!..
Ещё два… нет, три, нет – четыре глотка, мучительно думаю я, и я иду в сортир. Они смотрят, переговариваются, ржут, жрут. Она выходит из-за стойки – переминаются ее голубовато-белые ягодицы, просвечиваются маленькие кружевные трусики, плавают, покачиваются бёдра – удаляется – в сортир – крошечная комнатка с тонкой дверью, оклеенной моющими обоями – запирается. Тихо звучит музыка, а дверь совсем близко… Круглая стеклянная ручка – блядь, ненавижу эти уебанские, блядские, сосанские ручки! Я срываюсь с места – с разбегу – головой – в дверь клеёнчатую, она – внутрь, а там совсем маленькое пространство… Я дам просраться! Дверь, пискляво поскрипывая, возвращается обратно; я, держась за косяк, выгибаюсь книзу, приподнимая правую ногу – стойка – хоп! – удар ногой в дверь…
Вот я на полу, хватаю ее за расшибленные колени, давлю на них, развожу… Сам я уже не я, а чёрная Уть-уть (офроловская). Я страшен (страшна). Я яростен и возбуждён. Она дёргается на унитазе, вся дрожит и плачет, тёплая. Я лезу, лезу к ней вниз, я раздираю ее, разрываю ее пополам, вгрызаюсь, врываюсь в неё головой, я – она…
С моим зрением началось такое, чему сами глаза не верили – они отродясь такого не видели – ни во сне, ни наяву, ни по телевизору. Мой взгляд с быстротой молнии переместился по прямой (причём понизу, практически по полу – как он был на уровне унитаза) в самую крайнюю точку помещения – какую-то подсобку или кухню – как по трубе переместился: эту точку я теперь видел прямо перед носом и очень-очень ярко – словно в увеличительное стекло на солнце; как будто, пролетая по этой трубе, я замечал также, но уже как в тени, всё, что было за её, так сказать, стенами – в частности, она, как лазерный луч, пробила красную мякоть Уть-уть, потом её позвонковые кости, потом тонкую стенку, потом ещё две толстых бетонных стены; чуть на периферии, но тоже довольно заметно, сидел рыжий кот и жрал кости от жареной рыбы. С другой стороны кто-то шевельнулся и – нагнулся – девушка – мой взгляд мгновенно расщепился на две трубы, устремлённые, упёршиеся (я как бы вовремя затормозил) одна в кота, другая под юбку – труба или луч кота был рыжий, переходящий в ярко-алый, в светящийся фиолетовый, а затем в ослепительно-солнечно-жёлтый и такой же нестерпимый зелёный, луч девушки от ее белых трусиков с зелёными точечками-горошинками был зеленоватый, плавно переходящий в ослепительно-жёлтый, а затем – как от салютного взрыва – из центра его стал разъедать фиолетовый, а его, в свою очередь, ярко-ярко-алый… И всё это в одну секунду! Я почувствовал какой-то удар в мозг – как первый толчок опьянения, но гораздо мощнее. Тут же мой взгляд ещё разветвился – и я обозревал уже семь точек, рассматривая их с неестественной ясностью и подробностью и раскладывая даже на цвета спектра. Как трещина по льду, он еще разветвился, ещё и еще, превратившись в немыслимый для человеческого мозга гипертекст восприятия – я осознавал это, осознавал, что контролирую и анализирую одновременно все точки, восходило, как солнце – медленно и величественно – осознание своего почти божественного могущества… Тут меня кто-то толкнул ногой (Репа!), и я проснулся…
Несколько минут я лежал под впечатлением сна, ничего не видя и не осознавая – словно глаза мои были закрыты очками, в которых проносились отголоски только что прерванного чудесного сновидения.
Я опомнился и выскочил в оставленную открытой входную дверь – Репа утекала по леснице.
Сыночек!
Ну?
Ты куда?
Домой! – куда!
А… ну приходи на Кольцо вечером или днём зайди…
Не знаю…может и зайду…
Репа залишилась вниз, но вдруг тормознула.
Купи Рыбаку бинт – деньги-то есть?
Есть немного.
Ну и в рот вас поцеловать!
Я вернулся, запер дверь, прошёл на кухню, осознал, что время ещё совсем рано – часов семь. Обычная история – с похмелия вскакиваешь ни свет ни заря, сотрясаемый жаждою, и начинаешь варить чефирное. Выпиваешь бокалов пять чаю (хорошо бы с лимоном!) и тут уже успокаиваешься и тянет в сон. Но – не тут-то было: чай имеет интересное свойство прочищать желудочек – внезапно чувствуешь резкий физический приступ голода (ну и в сортир, конечно, сбегаешь пару раз). Начинаешь варить что-либо. А голова-то… и вообще трясёт, ломит, ломает, крутит, мутит и подташнивает… Но настроение конструктивное, приходит совесть (иногда – вместе с хозяйкой – это невыносимо!), да и жрать уж очень хочется – и если уж не очень великое похмелье, начинаешь варить и убирать – главное по совместительству с этим ещё окиферить несколько раз.
Так и теперь. Я поставил чайник, включил радиву и пошёл в туалет.
Я пытался мыть и убирать, искал курить и картошку. И вдруг – прислушался – шла «Утренняя панорама» Тамбовского радио – говорят что-то про Бирюкова, потом выступает сам Обериук (как зовёт его О. Фролов), а потом – «А сейчас нам почитает свои стихи молодой поэт О. Фролов»! Я побежал будить Санича (О. Фролова не добудишься и вообще ему до китайской лампочки) и буквально-таки врезался в него – он сам вскочил и неустойчиво направлялся на кухню.
…и в божем саду божий зад
щас будут Дюкасс и Сад…
– с каким-то изяществом довольства и фривольства завершил поэт О. Фролов, и тут ему задают вопрос:
Скажите, давно ли вы занимаетесь поэзией?
Давно, довольно-таки… давно… (как бы зевает).
(Мы с Сашей дохли: нам слышалось «Часто, часто, практически каждый день…»)
С детства наверное?.. – очень умильный, я бы даже сказал, доверчивый голосок репортёрши.
Да! – очень грубо, развязно, дебильно, бахвально и несколько даже хрипло отрезал поэт.
Тут всё замялось какой-то музыкой на флейтах. А мы с Сашею закатились.
Когда это он давал интервью?
Да уж давно, я даже и забыл про это… хе-хе!
А тебя почему нет?
Я прочитал один стих в микрофон и ушёл – надо было домой ехать. А этим ренегатам говорю (там ещё Репа была, но она, по словам О. Ф., всю дорогу молчала – вернее, мычала и издавала иные нечленораздельные непотребные звуки): дети мои, прошу вас, выступите как надо: поприличней, повежливее, душевная чёрствость ни к чему, дурачее дело нехитрое – вы попробуйте с умом выступить, чтобы было… прекрасно… и не вздумайте обожраться! Они: иди, Лёня, иди себе, Леонид, со спокойною душою, ты наш лидер золотой… Только я ушёл, они нырь в ларёк у «Кристалла» и скушали бутылку «Смородинки», а вторую притащили с собой в студию, чем смущали остальных представительниц «АЗа» – Да… и вот что получилось – скотиняры! Я-то думал, что уже и не будет этой передачи…
Мы перестали смеяться, почувствовав между тем укол бессознательного удовольствия – от рассказа о пьянстве и профанстве. Хотелось ещё – с похмелья это само милое дело, тем более, что практически безопасно – ведь подобные рассказы «по трезвяку» страшно распаляют душу и стопроцентно приводят к пьянкам ещё хуже тех, коими они инспирированы.








