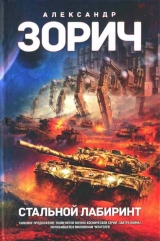
Текст книги "Стальной Лабиринт"
Автор книги: Александр Зорич
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Может быть, потому что видел собственную мать в слезах только дважды – на похоронах бабушки и когда в семье стало известно, что болезнь Киссона-Ялинцева, которой страдал Кеша, не излечивается даже самыми новейшими препаратами. А значит, Кеша никогда не будет таким же мальчиком, как все другие мальчики…
В общем, чтобы Нина не заплакала, Растов решил «принять меры».
– Но ведь наверняка было и хорошее в твоем Иване Сергеевиче! – голосом заядлого добряка сказал капитан. – Он ведь, хоть и был не ангел, наверняка дарил тебе цветы, подарки… Сосредоточься лучше на них! Я же знаю людей этого типа… Они на красивых женщин обычно денег не жалеют, даже когда не любят совсем, просто такое в тех кругах комильфо.
– Подарки? Цветы?! – нервически взвилась Нина, шморгнув покрасневшим носом. – Ни одного цветка от него не видела! Ни одного разика! Даже вялой эквадорской розы, выкрашенной чернилами! Даже сломанной подмосковной ромашки с обочины проселочной дороги! Ни букетика завалящих подснежников, ни ландышей! Ни на один день рожденья за те два года, что мы встречались, он не прислал даже открытки! Он вообще не знал, какие у меня любимые цветы!
– Кстати, какие?
– Кстати, гвоздики.
– Ну ладно, цветы – нет, но подарки ведь дарил…
– Один. Подарок. За два. Года. Серьезных. Отношений, – старательно отвешивая одно слово от другого черными лентами обиды, произнесла Нина.
– Не верю.
– Напрасно. Сейчас я тебе назову три его подарка. А ты поймешь, почему это на самом деле один подарок.
– Ну давай, – Растов уже пожалел, что завел этот разговор. Глаза Нины стали сухими, воспаленными и покраснели.
– Первый и единственный подарок – кольцо с восемью сапфирами. Я даже взяла его с собой сюда, оно лежит в сейфе моей комнаты… Кольцо это не для обычной жизни, оно – для балов с вальсами, которые тут, в Новогеоргиевске, дают редко. Иногда я достаю его, надеваю на палец и сижу вот так, всматриваюсь в колдовскую синь этих загадочных камней… И думаю о том, что жалость к себе – это не выход. И что надо как-то… В себя приходить, что ли.
– А два других подарка? – Константину вдруг стало не для виду важно знать ответ.
– Часы.
– Напольные? – попытался пошутить Растов.
– Наручные, Костя. Иван Сергеевич был на часах помешан. Ценил эту их сложную механику, всякие детальки… На людях он обожал на ухо объяснять мне, какая модель на ком надета и в какую цену. Эти часы, мол, с тройным сапфировым стеклом, а эти умеют проигрывать разные мелодии на каждый час… Страшно забавляли его всякие полудетские парадоксы – ну, мужик богат, как Крез, у него летающая дача, конюшня, собственный дельфинарий на Палау, недвижимость и движимость по всей Галактике, акции-фигакции, а часы на нем – из сети магазинов «Демократ»… Или, например, он умел всерьез по двадцать минут гадать: это на очередном дрыще из визора все же реплика знаменитого «Брегета», сделанного для какого-то принца в тысяча восемьсот мохнатом году, или оригинальное изделие…
– А ты?
– Ну а я мычала в том ключе, что «да-да-да» и «ты такой проницательный, единственный мой!». У меня столько проблем тогда в жизни было, что не до часов…
– Ну и подарил он тебе в итоге часы? Так?
– Не совсем «подарил», – Нина нахмурилась, было видно, что ею овладели совсем уж мрачные воспоминания. – Однажды днем он позвонил и говорит: «Помоги мне, у меня неприятности». Выяснилось, что да, неприятности. В ожидании рейса на Луну Иван Сергеевич наглотался каких-то веселящих таблеток, водился за ним такой грешок, который я бы не назвала мелким… И во время обеда в ресторане космодрома «Апрелевка» таблетки запил хреновухой… Его, конечно, развезло. Он расстегнул ворот рубашки, лег на кожаный диванчик в углу, хотел полежать. Но мимо шел журналист из оппозиционной газеты, которого он однажды публично обозвал «козлотуром пера» и «мошенником слова»… Козлотур не забыл и быстро кликнул коллег. Журналисты сделали репортаж для проблемной передачи «Чиновники, которых мы выбираем». С красной рожей Ивана Сергеевича и с ниточкой слюны, свисающей из уголка его большого рта с двумя обезьяньими складками под маленьким носом… В общем, самое умное, что смог изобрести Иван Сергеевич – это позвонить мне… И сказать этак проникновенно, по-актерски, как умел только он: «Любимая, спасай…» Это его «любимая» действовало на меня, как на кошку валерьянка… Я таяла, начинала галлюцинировать счастливым браком с детьми и тереться о ковры в ожидании телесного контакта… Как видно, недополучила чего-то важного в детстве.
«Конечно, недополучила… С такими-то родителями», – промолчал Растов.
– И ты? Спасла его тогда?
– У меня в тот день было важное собеседование на работе. Я пыталась устроиться в один из филиалов Колониального Суда. Назначено было на те самые минуты, когда Козлотур с его медийной армией угрожали Ивану Сергеевичу потерей должности и репутации… Ну, ради любимого я и коня на скаку, и в горячую избу! С собеседования уйти было нельзя под страхом лишения лицензии, поэтому я симулировала обморок и меня увезла «Скорая». Из больницы я сбежала через выход для медперсонала, стибрив форму лаборантки, и сразу поехала на космодром… Надела на любимого мешок для мусора, вывезла его на улицу в тележке для багажа. Усадила в такси, заплатив шоферу все свои деньги, сказала, чтобы вез его на дачу, в Тверь, у него там, как в реанимации, стояла детоксикационная установка – «искусственная печень», «искусственная почка», плазмаферез… Представляешь, все деньги отдала! У меня не оставалось даже на обратную дорогу, ведь все мое – и карточки, и кошелек – было заперто в камере хранения больницы… И я шла от космодрома до метро пешком, а в метро наврала, что я врач «Скорой помощи», отстала от своих… Чтоб пустили бесплатно. До сих пор стыдно вспомнить…
– Пешком? До метро? Так это же часа два, не меньше? – ужаснулся Растов.
– Три с половиной. Наступил вечер, начало накрапывать, а я шла вдоль трассы и голосовала, никто не останавливался, да я их понимаю, что это еще за «женщина в белом», заляпанная грязью. Но мое сердце было исполнено радости! Главное – репутация Ивана Сергеевича спасена, думала я… Мне льстило, что он позвонил мне – не заместителям, не телохранителям, не домработнице, не одной из десятка бывших жен – их всех он называл по телефону одинаково, «ангел мой», чтоб в именах не путаться, – а мне. Мне! Своей Нинусичке! Своей кисене-полосене! Я думала: вот, он проверяет меня. Проверяет, насколько я преданная и отчаянная. Проверяет, потому что любит и хочет доверять мне как себе… Мне было приятно, что я прошла проверку на отлично… И плевать, что холодно, страшно, что промокла и ногу натерла.
– А та работа? В Колониальном Суде?
– Я ее так и не получила, увы… Меня больше не допустили к собеседованию, сказали, им нужны сотрудники с хорошим здоровьем, чтобы без обмороков… А при чем тут часы, спросишь ты? А притом что перед тем, как сесть в аэротакси, которое увезло его на дачу, в Тверь, куда мне было совсем не нужно, Иван Сергеевич приоткрыл заплывший левый глаз, снял с запястья свои часы марки «Амдерма» и повесил их на меня, хотя они были шире моего запястья ровно в два раза. Еще он объяснил мне заплетающимся от наркотического опьянения языком, какая я на самом деле счастливая, что, мол, мужская эта «Амдерма» стоит как моя годовая зарплата в том филиале Колониального Суда, куда я пыталась в тот день устроиться… А он все компенсировал, такой щедрый…
– А вторые часы?
– Их он пытался подарить через меня моему приемному отцу. Он был сильно пьян и хотел, чтобы Федор Фомич знал, что сам великий Иван Сергеевич без ума от его дочери! Его не особенно смущало, что я замужем, что я не говорила Федору Фомичу, к слову, известному ханже, о наших отношениях, что мы с ним никогда не были близки, и уж тем более не могло и речи идти о том, чтобы доверять ему такие стыдные секреты… Но Ивана Сергеевича это не волновало, он был беспечен как иные иностранцы, для которых наши нормы поведения – звук пустой. «Он такой прекрасный человек, твой папа… Пусть это будет ему… Подари от меня», – вот что-то такое он бормотал. Это была «Эврика» в золотом корпусе с гильошированным циферблатом из стерлингового серебра.
– Твой принц снова пьяный был? – догадался Растов.
– Как всегда! Вот так у меня и образовались эти две пары мужских часов… Он все время с легкой укоризной интересовался, а почему я такие классные, хотя и немножечко ношеные, часы не ношу… Несколько раз про свои жалкие подарки ревниво так осведомлялся, хотя про мое здоровье не спрашивал никогда, он вообще предпочитал не спрашивать, а говорить, говорить сам, мол, что вы, бабы-идиотки, можете интересного нормальному деловому мужику, богачу и седовласому красавцу, сказать в принципе… В общем, аргумент, что я его часы не ношу, потому что мне перед мужем неловко, с ним не проходил… Слово «неловко» он вообще не понимал. А говорить, что ни первые эти часы не идут, ни вторые, что у первых поцарапан циферблат, а у вторых отвалилась секундная стрелка – в общем, мне не хотелось. Как бы я его укоряю в том, что он подарил мне что-то некачественное. Он, такой совершенный во всем! Господин Идеальнов! У него было любимое выражение: «каскад упреков»… Он был уверен, что все кому не лень, а более того те, кого он особенно затрахал своим нытьем и невменяемостью, его такими «каскадами» осыпают. В первую очередь, конечно, я. Поэтому мне категорически нельзя было быть чем-либо недовольной… Ведь разве можно упрекать в чем-либо со всех сторон сверхчеловеческого, безукоризненного Ивана Сергеевича? Терпи и заткнись… Ты же хочешь детей и замуж? Да? Вот то-то же.
– Он у тебя сатана какой-то, Нинка… Бр-р!
– Это еще не сатана, Костя! – Нина, что называется, «разошлась», и всему виной был, конечно, «Мухомор». – Когда я ушла от мужа, я стояла в ночной рубашке и домашних тапочках без задника на велосипедной дорожке нашего поселка. Все мои телефоны, карточки, документы – как и тогда, на космодроме «Апрелевка», – все это осталось в нашем доме, там, где бесновался убитый горем Альберт, и вернуться туда было для меня все равно что отрезать себе пару пальцев на руке, а потом разжевать их, хрустя косточками, и разжеванное проглотить… Когда я дошла пешком до особняка соседки, я позвонила Ивану Сергеевичу. А он был, как всегда, пьян в дымину. Я попросила его помочь мне… Мол, спасай, любимый, первый раз тебя о помощи прошу! Мол, произошло то, о чем мы столько мечтали, я решилась, я ушла от мужа… Мол, карманных денег нет, а мне надо хотя бы до Москвы теперь доехать.
– А… он?
– А он сказал так холодно: мол, сейчас занят, буквально через пять минут вылетаю в командировку на Паркиду… Ты, говорит, продай часы, которые я тебе подарил. Они стоят больших денег. А кроме этого, говорит, я пока тебе ничем помочь не могу, потому что страшно занят… И, мол, когда вернусь, может, что-нибудь подкину. Он это сказал, хотя у него в подчинении было восемьсот человек… Он обожал эту цифру повторять… Восемьсот! Один звонок бухгалтеру, шоферу, домработнице, кому угодно из этих восьмисот – и мои проблемы решены. Я в тепле, я пью глинтвейн… Но он сказал: «Продай часы» – и положил трубку. Хотя любил повторять: «У меня, кроме тебя, никого в мире нет». И еще: «Я люблю тебя, как никогда никого не любил». Когда он куда-то ездил, мы говорили по телефону по три-четыре часа в день. Не могли наговориться.
– Не представляю… И что, ты их… те, его часы… действительно продала?
– Нет.
– Почему?
– Потому что это были поддельные часы. И те и другие. За них и десять терро было не выручить.
– И «Амдерма»?
– Да. И «Эврика». Это были реплики. Дешевые. Сделанные в Атлантической Директории, в подпольных мастерских. Так мне сказали в центре обслуживания дорогих часов на Остоженке… Возле дома нашей классной, помнишь?
– Хм… Вот это да! – Растов даже побледнел от услышанного.
– Вот именно, что «да».
– Может, он был беден, этот твой Сергеевич? Ну, на самом деле? – предположил Растов.
– Беден? Это исключено… Просто поверь, – всхлипнула Нина и сделала последний глоток из бокала с «мухоморовкой», трубочка уже давно валялась на полу.
– Может быть, он был просто патологически жаден? Я когда-то читал, что сверхжадность – это своего рода болезнь… Что ее некоторые люди не контролируют.
– Наверное, он ею и болел. Хотя на его бывших жен, детей, любовниц и прислугу эта болезнь, если верить его рассказам, отчего-то не распространялась… Всю свою жадность он запасал для меня.
– Тогда в чем причина такой нелепой патологии?
– Ты знаешь, Костя, мне теперь кажется, он меня просто не воспринимал как человека из плоти и крови… Вообще не воспринимал как реального человека, которому можно что-то подарить, чем-то помочь. Я для него была только голосом в телефонной трубке. В крайнем случае, красивой бабой из знаменитой семьи, связью с которой можно похвастаться знакомым мужикам на закрытой пьянке… Я была просто дуплом, куда можно часами рассказывать, как его дочь разбила очередную супермашину, которую он ей подарил, тем самым вымаливая себе крохи ее внимания и любви. Как его сыновья полетели на Клару и там напились и начали буянить, бросаться на прохожих, в общем, их забрали в кутузку… Я была не столько его замужней возлюбленной, сколько бесплатным психоаналитиком и безотказной палкой-выручалкой – «посоветуй», «пожалей», «рассуди».
– Ну, может, это и неплохо – быть психоаналитиком! Почетно даже!
– Может, и почетно. Но только за двухлетнее лечение у психоаналитика Иван Сергеевич не того… не заплатил, – Нина сглотнула комок ледяной боли.
– Слушай, но за что-то же ты его, такого, все-таки любила? – утешительно лаская взглядом съежившуюся от воспоминаний Нину, отважился спросить Растов.
– Ты знаешь, я его любила так самоотверженно и глубоко, что даже не могу тебе сказать, за что именно. Чувство сияло так ослепительно, что детали становились неразличимы, их не хотелось различать, по крайней мере, пока я не сомневалась во взаимности. А может быть, я любила не Ивана Сергеевича, а того человека, которым он мог бы быть… Того, каким он мог бы стать, если бы прекратил выпивать по бутылке кубинского рома в день, сказал твердое «нет» корейским психостимуляторам и посетил десяток сеансов экзорцизма на Валааме. В общем, я, похоже, любила того идеального мужчину, образ которого я старательно складывала из нравящихся мне в нем качеств, взятых по отдельности («эрудированный», «опытный», «остроумный», «человек из визора») в своем внутреннем мире… Его-то, а не реального Ивана Сергеевича, пьяницу, враля и малосильное блудилище, я и любила по-настоящему… Говорят, так сильно любят только раз в жизни.
– Глупости все это, насчет «раз в жизни», – недовольно заметил Растов. – Однажды, в десятом классе, я едва не покончил жизнь самоубийством из-за одноклассницы по имени Ева. А сегодня я даже не могу вспомнить точно, у нее фамилия была Лившиц или Левина.
Чтобы развлечь явственно погрустневшую от своих «мухоморных» откровений Нину, Растов рассказал ей о том, как давным-давно в Мончегорске учил детей орудовать саблей и рапирой.
Амурные дела, войны и страсти роковые, и девочки падают в обморок на трибунах, когда на дорожке сходятся мальчики, в которых они влюблены… Пиво по пятницам, пикник на берегу озера Имандра по субботам, бассейн по воскресеньям, и на 23 февраля благодарные родители с нелепыми подарками, иногда престранными – то в виде кадушки для квашения капусты, то в виде напольного коврика с фривольной надписью «Как спалось, милый?».
– Дети всегда хотят фехтовать, как в фильмах. А я им всем по сто раз объяснял, что в фильмах не фехтуют. В фильмах – танцуют с оружием. Это совершенно другой жанр. И что надо фехтовать не «как в фильмах», а «как на соревнованиях». И, я тебе скажу, дети совершенно не хотят в это верить! В то, что любитель против профессионала не выстоит и минуты, особенно же – любитель, который учился «фехтовать, как в фильмах». Не укладывалось это в их стриженых головках, забитых красивыми киношными ракурсами!
– Надо же! Если честно, хотя я взрослая, мне тоже поверить в это нелегко. Ведь в картинах всегда так красиво дерутся! Сшибаются! Противостоят! А на соревнованиях шурх-шурх-шурх, все так быстро решается, и совершенно не зрелищно. Напоминает безлюбовный репродуктивный секс.
– Может, и не зрелищно. Зато эффективно. Р-раз – и нету человека… В смысле – любителя. – Растов недобро усмехнулся.
А потом они выпили еще. И опять заговорили «о личном». Но на сей раз – о личном в Новогеоргиевске.
Глаза Нины вновь заблестели. Но теперь – блеском естествоиспытательницы.
– А вот недавно за мной начал ухаживать прапорщик Хрумкин, такой представительный… Я, воспользовавшись служебным положением, глянула его личное дело. Окончил восемь классов, потом работал помощником техника на каком-то космодроме, далее – срочная служба, за ней – сверхсрочная. Старше меня на четыре с половиной года… В общем, ухаживает.
– А ты?
– А я… посылаю его на йух.
– Почему это, интересно? – сочась сарказмом, спросил Константин, известие о прапорщике неожиданно больно задело его, ведь, в отличие от со всех сторон ненормального и даже зловещего Ивана Сергеевича, Хрумкин имел место в настоящем, а не в прошлом. – Конечно, прапорщик и военюрист – это попахивает мезальянсом. Но не таким вызывающим, как многие другие мезальянсы, о которых мне известно.
Нина остановилась. Взглянула на свою тарелку с остатками яблочного пирога этак рассеяно. И, глядя куда-то под стол, на острые носки своих модельных туфель на каблучке-копытце, выпалила:
– Не могу я, Костя! Не могу с замдиректора Фармакологии и Медицинской Техники Российской Директории, а именно такую должность занимал Иван Сергеевич, на прапорщика, пусть даже тысячу раз хорошего человека, переключиться! Не получается у меня! Вот и выходит странная штука: приехала сюда, чтобы подлечиться от снобизма. А получилось – в своей болезни закоренела. – Нина опрокинула рюмку ликера, поставленную перед ней предельно предупредительным пожилым официантом, и примолкла.
– Выше нос, Нинок! Ведь сейчас ты обедаешь не с прапорщиком Хрумкиным, а с сыном Сопредседателя Совета Директоров Российской Директории товарища Растова! – последние слова Константин произнес с наигранным пафосом, в котором было что-то Мончегорское, заполярное. И тотчас во все легкие расхохотался, да так, что посетители из-за соседних столиков (кафе понемногу наполнилось) стали на них оглядываться.

Нина подарила Константину затравленную улыбку.
– Этот факт – ну, о сыне Сопредседателя Растова – он гладит пупырчатую гидру моего снобизма по ее скользкому и холодному брюшку, – заключила военюрист Белкина.
В этот момент Растову больше всего на свете хотелось поцеловать ее и обнять, такую остроумную и такую бедняжку. Но он, конечно, сдержался.
– Скажи, Нина, – Растов вдруг вновь посерьезнел. – У тебя кто-нибудь есть? Ну, кроме прапорщика Хрумкина?
– У меня? – Нина испуганно отпрянула. – Нет… А у тебя?
– И у меня.
Договорились встретиться еще через три дня, девятого января.
– Нинок, нас с тобой ждет кегельбан… Любимое развлечение подростков, которыми мы в глубине своей души, я уверен, все еще являемся! – провозвестил раскрасневшийся от ожиданий – ведь все складывается так здорово – Растов, стоя на крыльце Нининого подъезда, притом уже во второй раз!
Счастье распирало его сердце.
Распирало.
По-настоящему.
Так радостно – притом одновременно и животной радостью, и радостью небесной – никогда ему раньше не бывало: ни с Беатой, ни с Алишей, ни с Евой, ни с теми многочисленными неопределимыми теперь женщинами, которых было так много и как будто не было совсем.
– Кегельбан… А что? Если в рамках программы «долой снобизм», то это хорошо придумано! Девятого января у меня как раз вечером йога отменилась, даже сачковать тренировку не придется.
Но девятого января 2622 года началась война.
Новогеоргиевск бомбили. Горел и взорвался прямо на космодроме линкор «Украина».
Клоны высадили торопливый и многолюдный десант.
Батальон Растова, поднятый по тревоге, ломая многострадальный забор части, выехал во чисто поле…
В общем, было уже совсем-совсем не до кегельбана.
Растов даже не смог дозвониться Нине, чтобы сказать ей «извини». Связь, конечно, не работала.
Часть третья
СНОВА ВОЙНА

Глава 1
УМИРАТЬ НЕ НУЖНО
Январь, 2622 г.
Джунгли
Планета Грозный, система Секунда
С середины января дивизия окончательно ушла в джунгли.
Сотни бронированных машин растворились под пологом трехъярусной листвы, зашхерились в капониры, заползли под многометровый слой бревен и земли.
Рассредоточение было произведено на огромной площади с мастерством, достойным удивления. А все потому, что комдив Святцев за последние предвоенные месяцы многократно гонял танки маршем по джунглям, инженерный батальон заставил рубить новые и расчищать старые просеки, а военных топографов – скрупулезнейше обновить все карты лесного района.
Теперь, чтобы выбить дивизию с воздуха, клонам требовались тысячи вылетов дефицитных штурмовиков «Кара», сотни боевых стрельб фрегатов с многоцелевыми ракетными комплексами «Барака».
Не испытывай Фармандехи-йе Колль – верховное командование Конкордии – острого дефицита в средствах, джунгли были бы вычищены от бойцов 4-й танковой дивизии за неделю.
Но даже со своими скромными двумя штурмовыми полками и тремя фрегатами новоназначенный клонский комендант Грозного Наур Дардан Хорезми смог бы подавить всякую активность соединения полковника Святцева недели за три.
Смог бы.
Но на чашу весов со стороны Российской Директории были брошены четыре атомные субмарины противокосмической обороны – «Иван Калита», «Юрий Долгорукий», «Мстислав Великий» и «Владимир Мономах».
Когда отряд Растова распатронил «Инженерный замок», Наур Дардан Хорезми пришел в неописуемую ярость. И даже страшно себе представить, во что вылилась бы эта ярость, если бы комендант узнал, что, воспользовавшись дырой в радарном поле, российские «Андромеды» подвезли «Ивану Калите» сотоварищи дальнобойные ракеты «Зенит». Каковыми «Зенитами» и были сбиты за последующую неделю шесть клонских флуггеров, а также тяжело поврежден фрегат «Бэджад Саванэ».
Оспорив клонское воздушное господство, субмарины ПКО открыли дорогу «Андромедам» не только на свои радушные палубы, но и на лесные посадочные площадки.
«Андромеды» доставили тысячу тонн боеприпасов, еды, медикаментов. А обратными рейсами вывезли раненых и гражданских.
…Первым же рейсом «Андромеда» забрала у Растова Нину.
На прощание у них было всего-то полчаса, которые надо было потратить с толком.
«Но что это в действительности значит? Что надо, не теряя времени, сделать ей предложение? Но как можно его делать до первого взрослого телесного контакта? А вдруг я ей… физически противен?» – спрашивал себя Растов.
Весь его несредний опыт в амурных вопросах улетучился куда-то. Его как тропическим ливнем смыло.
Нина эвакуировалась налегке – с одной сумкой.
Она похудела и как-то выцвела за эти недели. «Но ей, пожалуй, даже идет», – решил Растов.
На Нине были женственные расклешенные брюки летней расцветки и невесомая шифоновая блузка. Волосы ее, непослушные и дикие, плясали над плечами, зато губы очень богемно блестели от алой помады. Как будто собиралась она не в опасный рейс, а в ресторан «Авокадо», что на Чистопрудном бульваре.
Растов же, при всем своем желании, принарядиться к этой встрече, увы, не смог. Было не во что.
«В чистом – и слава богу», – утешал себя он, сбрызгивая скулы дешевым одеколоном.
Он, конечно, снова не выспался. Потому что в голове у него всю ночь теснились диалоги – он разговаривал с Ниной о важном и не очень.
Да и по пробуждении у Растова был к девушке миллион вопросов. От «Правда ли, что вас эвакуируют в Город Полковников на Восемьсот Первом парсеке?» до «Нравлюсь ли я тебе как мужчина?».
Однако капитан так и не обсудил с Ниной то, что планировал. Зато обсудил нечто совершенно иное. Но тут уже всему виной была сама Нина.
– Костя, а можно я тебя на прощанье спрошу? – Нина нервно прикусила нижнюю губу и поглядела Растову прямо в глаза. – Если я узнаю ответ, мне будет гораздо проще принять то… ну… в, общем то, что все так… получилось. – Было видно, эти слова даются Нине с трудом и она, несмотря на свой нарочито благополучный вид, едва держится, чтобы не расплакаться.
– Задавай, почему нет? – легко согласился Растов, помимо воли отмечая, что за ними с Ниной, скромно притаившимися на краю посадочной площадки возле зиккурата из ящиков, исподтишка наблюдают несколько пар любопытных глаз.
– А ты точно не обидишься? – Нина поглядела на Растова еще внимательней. – Вопрос у меня… странноватый. Но я не могу его не задать. Он жжется, как крапива!
– Задавай свой вопрос. Но сразу скажу: детей от первого брака у меня нет, до тебя на Грозном я ни с кем не встречался, и я тебя не обманываю… И никогда в жизни обманывать не стану… В этом я клянусь.
Больше всего в те секунды Растову хотелось взять Нину за руки. Или на руки. Или поцеловать ее. Зацеловать. До изнеможения зацеловать. Да что угодно вместо дурацких вопросов-ответов! Но раз нельзя – значит, нельзя.
Нина тем временем собралась с духом.
– Костя, скажи мне… Ведь ты из такой семьи… Из особенной такой семьи… Да?
– Ну.
– Перед тобой, когда ты выбирал, кем стать, были открыты все пути, все университеты…
– Примерно так.
– Но ты все же выбрал армию. Как говорил Кеша, ты сам выбрал военную карьеру, и Харьковскую Академию Бронетанковых Войск сам подыскал… Сам, а не родители твои. Так?
– Да.
– Я хочу знать почему. Для меня это… мучительно важно: знать, что ты, лично ты, ищешь на поле боя, среди грязи, боли и неустроенности… Имея выбор с самого начала, от рождения. Ведь здесь же можно умереть. Здесь убивают твоих товарищей. Здесь… вообще все время кого-то убивают! – Нина сделала быстрый обводящий жест рукой, и по ее лицу пробежала недобрая тень нервного тика. – В общем, скажи, что ты во всем этом находишь? Это очень важно! Для меня.
Растов опешил.
Меньше всего он ожидал «философского вопроса» в виду объятой предполетной подготовкой «Андромеды».
Однако странным образом интерес мгновенно вывел его из угрюмо-тревожного и ввел в возвышенное расположение духа.
Растов поглядел Нине в глаза и… заговорил со складностью, которой сам от себя не ожидал.
– Только ты не смейся, Нинок… Но я стал танкистом, военным, потому что я, в отличие от Кеши, не люблю сладкую газировку. Не люблю фастфуд. Не люблю растворимого кофе.
– На войне разве не дают растворимый кофе? – Нина удивленно заломила черную тонкую бровь.
– Дело не в кофе… На войне его, кстати, больше, чем в обычной жизни… Просто война, армия – они благодаря ежеминутной близости смерти… как бы отрицают растворимый кофе. И преображают его. Любая чашка со сладенькой химически-коричневой бурдой, когда ты думаешь о том, что она может стать последней, делается очень-очень вкусной чашкой… Война – это нескончаемый праздник смерти. А значит – и праздник жизни тоже. Праздник настоящего. Потому что смерть и жизнь – они как правое и левое. Это как поднять руку и опустить руку. И именно в этом смысле война прекрасна, ведь смерть и жизнь разделить невозможно… Дело здесь не в адреналине, пойми, Нинок! Я ненавижу прыжки с парашютом, гонки, экстрим. И на гражданке от меня даже мотоцикла не дождешься, тут я на тебя никогда не был похож! Я не люблю опасность как таковую, не люблю все, что попусту щекочет нервы… Просто пойми… Современный мир, он… как бы это сказать… Немного сумасшедший. Он смерть презирает.
– Разве?
– Презирает, да! Старость у нас считается разновидностью какой-то стыдной болезни. Девяносто пятилетних покойников у нас гримируют, как будто им лет сорок… Лишь бы только «не травмировать близких»! А то вдруг увидят эти близкие обычные трупные пятна и, не дай боже, прекратят сидеть перед визором по три часа каждый вечер… И вместо этого запишутся, допустим, на плавание или купят дачу с клумбами и смородиной…
Нина понимающе кивнула.
– Еще про смерть, можно? Смерть – она у нас, я заметил, считается аномалией… Недавно читал одного врача, психоаналитика немецкого, Дальке его фамилия… Как раз про смерть была книжка… Она мне случайно в руки попала, буквально на тумбочке сама материализовалась… Читал я ее, думал, думал, да так, что заснуть потом не мог… Ну да это сейчас не важно… Важно – это что Дальке все во мне перевернул! Да еще и все мои собственные наблюдения подтвердил… Сама посуди, умирающего у нас всегда транспортируют в больницу, даже когда знают, что сделать уже ничего нельзя… Как только у умирающего начинается агония, медсестра вывозит кровать из общей палаты… Поскольку комнаты для умирания в больнице не предусмотрено, умирающего, как правило, выкатывают в туалет… Или в подсобку, где технички хранят свои швабры и пароочистители… Моя бывшая жена Беата – она как раз в онкологии стажировалась, много рассказывала про все это такого, от чего у нормального, психически взрослого человека волосы дыбом встают… Медсестра, конечно, тут же звонит близким умирающего и священнику. Но ни священник, ни близкие, как правило, не успевают приехать вовремя, а у медсестры нет времени на «цацканья» с без пяти минут покойником, она даже не знает, что ему сказать, ее не учат правильным словам… Так у нас и совершается величайшая мистерия жизни – впопыхах, с видом на текущий унитазный бачок и необъятный зад вечно занятой Леночки или Светочки… Когда родственники умершего приезжают наконец в больницу, из туалета им навстречу выкатывают их дорогого мертвячка… А они не знают, как реагировать. Даже дежурные слова «Царствие небесное, вечный покой!» – и те они обычно не в состоянии произнести… Ждут попа, чтобы он произнес их первым… Подал им пример.
– Все так, – ошалело согласилась Нина. – Все так.
– Но ты подожди. Я сейчас объясню, к чему я все тебе такое околобольничное наговорил… Сейчас… Насчет смерти все и всегда врут – так принято в нашей лицемерной современной культуре, которую так и подмывает назвать «культуркой»… Неизлечимым больным вешают лапшу, что они поправятся, тем самым лишая их мужества понять, что же с ними происходит, и напрячь свои силы для рывка, который, возможно, и принес бы нежданный результат… Близким умершего врут, что траур – это ни к чему, что завтра же надо веселиться, как и не было ничего, ехать в отпуск на Большой Муром и пить там медовуху… Студентам-медикам вкручивают, что всякую жизнь можно спасти, что смерть – это плохо, что смерти ни в коем случае быть не должно, хотя как это возможно? О смерти у нас вообще говорить неприлично. С ней нельзя осознанно находиться рядом. Это – ой! Это – ай! Все в нашем перекормленном счастьем мире настроены против смерти, хотя на праздники вроде бы и ходят в церковь, и свечки ставят, когда припрет! Врачи ненавидят и боятся смерти больше всех – уж поверь, когда Кеша болел, а болел он всегда, я этих субчиков у нас дома навидался… Они будут месяцами «тянуть» на аппаратах коматозного больного, лишь бы не дать смерти сделать свою возвышенную работу… Они уверены, что смерть – это конец, а не начало… У них, у нас всех, вместо души теперь – полиэтилен… И сладкая газировка ничего не значащего «позитива»…








![Книга Стань стальной крысой! (Книга-игра) [Ты можешь стать Стальной Крысой!] автора Гарри Гаррисон](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-stan-stalnoy-krysoy-kniga-igra-ty-mozhesh-stat-stalnoy-krysoy-13114.jpg)