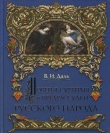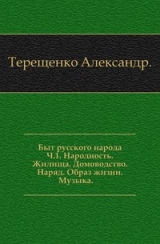
Текст книги "Быт русского народа. Народность. Жилища. Домоводство. Наряд. Образ жизни. Музыка. Часть I"
Автор книги: Александр Терещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Науки были любимы в уединенной келье. Верхуслава, невестка кн. Рюрика, ревностно покровительствовала ученым мужьям: епископу суздальскому Симону и монаху киевской лавры Поликарпу (около 1226 г.). Период татарского владычества, мрачный для воспоминания, но утешителен крепкой верою. Святители и пастыри проповедовали христианское смирение и утверждали в уповании на Бога защитника. Духовенство, приобретя большое влияние на народ, умело защищать его пред ханами. Так, митрополит Св. Алексей успокаивал свое отечество ходатайством в Орде; архиепископ ростовский старец Вассиан, Демосфен своего времени, напоминал Иоанну III (в 1480 г.) стоять крепко за отечество и веру. «Наше дело говорить царям истину», – писал он к царю. – «Что я прежде изустно сказал тебе, славнейшему из владык земных, о том и ныне пишу, ревностно желая утвердить твою душу и державу. – Когда ты поехал из Москвы к воинству с намерением ударить на врага христианского, тогда мы, усердные твои богомольцы, денно и нощно припадали к алтарям Всевышнего, да увенчает тебя Господь победою. Что же слышим? Ахмат приближается, губит Христианство, грозит тебе и отечеству: ты же от него уклоняешься! – Государь! Каким советам внимаешь? Помысли! Предать землю русскую – мечу и огню; людей погибели! Чье сердце каменное не обольется слезами от единой мысли? О, Государь! Кровь вопиет на небо. Мы уповаем на Вседержителя, что ты не оставишь нас и не будешь именоваться предателем отечества. Отложи страх: Господь мертвит и живит. Поревнуй предкам своим: они хранили русскую землю и покоряли многие страны. Мы все благословляем тебя на Ахмата, не царя, а разбойника и богоборца. Лучше солгать и спасти государство, нежели истинствовать и погубить его» [39]39
Кар. «И. Г. Р.», т. 6, с. 145–148.
[Закрыть].
Этот самый период замечателен духовными сочинениями митрополитов: Киприана (1406 г.), Фотия (1410), Григория Самблака и Макария, которые, конечно, не все в духе народном, зато везде проникнуты священным чувством любви к отечеству. Такой дух господствовал постоянно в нашем дорогом отечестве; такой дух спас Россию и вручил ее венценосным Романовым. – Иоанн В. и Борис Годунов вызывали иностранцев и старались поселить науки. Годунов предполагал даже открыть в Москве университет, по крайней мере высшее народное училище. Царствование его, нарушенное смутами Лжедимитриев, не дало созреть благим начинаниям – это предоставлено было счастливому веку императрицы Елизаветы.
НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ НАРОДА И ЕГО СЛАВА
Наступала новая гражданская жизнь, появлялись новые источники благоустройства; но это совершилось не вдруг, потому что предстояла еще сильная борьба народу: ему надлежало бороться со своими непримиримыми врагами – соседями: поляками, шведами и татарами крымскими. Укрепляемый любовью народа, Михаил принял царский венец (1613 г. мар. 3). Призванный им единодушно, он ревновал о благоденствии и упрочил его, сколько было возможно. Он прекратил споры за московскую корону, уничтожил крамолы внутри отечества и восстановил достояние России; но мы не знаем, кто был во всех сих действиях душою неопытного и юного государя? Когда святитель Филарет томился неволею в Варшаве, кто врачевал тогда раны нашего отечества? [40]40
Мы знаем, что Филарет по возвращении из девятигодичного плена (1619 г. июн. 14) был возведен в патриаршеское достоинство (июн. 22); потом сделался ближайшим советником своего сына. «Нов. Древн. библ.», ч. 6, с. 125, изд. 1788 г.
[Закрыть]Кто указывал ему на благо общественное? Видим блистательных полководцев, но они были сильные на войне, а не в совете; были крепкие мужеством, а не знанием науки государственного управления. Кн. Одоевский, истребитель шайки атамана Заруцкого; кн. Пожарский, спаситель отечества, поражавший еще скопища лисовщины [41]41
<Лисовский-Янович А.-И. играл заметную роль в событиях Смутного времени, разграбил Коломну, осаждал Троицкий монастырь, долго опустошал разные русские области>.
[Закрыть]; боярин Лыков, памятный шведам своею доблестью; боярин Шеин, защитник Смоленска, и другие радовали отечество и доказывали его силу [42]42
Иностранцы, называя нас варварами, описывали как жителей новооткрытой части света. Но они забыли, что эти варвары были умом сильные и с безграничной любовью к своему отечеству; что эти варвары не дозволили просвещенным народам выбрать из среды их властелина. Народ наш славился и в то время самобытностью и Православием; государские сановники – гибкостью политики и умом дальновидным, ибо уничтожили домогательства Польши и Швеции в избрании их королей в наши цари. Некоторые из наших дворян сражались еще в Тридцатилетней войне и запечатлели свои подвиги кровавыми ранами. Олеарий, секретарь шлейзвигголштинского посольства, приезжавший в Москву в 1633 г., говорит, что между Копорьем (Capurga) и Нотебургом (Шлиссельбургом) русский боярин Базалович угощал посольство вкусными яствами и за столом играла музыка; что Базалович участвовал в Лейпцигской битве в 1631 г. и показывал свои раны, полученные им; что боярин не только храбрый, но обходительный и любезный. – Олеар. «Offt begehrte Beschreibung der' Neuen Orientalischen Reise», с 9, изд. Шлейзв., 1647 г., in. f.
[Закрыть].
Борьба с теми же неприятелями продолжалась в царствование Алексея Михайловича и была упорнее. Зато принятие Малороссии под покровительство России (1654 г. янв. 8) и прекращение войн миролюбивыми и полезными договорами с неприятелями укрепили нас во владении. Великий муж этого времени Аф. Лавр. Ордин-Нащокин много содействовал утверждению Малороссии за Россиею. Друг человечества, достойный сын России А. С. Матвеев трудился и умер за честь и пользу. – Недоставало исполинского гения, который вдвинул бы Россию в систему европейских государств, ибо русский народ любил пламенно свое отечество, а с такою любовью чего нельзя было предпринять и совершить? – Явился великий ум, и слава России озарилась сиянием Петра. Он соединил нас с Европою и показал нам выгоды просвещения. – Мы как бы одним взглядом присвоили себе плоды долговременных ее трудов. Великий монарх едва указал воинам, как надобно сражаться, они уже летали от побед к победам. Явились наши полководцы и доказали, как мы умеем бить шведов и поляков. Победные звуки разнеслись по Европе. – Прежний порядок управления изменился, преобразовались все сословия людей, появились лучшие законы, правильные судилища. – Между многими доблестными подвигами его полководцев не менее поражает меня кн. М. М. Голицын, взявший Шлиссельбург. Взятие этой крепости было ему поручено; осаждаемые были поражаемы со всех сторон; войска гибли, но не отступали. – Царь велел прекратить осаду, но Голицын, влезая на крепостные стены, отвечал посланному: «Скажи Государю, я теперь не ему принадлежу, а Богу». – Крепость обливалась кровью, и стены ее пали пред Голицыным. Отец народа облобызал с гордостью сына отечества [43]43
Нотебург, переименованный после завоевания в Шлиссельбург, взят 1702 г. окт. П. Голик. «Деян.». П. В., ч. II, с. 86. – Приобретение Нотебурга было столь важное, что Петр Великий установил ежегодное торжественное молебствие, которое совершается поныне в день взятия во всех церквах наравне с Кучук-кайнардж<ий>ским миром и другими победоносными воспоминаниями. Герой Шлиссельбурга кн. Михаил Михайлович Голицын был впоследствии фельдмаршалом. – В «Моск. вед.» за 1843 г., № 89, июля 27 ошибочно сказано, что он взял Шлиссельбург окт. 12. – См. статью, напечатанную в том номере: «Жизнь кн. М. Голицына». Он помер в 1730 г. дек. 10; погребен в Москве в Богоявленск. мон., в Китай-городе.
[Закрыть]. Венценосный Петр сам на себе показывал примеры самоотвержения, и между многими: Полтава и Прут.
Великий монарх созидал величие своего отечества на отдаленные грядущие века. Он везде сам судил, сам избирал мужей и не ошибался в выборе своих сотрудников, которые если не стоят наряду с ним, то и не могут быть отделены от него: – Головины, Меньшиковы, Голицыны, Головкины, Шафировы, Долгорукие, Остерманы и многие другие.
Примеру своего отца следовала неукоснительно Елизавета; оружие ее воинов: Минихов, Лассиев, Апраксиных, Фермора, Салтыковых – гремело повсюду; хитрые действия политика-канцлера гр. Бестужева-Рюмина дали чувствовать Европе быстро возраставшее могущество русских. Но что можно сравнить с исполинскими делами Екатерины II? – Иоанн III был творец России, Петр I ее преобразователь, а Екатерина II, мудрая и прозорливая, вознесла ее на верх славы: она венец народной гордости! Обнимая в уме своем систему европейских государств, она не упускала из виду Швеции, Польши и Турции. Она приобретала земли для пользы России, ее могущества и внешней безопасности. Она знала, что все союзы и дружественные договоры суть только кратковременное перемирие и что единственный способ утвердить их – следовало держать неприятелей в трепете. Европа испытывала это многократно и убедилась, что монархиня не разрывала мира без нарушения его другими, и когда меч блистал в руках ее полководцев, тогда было горе супостатам! Проницательный взор ее нашел Румянцевых-Задунайских, генералиссимусов Потемкиных-Таврических, Долгоруковых-Крымских, генералиссимусов князей италийских графов Суворовых-Рымникских, – бича турок, карателя Польши и грозу французов. Последние изведали в Италии весь ужас его штыков. Этот альпийский герой, Аннибал русский, трепет нерешительных австрийцев летал от побед к победам по одному мановению Великой в империи жены – Екатерины II. – Когда он вошел в Италию, тогда казалось, что великие тени Фабрициев, Камиллов, Сципионов, восстав из гробов, смотрели с удивлением на трофеи его. Суворов принадлежит к числу необыкновенных полководцев. Где он ни сражался, везде побеждал. Подобно Цезарю, он ставил себя выше судьбы. Он не шел, а летел к славе, которая встречала его с лавровыми венками. Цезарь, Суворов и Наполеон – вот явления всемирные! Дальновидный взор, изумительная быстрота и верный удар были родные им свойства. – Русские не останавливались, шли вперед, думали о пользе и славе, и вскоре молниеносные их орудия осветили Эвксинский Понт. – Здесь увековечили себя Орловы-Чесменские. – Принцы Кобургские ревновали <к> Чесменским; Ферзены текли по следам Рымникского. Умные государственные мужи: Панины, Безбородко, Репнины, Штакельберги, отец и сын, благодетельные Бецкие, вдохновенные Державины увенчали имя русское. Не здесь исчислять блистательные дела, украшающие по справедливости гордость народную. Довольно, что век Екатерины не разделен с именем русского. Не здесь, а в бытописании царств должно следовать за величием России. В сиянии славы и благоденствии народ рукоплескал уму Екатерины и ее сотрудникам. От берегов Невы до Царьграда, от льдистых стран Северного моря до благословенной Италии, от кавказских хребтов до Пекина – все говорило и завидовало русским.
Наше отечество, наслаждавшееся миром, вскоре было вызвано на новый бой с непобедимым для Европы Наполеоном. Чрезвычайные его победы наводили повсюду ужас; русские точили оружие и встретили, к удивлению его, внутри своих земель. Барклай-де-Толли, Багратионы, Кульневы, Раевские, Коновницыны и Ермоловы бились и изумляли врагов, не веривших самим себе, что они воюют с русскими. Они еще не знали их! Когда Кутузов принял начальство над войсками [44]44
После взятия Смоленска, авг. 6, 1812 г., см. «Письма русск. офицера» Фед. Глинки.
[Закрыть], тогда открылась народная война. Каждый закипел духом мужества: юноша и старик, земледелец и богач, женщины и духовенство. Все и повсюду ревновало о спасении любезного отчества: несли добровольно груды золота, составляли ополчения, помогали раненым и одушевляли их. Мать не оплакивала падшего сына, но гордилась его смертью; отцы, благословляя детей на брань, напоминали им священный долг – умереть с оружием: да не посрамим земли русской! – Дано кровопролитнейшее сражение на бородинских полях, названное битвою полководцев (авг. 26). Сто восемь тысяч нашего войска билось с 180 000 неприятельской армией; гром 2000 орудий гремел беспрерывно; земля дрожала, кровавые реки лились, и мы ни на шаг не отступали. Наконец, отдали Москву; неприятель вошел сюда, не думая, что вновь раздадутся отсюда молниеносные перуны на его погибель; что Москва сделается гробом для двадцати его союзников. – Наполеон предложил здесь мир, говоря: война уже кончилась, но Кутузов-Смоленский отвечал ему: война теперь только начинается. Последовали битвы решительные; ряд полководцев: Витгейнштейны, Милорадовичи, Платовы, Орловы-Денисовы, Баговуты, Бенигсены и другие соперники славы явили образцы бесстрашия и любви к отечеству. А народ и неопытные ратники – партизаны, ища не славы, а справедливого наказания своему врагу, спешили наперерыв вредить ему: отнимали у него жизненные припасы, нападали неожиданно в тыл, делали засады, рубили лес и жгли его, или, укрываясь в нем, внезапно бросались на неприятелей с копьями, косами, ножами и топорами; загоняли в болота или озера и топили целыми отрядами; зажигали собственные дома и целые селения, где проходил неприятель; отнимали у него всякое средство для приюта и жизни. Недостаток в жизненном продовольствии, наставший зимний холод, будучи ужасным для самих туземцев, увеличивал еще более опустошение и погибель и к концу 1812 г. врага уже не стало в России! Этот год, обремененный славою русских, перешел с ними во храм бессмертия. – 1612 и 1812 годы оба были обагрены кровью и увенчаны лаврами. Там и здесь одна народность спасала отечество; там и здесь пожинались лавры на кострах мертвых, и со снежных полей Петербурга русские развернули победные свои знамена на стенах Парижа. Европа невольно воскликнула: велик Бог русской земли – велик и народ ее! – Народ, изливая чувства благодарения пред престолом Всевышнего, наименовал Александра, любимого своего монарха, благословенным, а Кутузова – спасителем; но история с их именами записала в свои бессмертные листы чудесные дела русских.
Там, где более всех лилась чистейшая кровь сынов отечества, там погибли сильные. Сергиевская лавра и Бородинское поле, указывая на доблестные подвиги наших прадедов и отцов, всегда будут наводить усладительную задумчивость и на резвую юность, оживлять пленительной беседою и старцев – на закате дней их жизни. – Согбенный летами и воин молодой, вспоминая о славе протекших дней, вздохнут не раз, вздохнут, обливаясь радостными слезами. Воин! По тебе есть память: она живет в родных тебе – всех твоих русских. – Путник не раз склонит здесь свою голову и воскликнет в восторге небесном: они здесь узнали бессмертное свое жилище! – Сладко умереть за отечество. – Учитесь! – О, для любящих отечество – не надобно учиться. – Кто любит отечество, тот учит других.
По освобождении Европы, обязанной единственно успехам русского оружия, наши воины-орлы недолго отдыхали на лаврах. Раздались в Азии новые громы: Кавказ и Арарат содрогнулись. Князь варшавский – граф Паскевич-Эриванский, принося на алтарь отечества постоянно лавры и трофеи, доказал персиянам, туркам и Европе, что для русских ни палящий зной солнца, ни смертоносные болезни, ни преграда стремительных рек, необозримых пропастей, непереходимых гор не останавливали, а еще более усиливали их рвение. Чем более встречалось им на пути препятствий, тем более воодушевлялись они мужеством и непоколебимостью – свойство великого народа! – Победы нам открыли путь к благоденствию, а слава наша есть право на твердость политическую.
ДЕЙСТВИЕ НАРОДНОСТИ
При всех переворотах гражданственности русский любил богатые одежды и роскошь, гордился своим хлебосольством и негою. Любил травить зверей и не боялся идти на него прямо с одним топором или с рогатиной; тешился плясками и веселил себя песнями. В самом горе он услаждал себя ими: певал почти безумолчно. И теперь он тот же самый: работает ли он, или сидит в праздничный день у ворот своей избы, поет и радуется. Пища, одежда и привычки его страны и родины дороги для его сердца: все сочувствуют с ним, все ему знакомое. Голубое небо, усеянные поля душистыми цветами, нежные плоды южных жителей не производят в душе его столько сладких воспоминаний, как сумрачный день, свист бури и снежные долины: они напоминают ему родное. Воздух морозный, зелень дикая, могилы его предков, гробы его родных, все тут его! Его предки тут родились и уснули – и он здесь успокоится с ними. Конечно, истлевать телу везде равно, но покоиться праху среди родных, на своей родине, усладительно для памяти: она не умирает, переходит по наследству, по чувству бессмертия, и самый прах оживает тогда! – И дикие звери, и хищные птицы знают свое рождение, свое гнездо: берегут и защищают его воплем, ревом и стоном. А человек, царь природы, не постоит за свою родину? Это чудовище, а не гражданин, и произведшая его на свет должна проклясть день рождения! Нет в мире ни одной былинки, ни одного насекомого, которое бы не любило свою родину. Пересадите растение в страну, ему не свойственную, оно зачахнет и умрет. Перенесите самое презренное насекомое в область, ему чуждую, оно не перенесет потери своего отечества: и самое презренное любит свою землю! Нет ничего в природе, что бы не дорожило своим собственным, не любило бы и самые странности, но только свои. Они странны для тех, которые рождены с каменным сердцем, чугунным рассудком, ледяным умом. Но и самый лед, перенесенный в теплую страну, тает – он тает от любви к своему северу; разрушается и оставляет слезы. Все плачет, все рыдает по своему родному, по своей жизни! Магнит устремляется на север и указывает каждому: вот где мое отечество. Не разлучайте меня с ним! Вы не любите своей родины, но не думайте погасить во мне любовь!
Привязанность к своей земле есть общая для всего живущего, для всех людей, потому что в ней скрывается пленительное воспоминание о своей отчизне; но есть другое чувство, высшее, нравственное, которое прославило все народы – это чувство есть любовь к благу и славе своего отечества. Мы видели тому разительные примеры в нашей истории. Кто же не знает нашего народа! – Крепкий и чуждый заразительных болезней – он всегда веселый, живой, разговорчивый, обходительный, ласковый, не мстительный, терпеливый и любящий Православную веру. Редкие качества обитателей земного шара! Питается здоровою и часто скудною пищей: хлеб с солью и квасом – он сыт; живет в черной избе и проводит зиму самую лютую почти равнодушно; одевается просто и даже грубо; прикрывает тело в свирепые морозы почти тою же одеждой, какую носит летом: полушубок и лапти; но в его неизнеженном теле, необразованном уме таится великий дух и возвышенные его добродетели. На зов отечества он первый летит, первый проливает за него кровь свою; он первый умирает за него с восторженным чувством. Умереть за веру и отечество – довольно для русского! Согреваемый божественным светом Православия, он всегда стоял за него грудью, не думая о славе. – Укрепленное верой гражданское общество есть прочное, а это доказано русскими при всех его невзгодах. Православная вера всегда спасала нас. Променять свою веру на другую; допустить думать, что чужая лучше его, покориться власти иноземной, но другого вероисповедания воспламеняло его до ожесточения. Русский предпочтет лучше умереть, нежели захочет видеть Православие униженным; но допустить ругаться над его храмами и алтарями – это невозможно! Пастыри церкви, поддерживавшие чувство к Православию, умели соединить с ним спасение отечества. Никогда русский не потерпит, чтобы кто надругался над его святыней. Уже тот непримиримый ему враг, кто посягает на его Православие, – и горе супостату! С Православием тесно связано отечество. Кто нападает на его веру, тот нападает на его отечество, потому прежде надобно истребить веру, чтобы, не говорю, уничтожить народ, даже завладеть им! Нашествие французов в 1812 г. никогда не могло быть достигнуто цели – цели завоевания России, потому что они были враги Православной веры. Положим даже, что они могли бы иметь торжество над нами и повелевать империею! Но надолго ли? – Это торжество обрушилось бы к погибели властелинов. Рано или поздно, но русские не снесли бы иноземного владычества. Скажут, как же татары господствовали над нами более двухсот лет? Как мы терпели это? – Татары господствовали над нами потому, что наши князья беспрестанно находились в междоусобных раздорах из личных выгод; но религия была покровительствуема самими угнетателями для того только, чтобы усыпить нас. Когда же укрепилась единодержавная власть, тогда все кончились крамолы. Доколе пребудет единство чувств и согласия, доколе благодетельное самодержавие будет управлять нами – дотоле никто не овладеет Россией!
Посмотрите на разнообразие русской жизни, и вы удивитесь, если я скажу, что это разнообразие не мешает народности. Разве можно назвать то народностью, что составляет ее оттенки: нравы и обычаи? Разве народность в том состоит чтобы носить свои одежды, питаться своей пищей, жить в своих старинных хоромах, поступать по обычаю своей страны? – О, тогда бы каждый город – что говорю! – каждый уголок деревни должен искать своей народности. Это не народность, повторяю, а ее туземные обыкновения и привычки, изменяемые местностью – это быт русской жизни. – Что в одном месте принято, то в другом уже смешно; что в одном месте соблюдается со всею строгостью, то в другом почитается причудами; что в одном городе или деревне составляет предмет набожных воспоминаний, то тут же, по соседству, они не допускаются как остатки язычества. Это есть местная потребность, привязанность к своей земле и есть физическая народность, а не нравственная. Кто с материнским молоком всосал любимые привычки, тот не может расстаться с ними – он любит их, но любит от привычки. Неоспоримо, что любовь к своим привычкам существует, даже должна существовать пристрастная, подобно тому, как один пол дышит пристрастием к другому. Разочаруйте слепую его преданность к любимому предмету, раскройте глаза, поверьте недостатки и слабости, сравните с достоинствами другими, более обворожительными, и что произойдет с вашим божественным предметом, без которого вы не могли жить? Раскаяние и, может быть, самое презрение! – Ум рассуждает, сердце холодеет, и чем хладнокровнее станете сравнивать богиню вашего блаженства, коей недавно созидали алтари, курили фимиам; тем более будете убеждаться, что ваш ангел небесный, кроткий как нагорный житель, – имеет недостатки! – Рассуждаете более, и вы краснеете, как могли ослепиться! Хранитель вашего сердца, звезда вашего счастия – уже не по вашему сердцу. – Сладостные мечты исчезли, потому что пристрастие уничтожено. – Такая сила привычек! Но не должно простирать их безусловно, беспредельно, иначе будет не уважение к истине, не признание благородного чувства у других народов.
Пища и одежды, старинное украшение домов, храмов и зданий, конечно, имеют влияние на дух народа. Но в каком смысле? В физическом. Ему нравится одеваться по-своему, ходить в свободных платьях, носить туземные украшения, расписывать дома любимою краской, строить храмы по старинным преданиям, в коих живет его воспоминание, согревает его душу – но не есть ли это действие обычая и, если хотите, той самой привычки? – А привычка есть вторая природа. Мы часто смешиваем действие нравов и обыкновений с чувством народности. Неужели никто не согласится, что, живя в пышных палатах новейшего зодчества, нося иностранные одежды – нельзя не любить свое отечество так же пламенно и страстно, как завещали нам любить его наши праотцы? – Посмотрите на расселение нашего народа по трем частям света – и что их соединяет? Что их держит и хранит? Священнейшее чувство любви к отечеству, основанное на Православии и Единодержавии. Все дышат и пламенеют одним чувством, желают счастия и утверждают благосостояние – вот где кроется народность! Вот его сила и опора.
ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА НАРОД
Нравственная народность выше всякого могущества; она всегда неразлучна с господствующим языком – но у нас им говорят по всем отдаленным концам обширной монархии. И в самое древнее время говорили им при дворах турецкого и египетского султанов: жены, нововерцы и мамелюки [45]45
Кар. «И. Г. Р.», т. 7, пр. 406; Pauli Jovii «De legatio Moscoviae».
[Закрыть]. Язык сближает всех, пленяя слух и народную гордость, но где говорит сердце или ум, там образцы вкуса и ума; где кипят страсти, там унижается небесный дар слова; где чистый пламень мыслей, там присутствие доброго гения, которого вдохновение все разделяем невольно: оживаем в его дыхании, возносимся в его парении – и чье сердце может быть бесчувственным к трогательным звукам слова? – Даже простого, обыкновенного, но давно неслыханного своего родного. Надобно видеть двух единоземцев, встретившихся нечаянно на чужой стороне: с каким восторгом они обнимаются и изливают радостные воспоминания на своем языке. Кажется, что все окружающее завидует им; но их восторг неописанный! Они увиделись в первый раз и уже знакомы и дружны. Они росли, воспитывались и жили на одной земле; они говорят одним языком, а это как электрическая искра пробегает по их жилам, пробуждает тысячу воспоминаний о родине, и слезы навертываются на глазах! Полные избытка сладостных мыслей спешат на перерыв передать свои впечатления, перебивают друг друга, говорят и не наговорятся; прислушиваются к отрадным звукам, повторяют их и не верят, что слышат родной язык. О, этой божественной радости никто не поймет, кто не был в чужих землях, кто не любил своего родного! Обагренный кровью воин опускает немедленно свой меч, когда услышит голос о пощаде на родном его языке. – Звери узнают друг друга в страшном рыкании и не терзают; птицы приветствуют птиц приятным для них щебетанием; змеи и гады ползут друг к другу на свист и шипение, для нас страшное – но для них сладостное; деревья преклоняют свои ветви: они говорят, перешептываются; цветочек склоняет свою головку к другому, вместе с ним родившемуся, и своим колебанием выражают взаимною тихую радость, как бы переговариваясь украдкой между собою. Язык природы разлит повсюду. И чувство его столь пламенное, столь горячее, что оно двигает самими металлами. Одинаковый металл сродняется с однородным. Язык, таинственный узел народности, скрепляет еще более людей между собой: им изъясняют и учат, как надобно любить отечество; на нем произносят священные поучения и совершают моление пред алтарем Всевышнего; им просвещают и указывают гражданину его назначение. Довольно странно мнение тех, которые утверждали, что мир есть всеобщее отечество; что человек может любить столько же чужую землю, сколько свою! Гражданин всего мира не может существовать по причине бесчисленных изменений духа правления и противоречий в действиях к общественному благу. Он не в состоянии любить иноземное, сколько свое; потому что душа его не находит родного отголоска в сочувствии чужеземцев, хотя добрых и просвещенных, и никто не может быть счастливым вне своего отечества, а следовательно, и любить другое и быть гражданином всемирным.
СПОСОБНОСТИ РУССКИХ К ПРОСВЕЩЕНИЮ
В науках мы стоим далеко позади европейцев потому единственно, что менее других занимаемся. Ученое сословие не находится у нас на той ступени, на какой во Франции, Германии, Англии и даже Италии; но оно и не может существовать по причине недоучивания. Наши юноши учатся многому и не научиваются; оканчивают образование скоро и не думают об усовершенствовании себя; более читают, нежели сколько знают. Но доказывает ли это, что мы без способностей? Не можем обрабатывать учености и наук? – Посмотрим. – Народное просвещение с восшествием на престол благословенного дома Романовых произвело ощутительное благое действие: появилась в Москве Славяно-греко-латинская школа (1643 г.) и академия (1682 г.), а духовная Киевская академия сделалась рассадником просвещения в России. Ученые малороссияне были учителями и проповедниками, из коих многие оказали великую услугу наукам, и их наставническое влияние продолжалось почти до конца XVIII века. Памва Берында, Епифаний Славенецкий, Св. Димитрий, Гавриил Бужинский, Феофан Прокопович, Георгий Конисский, Иоанн Леванда, Анастасий Братановский, Евгений Болховитинов и многие другие суть тому доказательство. Из духовных великороссиян не менее содействовали: патриарх Никон, Гедеон Крыновский, Дим. Сеченов, Платон Левшин, Михаил Десницкий, Амвросий Протасов. Во всех их сочинениях разлито, правда, более нравственного и назидательного; но зато с каким редким красноречием соединена любовь к отечеству, укрепленная верой.
В начале XVIII ст. открыто народных училищ 51, семинарий 26, училища: артиллерийское, инженерное и морское, Академия наук (1725 г. дек. 29), сухопутный кадетский корпус, называемый ныне первый кадетский. Тогда изменился слог языка, особенно когда появились: князь Кантемир, Крашенинников, Сем. Климовский, малороссийский казак, сочинявший народные песни. Открытие Московского университета (в 1755 г.) и Академии художеств (в Петербурге 1758 г.) распространили область наук и изящества, коих покровителем был И. И. Шувалов. – Во второй половине XVIII ст. преобразованы военные училища, открыто общество для воспитания благородных и мещанских девиц (в 1764 г., в простонародии Смольный монастырь), учреждено Вольное экономическое общество (1765 г.), основан Горный корпус (1772 г.), открыто хирургическое училище (1783 г.) и распространены повсюду народные училища. В начале XIX ст. учреждено (1802 г.) министерство народного просвещения, коему поручены все светские учебные заведения в России, кроме женских, обязанных благодетельному покровительству императрицы Марии Федоровны – истинной матери несчастных. Преобразованы и открыты университеты: московский, дерптский, санкт-петербургский, харьковский, казанский и виленский; потом александровский (в Гельсингфорсе) и киевский, вместо виленского; высшие училища, лицеи, духовные училища, медико-хирургическая академия (1808 г.), институты, пансионы, гимназии, уездные приходские и военные училища; общества в пользу языка и наук, одним словом, столько открыто и распространено заведений по всей России, что всякому сословию и званию даны средства к образованию. По одному ведомству народного просвещения считается ныне более 2166 учебных заведений [46]46
Постепенное возрастание учебных заведений, через пять лет:
Сначала было в империи учебн. завед. 784, т. е. 1 унив., 1 академ., 12 гимн., 40 благ. панс, 52 уезд., 515 приход. и 163 частн. училища. Тогда же было учащих и других должностных лиц 4 836, через пять лет 6 208, а в 1842 г. 6 767.
Число учащихся возрастало постепенно:
Число учащихся в 1833 г. составляло прибыль около 32 000, но это количество принадлежит одному ведомству мин. народн. просв., не включая огромного числа учащихся в военных, духовных и других училищах. Должно присоединить еще Варшав. учеб. окр., в коем в 1839 г. было учащихся 64 350; в 1840 г. 62 080; 1841 г. 80 865, а 1842 г. 66 708 – всего же учащихся к 1843 г. 169 951. – Таким образом, развивавшееся народное просвещение в течение десяти лет представляет следующее:
вновь учрежд. учеб. завед 784
число учащихся увеличилось 32 000
– учащих около 2 000
напечатано русских книг 7 000 000 т.
вывезено иностранн. кн. до 4 500 000
Совершено 40 ученых экспедиций от мин. народи, проев. См. «Взгляд на сравнит, статист, мин. нар. проев, в течение последнего десятилетия», напеч. в «Моск. вед.», 1843 г., № 58.
[Закрыть]. Если примем в соображение число духовных, военных, промышленных, земледельческих и женских заведений, то они, быть может, не уступят числу гражданских. Какое быстрое распространение просвещения! Не свидетельствует ли это <о> больших наклонностях русского к образованию [47]47
Правда, у нас не заставляют учиться, не обязывают семейства отдавать детей в училища, как, например, в Саксонии, Баварии, Вюртемберге, Швеции, Голландии, Североамериканских штатах, где законом постановлено взыскивать с самих родителей за небрежение; правда, народное образование разлито в других государствах в большей степени, как, например, во Франции считается 1 ученик на 17 обывателей, в Англии и Австрии 1 на 15, в Североамериканских штатах 1 на 11, в Голландии 1 на 9, в Пруссии 1 на 7. – Нельзя умолчать, что у нас из 63'/2 мил. народонаселения учащихся 169 951. – Это выходит, что из 480 учится только 1. – По давно ли мы стали учиться? И кто учится у нас, и как учатся? Дети бедных дворян. Бедные изучают полезные знания и составляют потом украшение отечества, а богатые обращают одно внимание на легкое образование: на языки, музыку, пение и танцы. Первые своими дарованиями и трудолюбием открывают себе путь ко всем почестям; а вторые, поддерживаемые могущественной силою связей и состояния, добиваются одних почестей. Изучение языков сделалось у нас первостепенным, а науки второстепенным предметом. Явилась многосторонность познаний и смесь понятий об истинном значении наук. Легкое и поверхностное образование, пристрастие к чужеземному и тщеславие в знании иностранных языков невольно припоминает нам простодушное истолкование происхождения россов – от расселения нашего племени по всей Европе. Несправедливо было, если бы мы и не видели уклонения образования собственно русского. Нам надобно изучать свое собственное, свою Россию – наше сердце и счастие наше.
[Закрыть]?
Создание русской словесности в прямом смысле принадлежит Ломоносову. Творец языка и слога, он первый начал писать чисто и правильно. В торжественных одах Ломоносова, Сумарокова, Кострова и Петрова слог возвысился. Тогда возникла у нас лирическая, эпическая, драматическая и дидактическая поэзия. Здесь прославились Богданович, Хемницер, Фонвизин, Державин, Дмитриев, Княжнин, Капнист, Нелединский-Мелецкий, Бобров, Измайлов, кн. Шаховской, Карамзин, преобразователь языка и знаток изящного слога; Муравьев (Мих. Ник.), Озеров, Шишков, Крылов, народный баснописец; Жуковский, Батюшков, Козлов, Пушкин неподражаемый, Гнедич, Грибоедов, Востоков, Воейков, Веневитинов, Давыдов, бар. Дельвиг, девица Кульман, граф. Ростопчина, кн. Баратынский и др. Греч, Булгарин и Сеньковский дали новое направление языку, очистив его от многих застарелых грамматических форм; Кукольник, Загоскин, Гоголь, Кольцов, Даль, прославившийся народными сказками – все они представили образцы сочинений в народном духе и жизни русской. Но гораздо сильнее и умилительнее излилось чистое русское слово и чувство в сочинении Цыганова. – Его народные песни – трогательные и поучительные, увлекательные и восхитительные [48]48
Цыганов был актер московской труппы, умер в Москве во время холеры на 35 г. от рождения. Песни его напечатаны в Москве 1834 г. под названием «Русские песни». Цыганов не искал ни славы, ни покровительства литературных партий, он жил тихо в своем кругу и пел как соловей, потому что ему хотелось петь; но он пел по внутреннему влечению к своему русскому, потому в его песнях развито народное чувство. Кто не знает его песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». – Зато многие, я думаю, не знают многих других прекрасных его песен. – Выпишем некоторые из них, напр. песнь X:
Не туманами, не мглой Солнышко затмилось, Ах! не тучей громовой Ясное закрылось: Потушился свет очей — Раннею могилой! Мне не видеть красных дней, Не видать уж милой! Мне ее не разбудить Нежными речами. Ах! ее не воскресить Горькими слезами! Оседлаю ж я коня. Сгину в ратном поле. И родной мой край меня Не увидит боле! И стрелою он летит В поле, в грозну сечу; И быстрей стрелы летит Смерть ему навстречу!* * *Песнь XXIV Лежит в поле дороженька, Пролегает. И ельничком, березничком Зарастает. Не змейкою – кустарничком Она вьется; Не реченькой – желтым песочком Она льется. Не торною, не гладкою, Не убитой: Лежит тропой заброшенной, Позабытой. — В конце пути-дороженьки Горюч камень; На камешке сердечушко, В сердце пламень! По всем углам у камешка Растут ели; По всем углам на елочках Пташки сели. И жалобно пернаточки Распевают: «Вот так-то спят в сырой земле, Почивают — Безродные, бездольные На чужбине — Никто по них не плачется Не в кручине! Ни мать, ни отец над камешком Не рыдают. Ни друга здесь, ни брата здесь Не видают! Лишь раз сюда красавица Приходила, Здесь ельничку, березничку Насадила. Поплакала над камешком, Порыдала. Нам жалобно петь день и ночь Приказала. А кто она? где делася? — Не сказала!»* * *Песнь XXXVII Каркнул ворон на березе, Свистнул воин на коне, — Погибать тебе, красотке, В чужедальней стороне! Ах, зачем, за кем бежала Ты за тридевять полей? — Для чего не размышляла Ты об участи своей? Все покинула, забыла Прах отца, старушку мать, — И решалася отчизну На чужбину променять! То ли счастье, чтобы очи Милым сердцу веселить, — После ими ж дни и ночи Безотрадно слезы лить? Неужели ты не слыхала Об измене? – «Никогда!» Неужели ты полагала В сердце верность? – «Навсегда!» «Было некому бедняжку Поучить меня уму, — И голодной – вольной пташкой Я попалась в сеть к нему. Никого я не спросилась, Кроме сердца своего, — Увидала – полюбила, — И умру любя его!» Каркнул ворон на березе, Свистнул воин на коне — И красотка погибает В чужедальней стороне.
[Закрыть]. – По части истории много сделал хорошего и полезного, кроме бессмертного Карамзина, Полевой; как исследователи ее особенно замечательны Каченовский, Арцыбашев, Калайдович, Пав. Строев, П. Г. Бутков и Д. И. Языков; но история никогда не забудет великодушных пособий государственного канцлера гр. Н. П. Румянцева, сына Задунайского. Нынешние разыскания Археографической комиссии в пользу отечественной истории бесспорно принадлежат министру народного просвещения графу С. С. Уварову.
Из очерка о распространении просвещения мы видим сильное рвение русских к наукам. Правда, науки у нас еще не заняли должного места; легкие сочинения и поэзия господствуют пред нами, но так начинал свою умственную жизнь каждый юный народ, который прежде любит вымыслы, потом гоняется за отборными выражениями и набором слов, не установив еще языка; и наконец переходит к положительному труду, требующему зрелого ума и терпения в науках. Народ с крепкою силой, пламенною наклонностью к любознательности, удобно все перенимающий и усваивающий, чего не обещает в будущем? Народ наш еще не возмужал; пылкий и стремительный ко всему полезному, он достигнет со временем возможной степени просвещения. И кто знает будущее?