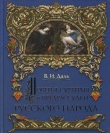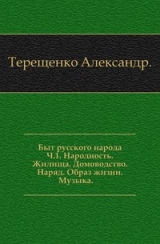
Текст книги "Быт русского народа. Народность. Жилища. Домоводство. Наряд. Образ жизни. Музыка. Часть I"
Автор книги: Александр Терещенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
ВСЕОБЩЕЕ УНЫНИЕ И УНИЖЕНИЕ
Суеверие носило молву, что татары суть предтеча разрушения мира. Народ стенал и с воплем обращался к Богу: «Всевышний! Ты караешь Русь в своем праведном гневе, но откуда же сии страшные пришельцы? Ты один знаешь, великий Боже! – Мудрые книжники ведают, но мы не постигаем, кто они? Мы знаем их по нашим страданиям» [19]19
«Новгородская лет.», с. 99. – «Бог един весть, кто суть и отколе изыдоша. Премудрии мужи ведять я добре, кго книгы разумеет, мы же их не вемы, кто суть, но зде вписахом о них, памяти ради русских». – «Троицк. летоп.».
[Закрыть]. – Страх был повсюдный: все постились. Духовенство день и ночь воссылало молитвы к Тому, который одним мановением сокрушает величие царств. Прощались со здешним миром, готовились к последнему суду. Все думали, что близок час разрушения вселенной! Толпами стекались в мирные кельи, надевали монашеские одежды и верили, что она их спасет. Молились, чтобы Бог пощадил их от мечей татарских, по крайней мере для принесения раскаяния в своих грехах. Этот ужас был подобен тому, какой распространяли норманны в VI веке, когда они свободно опустошали Англию, Шотландию, Францию, Андалузию и Италию. – По церквам тогда читали установленную молитву: «Спаси нас, Господи, от ярости норманнов» [20]20
A furore Normanorum libera nos, Domine. Chron. de Grcgor. de Tour.
[Закрыть]. Униженные наши праотцы не находили заступников. Головы князей падали в Орде по одному взгляду ханов. Многие из князей запечатлели свою жизнь мученической смертью. Роман, князь рязанский, неосторожно говоривший в Орде об Алкоране, был потребован к ответу Мангу-Тимуром. Князь смело говорил свое мнение. Озлобленные поклонники Алкорана заткнули ему рот, изрезали его по суставам и, содрав с его головы кожу, воткнули голову на копье. – Русские плакали по своем князе, но славили умершего за православную веру [21]21
Князь Роман помер от рук мучителей в 1270 г. июля 19.
[Закрыть]. – Все трепетало пред именем хана; что он ни приказывал, все повиновались раболепно. – Только говорили: «Царь велит, царь приказывает, да будет его воля!» Из этих слов произошла древняя пословица: «Близ царя, близ смерти». Князья наши ездили в Орду как на Страшный суд. Представляясь царю, они не ручались за свою жизнь. Ласкаемые и угощаемые ханом, они не были еще уверены, как их отпустит царь. Нередко после милостивого принятия следовала смерть. И тот был счастлив, кто мог возвратиться в отечество с головою! Потому все наши князья, вельможи и сопровождавшие их, отправляясь в Орду, принимали Тайны Св. Причастия, прощались навсегда со всеми родными и знакомыми и писали духовные завещания [22]22
Кар. «И. Г. Р.», т. 4, с. 215.
[Закрыть].
Не утомляя внимания читателей изображением тогдашних бедствий, не можем, однако ж, пройти молчанием о том унижении, какое должны были совершать наши князья при приеме послов. Когда хан отправлял посла в Москву, тогда великий князь встречал его за городскими воротами как самого царя и подносил ему чашу кобыльего молока. Князь наблюдал пред ним величайшее почтение, безотчетную покорность и не смел пред ним садиться. Когда посол садился на коня, тогда князь наклонял пред ним свою спину, а тот, став на нее ногами, взлезал на лошадь [23]23
«A brief treatise of the great Duke of Moscovia, his geneology» <Краткий трактат о Великом Князе Московии, его родословная>; помещ. в собр. Гаклюйта, т. 1, стр. 247, изд. 1819 г.
[Закрыть]. Этот обычай прекратился в конце XV века. София, супруга в. к. Иоанна III, убедила его не встречать ордынских послов [24]24
Ордынские послы имели обыкновение привозить с собою басму, т. е. болвана, деревянное изображение хана. Князья московские выходили пешком за город навстречу послам; кланялись им, подносили кубок кобыльего молока, подстилали мех соболий под ноги ханского чтеца и слушали чтение грамоты с коленопреклонением. На месте, где происходила эта встреча, София выстроила церковь во имя Спаса, именуемого доселе: Спас на болвановке. Она, не терпев татарских послов, живших в особом доме в Кремле, кои следили за поступками великих князей, послала богатые дары Ахматовой жене и писала лукаво, что она, имев какое-то видение, желает создать храм на ордынском подворье и просит уступить ей. Царица согласилась: дом посольский разломали, и татары, выехав из него, остались без пристанища. – Кар. «И. Г. Р.», т. 6, с. 92.
[Закрыть]. Никто не избегал угнетения и никто не был уверен ни в своей собственности, ни в своей жизни. Богачи лишались имений без всякой вины; матери оплакивали честь дочерей: враги презирали невинность! Часто жены и девицы, защищая свою добродетель, бросались с высоких хором или поражали себя ножами! Часто татары в глазах родителей топтали младенцев конями и смеялись над воплями несчастных; часто в присутствии детей они вырывали внутренность отцов и матерей и сдирали с живых кожу. О, тогда живые завидовали мертвым! Гордые некогда боярыни преклоняли с трепетом свои головы пред повелениями татарских жен; нося прежде золотые ожерелья и шелковые одежды, едва уже прикрывали наготу рубищем; некогда окруженные толпою слуг, они сами сделались рабынями татарок: носили для них воду, мололи хлеб, готовили пищу в дымной избе, в коей закуривали свои нежные, белые лица чернотою неволи; тогда уже никого не различали. Потушали самую честь, которая драгоценна только при благоденствии.
ИЗМЕНЕНИЕ МНОГИХ БЛАГОРОДНЫХ КАЧЕСТВ ОТ УГНЕТЕНИЯ
Наши праотцы, повинуясь всему, искали облегчения; но варвары следовали другому образу мыслей: они думали, что покоренные не могут быть друзьями победителей; что истребление первых необходимо для успокоения последних. От таковых действий азиатской политики изменился народный дух: угнетение, страх и раболепная покорность унизили благородные свойства. Обман уже не был пороком, клевета не казалась гнусным поступком. Лишение женской свободы, введение холопского состояния, брание взяток, наказывание кнутом на торговых местах, клеймение воров за кражу, вешание преступников и всеобщее невежество достались в удел от поработителей. Самые благороднейшие чувства стыда, чести и совести исчезли: мы пресмыкались и низкими доносами губили единокровных. Разоряли даже собственные свои владения. Мы гибли от самих себя, а татарские мечи довершали наше горе. Победные венки наших предков не пленяли угнетенных. Некогда витязи говорили своей дружине: «Станем за отечество и смертью искупим его, а ныне и последняя искра любви угасла. Горе нам, горе!» – восклицают современные летописцы. «Защитники добрые исчезли; ничто не ратоборствует за нас; кровь льется за хана. Прошли те благословенные годы, когда великие князья не разоряли нас, не грабили единоземных владений. Сокрылись навек от нас покой и гражданское счастье! Баскаки сидят у нас на троне, наши государи преклоняют колена пред ними, а с нами они поступают как с презренными, осужденными на вечное рабство: закладывают, продают и убивают без суда». – Понятие о чести и справедливости так изменилось тогда, что князь липецкий Святослав почитался нами за злодея, потому что отражал насилие татар; а князь рыльский Олег, вонзивший в его грудь свой меч, был похваляем современниками. Самые нравы носили тогда отпечаток азиатской свирепости. Одно великокняжение Василия Темного ознаменовано многими злодействами. Князь Василий Косой отсек руку и ногу Роману, кн. переславскому; в. к. Василий и племянник его Василий Косой ослеплены; кн. Шемяка и кн. литовский Михаил отравлены. Чернь без всякого суда топила и жгла людей. Кн. Иоанн Можайский, осудив на смерть боярина Андрея Дмитриевича, всенародно сжег его на костре с женою за мнимое волшебство. Верные гибли, гражданское бытие исчезло, порядок и тишина, необходимые средства для возрастания благосостояния, нарушались еще постоянными набегами и внутренними смутами. Дети великих князей спорили о наследстве престола, а племянники с дядьями; вероломство следовало за вероломством, разбои за разбоями, в коих отличился хищный князь Борис Александрович тверской (1445). Так поступил и Дмитрий Шемяка, нарушавший постоянно спокойствие великого княжения и давно сделавшийся ненавистным народу. Духовенство вступалось за бедствия отечества, напоминало Шемяке, что он не живет в мире, грабит бояр, тайно сносится с врагами. В несчастных временах России православные пастыри являлись ее утешителями. Они укрепляли народ верою и грозили небесною карой губителям благосостояния. Они бестрепетно напоминали князьям их долг и сами свято выполняли свое призвание: говорили истину, не страшась гнева. «Ты ведаешь, – писали наши святители к жестокосердому Шемяке (1449 г.), – сколько трудился твой отец, чтобы присвоить себе великокняжение: лил кровь россиян, сел на престол и должен был оставить его; выехал из Москвы с пятью слугами и сам звал Василия на Государство; снова похитил престол и долго ли пожил? Едва достиг желаемого и скрылся в могиле, осужденный людьми и Богом; но что случилось с братом твоим? В гордости и высокоумии он резал христиан – благоденствует ли ныне? Вспомни и свои дела! Когда безбожный Махмет стоял у Москвы, ты не хотел помогать государю и был виною пролития христианской крови. – Сколько сожжено храмов, убито людей, поругано девиц и монахинь! Ты, ты будешь ответствовать Всевышнему! – Великий князь молил тебя идти с ним на врага – но тщетно. Пали верные воины в крепкой битве: им вечная память, а на тебе кровь их! Господь избавил Василия от неволи, но ты, вторый Каин и Святополк в братоубийстве, разбоем схватил великого князя, истерзал его: на добро ли себе и людям? Долго ли господствовал, и в тишине ли? Волнуемый беспрестранно страхом, ты не находил покоя днем и не знал ночью сна от страшных сновидений: искал великого княжения и погубил свой удел. Великий князь снова на престоле: данного Богом не отнимет человек! – Но ты и ныне не выполняешь клятвенных условий мира: именуешь себя великим князем и требуешь от новгородцев войска, будто бы для изгнания татар, призванных Василием для своей защиты. Они немедленно будут высланы из России, когда докажешь свое миролюбие к государю. Он знает все твои происки. – Мы, служители алтарей, молим тебя, господин князь Дмитрий, очисти совесть, удовлетвори праведным требованиям великого князя, готового простить и жаловать тебя из уважения к нашему ходатайству, если обратишься к раскаянию. Когда же в безумной гордости посмеешься над клятвами, тогда не мы, а сам возложишь на себя духовную тягость: будешь чужд Богу, Церкви, Вере и проклят навеки со всеми своими единомышленниками». – Эти убеждения не подействовали на Шемяку. Он начал войну и в битве под Галичем потерял свой удел [25]25
Кар. «И. Г. Р», т. 5, с. 324–327, изд. 1817 г.
[Закрыть]. Пастыри духовные проповедовали мир и желали благоденствия народу. Св. Иосиф, основатель волоколамского монастыря, сильно изобличал даже тех из духовных, которые вводили расколы. Так он писал к суздальскому епископу Нифонту по случаю распространившейся жидовской ереси: «Древние орлы веры, святители наши, возвещали истину в вертограде церкви». В важных случаях, где требовалось приговора решительного, возвышался голос достойных пастырей [26]26
Жид Схарий прибыл из Киева в Новгород <в> 1470 г.; познакомился здесь со многими знатными сановниками и духовными и хитрым языком обольстил их своею верой. Иосиф Волоцкий восстал противу его учения. Архиепископ новгородский Геннадий объяснил эту ересь Иоанну III, и собором, созванным в Москве <в> 1490 г., осудили заблудившихся и уничтожили секту.
[Закрыть].
МНЕНИЯ ПРЕДКОВ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД ИГА
Европейские государства в XIV в., когда мы стенали в оковах собственного плена, стремились к просвещению. – Какое же сравнение нашего состояния с европейским? Невежество, грубость и забвение сознания, что мы повелевали некогда обширными и богатыми странами, овладело нашими умами до суеверия. Мы думали, что нельзя восстать противу угнетателей, что одна небесная сила, а не человеческая, могла бороться с врагами веры и народности. Утрата независимости обезоруживала нас, и мы, как низкие поклонники, не смели замышлять о справедливой свободе: деспотизм давил! Народ и государи, смиряясь по необходимости, страдали и безмолвствовали. Казалось, что нельзя уже было надеяться, кто бы напомнил им о прежнем их величии и могуществе, кто бы воспламенил их самоотвержением. Хотя победы невские и раковорские свидетельствовали монголам о силе нашего меча, но мы не восставали противу наших поработителей. Ум Александра Невского блеснул во мраке, а Раковорская битва оставила одни печальные следы воспоминания [27]27
Раковорская битва одержана новгородцами (1268 г., февр. 18) под предводительством кн. Дмитрия, сына Невского, который совершенно разбил магистра немецкого ордена. Сражение было столь жестокое, что «ни отцы, ни деды наши, – говорил летописец, – не видали такой жестокой сечи». Три дня стояли русские на костях, т. е. на месте сражения. – Эту кровопролитную битву долго помнили в Новгороде и Риге. – Кар. «И. Г. Р.», т. IV, изд. 1817 г., с. 94–96.
[Закрыть]. Всяк заботился о сохранении своей жизни; казалось, что никто не хотел слышать, что друг его, его соотечественник, гибнет от руки татарина; что по стогнам льется кровь без наказания; что кинжал дерзкого самоуправителя рассекает с зверской радостью верных поборников отечества; что прекрасные и добродетельные жены преданы поруганию; что свобода мыслей уничтожена, и цепи рабства заглушали повсюду святую любовь к родине, отечеству, своей собственной жизни – в неволе было не до просвещения! От Владимира Равноапостольного до смерти Владимира Мономаха был у нас счастливейший период благосостояния и просвещения. От Мономаха до Донского [28]28
Период благосостояния и просвещения был с 980 по 1125 г., а период бедствий с 1125 по 1362 г
[Закрыть]– горестное воспоминание! – это период наших бедствий: тут мы совершенно загрубели от татарского ига. Россия не уцелела бы от совершенного уничтожения, если бы не способствовали ей внутренние раздоры в Орде.
Славяне мужественные, сильные, верные, бестрепетно взиравшие на смерть, думали ли когда-нибудь, что их потомки будут стенать в рабстве! Отдаленная будущность ничего не предвещала им ужасного. Их будущее мы только знаем, прошедшее изучаем, настоящее нас радует. А что таинственное будущее готовит нашим потомкам?
ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ
Народ объясняется событиями, и если мы в продолжение двухсотлетнего рабства не лишились своей самобытности, то не менее обязаны, кроме раздоров в Золотой Орде, действию Веры: в унижении мы любили Отечество как землю Православия; пресмыкаясь в Орде, мы тихо и медленно подкапывали доверие властелинов. Князья ослепляли ханов золотом, бояре и народ почитали его своим царем. Великие княжества Владимирское на Клязьме и Московское, более всех наученные опытами междоусобия, стремились к государственной целости. Утверждалось наследственное право, уделы присоединялись к великому княжению. Мы шли вперед постепенно, но верно: так начал в. к. Даниил в нач. XIII в., первый великий князь московский; сын его Георгий, зять хана Узбека, усыпляя его родством и преданностию, расширял свои владения. Брат его Иоанн Калита снискал полную доверенность Узбека (в начале XIV века); внук его Димитрий Донской решился на битву с Мамаем. Наши предки, исчисляя все бедствия, претерпенные от угнетателей, пробудились от глубокого сна и долговременного ужаса. Они сами дивились постыдному терпению своих отцов. Все вспоминали древнюю свою независимость и ревновали сбросить цепи рабства – одни мечом, другие молитвою. Мужи и юноши точили оружие; жены и старцы молились в храмах; богатые раздавали милостыню, бояре и граждане собирали воинство, а народ готовился умереть за отечество. Наступила Куликовская битва (1380 г. сентября 8), заря освобождения, и все говорили: «Час суда Божиего наступил; умрем, братия, за отечество!» Решительная битва увенчала общий порыв. Виновники славы, кн. Владимир Андреевич, внук Калиты, прозванный Храбрым, и Дмитрий Михайлович Волынский, победитель Олега и болгар, воодушевили полки. Хотя эта битва не доставила никаких существенных выгод, кроме славы, однако она произвела благодетельное действие в умах: стали думать, что враги не суть непобедимые, что тиранов истребить можно, что сам Мамай разбит и бежал [29]29
От Куликовской битвы прошло 467 лет, но имя Мамая доселе осталось в памяти народа. Вся Россия его знает, а в заволжской стране, преимущественно Царевском уезде Саратовской губернии, все места именуются мамаевскими. При исследовании Сарая, столицы Золотой Орды, которой остатки доныне видны в окрестностях Царева, простой народ говорил, что тут жил Мамай; что в развалинах кроются мамаевские деньги; что в них погребены большие сокровища и клады, которые бережет сам Мамай; что раскапывать их опасно, потому что злой дух Мамая поселился здесь. – Все находимые и отрываемые деньги и вещи называются у них без исключения мамаевскими; отрываемые покойники, кто бы они ни были и сколько бы их ни было, зовутся Мамаем. Однажды нашли в каменной гробнице несколько мужских и женских скелетов, обвитых в парчу, и на вопрос: кто это? было ответом: «Мамай с Мамайшею». Если при раскапывании попадались кости или скелеты, то говорили: «нашли мамаевские кости или нашли Мамая».
[Закрыть]. – Наследник Дмитрия, Василий, был уже ласкаем и чтим в Орде: ханы требовали одной только покорности. Народ поздравлял друг друга, что дожил до времен столь счастливых, и считал Мамаево побоище выше Альтской и Невской. И действительно, это событие до времен Полтавской битвы (1709 г. июня 27) есть весьма важное в истории нашей: оно доказывало возрождение сил русских и подкрепило его в несомненном освобождении. Самые добродетели воинские, запечатлеваемые верою, внушали безотчетную преданность к отечеству. Измена наказывалась примерной строгостью ввиду врагов. Наместник смоленский, князь Василий Шуйский, узнав, что злоумышленники государства заманили литовцев под Смоленск, велел схватить заговорщиков, одел их в собольи шубы и бархат; потом, привязав им на шеи жалованные королем Сигизмундом серебряные ковши и чары, вывел на городскую стену и повесил на глазах неприятелей! Граждане и воины славили справедливость наместника и доказали свое усердие к отечеству мужественным отражением врагов [30]30
Кн. Константин Острожский осаждал Смоленск в 1514 г., и все усилия взять его, даже при содействии злонамеренных людей, были напрасны. Он принужден был отступить с великою потерей, а король искал мира.
[Закрыть]. Дух народной гордости был уважаем даже врагами. Но возвеличение России предназначено было Иоанну III, хотя менее счастливому, однако Великому. Доблестные полководцы его: Холмский, Стрига и Щеня поражали врагов, а он, сидя дома, утверждал государственное бытие внешней и внутренней политикою, восстановлял свободу и целость России; искал орудий для собственных выгод и никогда не служил орудием для других; действовал как великий муж без страстей в политике; имел в виду одно благосостояние и достигал его. От хижины до престола – все спешило к своей независимости: бояре и духовенство, воины и земледельцы славили век Иоанна III, который разительно сходствует с Петром Великим: первый был творец, а второй преобразователь России. Оба ревностно вводили искусства образованных народов, и оба созидали ее могущество.
НЕОЖИДАННОЕ ПРИРАЩЕНИЕ РОССИИ
Сверх тяжких опытов судьбы, сверх бедствий удельного правления и ига монголов наше отечество должно было испытать грозу Иоанна IV; но с любовью к самодержавию оно повиновалось ему. В смирении великодушном умирали доблестные сыны отечества и мирные граждане; духовенство и жены [31]31
Заступники беззащитных Сильверст и Адашев кончили жизнь плачевно; без суда и основательной причины погибли: Даниил, брат Адашева, родственник его Иван Шишкин с женою и детьми, кн. Дм. Оболенский – Овчина, кн. Михаил Репнин, кн. Юрий Кашин, кн. Дмит., Курлятев, кн. Мих. Воротынский, победитель казанцев; бояр. Ив. Шереметев, ужас крымцев; брат его Никита Шереметев; конюший Федоров, муж украшенный славою и сединою; кн. Ив. Андр. Куракин-Булгаков, кн. Дм. Ряполовский, князья Ростовские, кн. Ив. Турунтай-Пронский, казначей Хозяин Юрьевич Тютин, кн. Мих. Черкасский, брат царицы; печатник Казарин-Дубровский, митроп. Филипп, проименованный Святым; кн. Вас. Пронский, печатник Ив. Мих. Висковатый, казначей Ив. Фуников, думные сов: Зах. Ив. Овчина-Плещеев, Хабаров-Добрынский, Ив. Воронцов, Вас. Разладин, Кирик Тырков; защитник Лаиса, Андр. Кашкаров; воев. нарвский Мих. Матв. Лыков; воев. Михайловский, Никита Казаринов-Голохвастов. Ожидая смерти, он уехал из Москвы и посхимился в монастыре на берегу Оки. Царь прислал за ним опричников, он вышел к ним навстречу и сказал: я тот, кого ищите. – Царь велел взорвать его на бочке пороху. – Погибло десять Колычевых, кн. Ив. Шаховский, князья Прозоровские, Ушатые, Заболотские, Бутурлины, князья Мещерские, кн. Никит. Ром. Одоевский, бояр. Мих. Яковл. Морозов с сыновьями и супругою, кн. Петр. Анд. Куракин, бояр. Ив. Андр. Бутурлин; Гр. Собакин, дядя царицы Марфы, ее брат Вас. Собакин; кн. Ив. Девтелевич; игумен псковский Корнилий, его ученик Вассиан Муромец; Новгород, архиеп. Леонид; архим. Феодорит, игумен соловецкой обители, друг Св. Александра Свирского, и убит собственной рукою царя, наследника престола, Иоанн. Здесь представлена тысячная доля таковых мужей, которые погибли совершенно без вины, служа отечеству со славою. Угрызаемый беспрестанно совестью и пугаемый тенью убиенных, он для успокоения нечистой души служил по церквам и монастырям синодики, или поминовения. В синодиках поминается об истреблении княжеских, боярских и дворянских родов; о других ни слова.
В сочинении «Памятн<ики> москов<ской> древности» г. Снегирева, тетрадь I, с. XXXV, сказано между прочим об Александровской слободе: «от слободы его (Иоанна IV), обнесенной каменной оградою, не осталось и следов: в 1582 г. в праздник Рождества Христова она сгорела от молнии». Откуда взято им это невероятное явление в мире? – Многие, читающие без разбора и верующие всему печатному безусловно, добродушно примут за истину и некоторые верят доселе, что слобода сгорела от молнии в день Рождества Христова, среди трескучей зимы!! Тем более этому верят, что в этом событии видят гнев Божий. Некоторые из моих знакомых до того были убеждены, что они согласились лучше верить, нежели подумать, что это дело невозможное. Если бы это действительно случилось, то, как событие необыкновенное, не могло бы сокрыться от наблюдателей природы и непременно сделалось бы предметом исследований; и ученые в Европе не оставили бы без внимания необыкновенное действие как переворот сверхъестественный в природе, несмотря что протекло 265 лет. – Но никто из них не думал об этом, считая или вымыслом какого-нибудь легкомысленного, или сказкою, выдуманною для детей. Прошли те времена, когда всему верили; когда многие думали, что есть люди на четырех ногах, с бычачьим хвостом и рогами, с четырьмя глазами: двумя на лбу, а двумя назади; когда были уверены, что на ките держится свет, что живут под землею демоны; что они во время пирушек в преисподней бросают молнию на города и сожигают!! – Пусть бы это так, но все следовало бы сказать господину сочинителю, которого почитаю от души за многие полезные его труды: на чем он основал несбыточное событие? – В примечании его указано, между прочим, на «Русск. Лет. по Никон, сп.», т. VII. – Я искал и ничего не нашел там. Открывается, что г. сочинитель взял из Кар. «И. Г. Р.», т. IX, изд. 1821 г., с. 350. – Странно! Знаменитый историограф, исчисляя несчастные происшествия того времени для России, страшные видения Иоанна IV и поверья народа, упомянул о носившейся молве, что в день Р. X. громовая стрела зажгла при ясном солнце спальню Иоашюву в Александровской слободе, и заключает: сказка, достойная суеверного века. Следовательно, Карамзин не верил; он только указал на легковерье Одерборна, который, поверив молве, первый записал в число действительных чудес, а ему никто не верил. Вот самое место из Одерборна, – см. Ioannis Basilidis Magn. «Moscoviae ducis vita», изд. 1585 г., гл. III, л. 4. – Fulmen deinde subitam secum coeli serenitatem adducens, ipso Christi natalitis slobodam speciosam magnorum Ducum habitationem, cum terribili ingentium structuram et trabium ruina disiecit, rerumque pretiosarum splcndidissima supellex, qua ista in munitione asservabutur, de coelo tacta et consumpta est. In elegantiori vera camera cubiculum Basilidis ipsius ubi lectus erat falmen intravit, adeo caute perrerans, ut ipsum simul urnam feriendo dissiicerit, qua captivorum nomima ad libidinem forte principis educabuntur, etc. etc. <См. «Житие Иоанна Васильевича, великого князя Московского», изд. 1585 г., гл. III, л. 4. – «Внезапно посреди ясного неба засверкала молния, в день Христова Рождества в слободе, великолепном жилище великих князей, она, ужасно неистовствуя, нарушила балки и стропила, и драгоценнейшие сокровища, хранившиеся в надежном месте, были поглощены небом. В еще более прекрасную спальню самого Иоанна Васильевича, где он лежал, молния влетела, все перевернув и разбив также урну, в которой иной раз, по желанию князя, пожигались имена узников»>. – В недавнее время случилось среди зимы воздушное явление с громовым ударом и блеском молнии. В Риге и ее окрестностях замечено было 5 генваря 1844 г. в 10 часов вечера воздушное явление с громовым ударом и молниею; но этот удар и блеск произошли от пролетевшего по небосклону и лопнувшего в воздухе огненного шара. – Журн. мин. внутр. дел за 1844 г., февр. мес, в «Смеси», с. 355. – Все же не гром и молния из дождевых туч. И этот гром был следствием лопнувшего огненного шара, а молния только отблеском его.
[Закрыть]. Все говорили о долге и чести, и под осадою гор. Вендена (в 1578 году октября 21, в Лифляндии) это подтвердилось на самом деле: воеводы кн. Вас. Андр. Сицкий, окольничий Василий Федосеевич Воронцов, Дан. Бор. Салтыков, кн. Мих. Вас. Тюфякин не хотели сдаться и нашли смерть под ее стенами; а московские пушкари, тем же одушевленные, повесились на своих орудиях. Эти люди не искали славы, но думали о чести; имена их неизвестны, но их подвиг служит трогательным примером доблести воинской.
Действуя с полною уверенностью в том, что силы возрастали, русские приобрели царства Казанское и Астраханское, и горсть донских и волжских казаков в числе 840 человек под предводительством Ермака Тимофеевича завоевала Сибирь: от березовских пределов до Тобола (1582 г.). «Бог послал нам новое царство», – говорил народ с живейшею радостью и пел молебны благодарственные. Преемники Ермака довершали завоевание дикого и сурового края от каменного пояса до Северной Америки и Восточного Океана. – Труды вознаградились богатыми рудниками, дорогими мехами и выгодной торговлею. – В то время как толпы Кортеца и Пизарра распространяли завоевания в Америке (около 1519 г.), русские вели торговлю по хребтам уральским, укрепляли там свою оседлость мечом, селились спокойно между Камою и Северной Двиною, привлекаемые сюда изобилием, дешевизною, выгодами мены с полудикими народами, доставлявшими во множестве дорогую мягкую рухлядь. Самое жестокое правление царя, казалось, было заглушаемо радостными событиями нашего отечества, приобретавшего новые и обширные страны и входившего в тесные связи с иностранными державами, преимущественно с Англиею.
БЕДСТВИЕ ВОЗВЕЛИЧИЛО РУССКИХ
Россия возвеличенная должна была испытать новые удары несчастий в течение 15 л. (1598–1615), со времен Бориса Годунова до восшествия на престол Богом ниспосланных Романовых. Хотя распространение пределов Сибири до Северного океана упрочивало наше могущество, доставляло богатство, славило народный дух и отважные предприятия новых витязей, хотя нагайские и крымские татары страшились русского меча, хотя древняя Иверия (Грузия) увеличивала славу нашу с принятием ее под покровительство наше (1604 г.) и царь грузинский Александр считал нас своими защитниками, однако мы сами нуждались в защите от неожиданных появлений – лжецарей. – Возобновилось время бедствий! Цари Годуновы и Шуйские гибли; самозванцы возмущали народ, который сам не знал, кому верить; партии крамольников и губителей пользовались смутами и объявляли царями то из иноземных властителей Польши и Швеции, то попеременно являвшихся Лжедмитриев. Блистательные успехи доблестных мужей: Прокопия и Захария Ляпуновых, победы кн. Скопина-Шуйского, подвиги Истомы Пашкова, Лыкова и кн. Андр. Голицына не могли остановить полчища мятежников; шайки польские и татарские грабили повсюду. Окрестности Москвы кипели бродягами, внутри ее рыскали ватаги буйных Жолкевских, Сапегов, Гонсевских, Хоткевичей и немца Струйса: рубили и все жгли, что им попадалось. – Сердце России было разорвано, воины рассеяны, города и селения в пепле, жители в ужасе, правительство в бессилии. Казалось, что народная самобытность исчезла, и к довершению ее разорений – поляки осадили Троицкую Лавру, но это самое спасло Россию! В общем унынии духа еще не все упало. – Гетман Сапега, злодей Лисовский, князья Тишкевичи, Вишневецкие и другие начали осаду (1608 г. сент. 23) с 50 000 армией; между тем, как в обители смиренной находилась горсть иноков, высоких единственно душою, коими управляли достойные бессмертия кн. Григ. Долгорукий и Алексей Голохвастов. Все целовали им крест, чтобы не выдавать отечества. День и ночь бились, больные и раненые лежали на дожде без присмотра; юноши и дряхлые заступали их места; много падало от зимнего холода, а еще более от голода; но никто не думал о сдаче. Шестнадцать месяцев обороняли иноки Лавру и со славою отстояли. Таковых примеров не много во всемирной истории. Сколько твердости, сколько чувств благородных в народной гордости! – Старцы и жены умирали с честью, никто не боялся смерти. Вся Россия была усеяна трупами ее сынов; внутренность ее была изрыта могилами – все гибло, кроме добродетели и чести. Но когда восстала вся Россия на своих врагов, тогда все поклялись испить смертную чашу. Два мужа, назначенные Провидением для спасения отечества, начали первые: старец патриарх Гермоген и Захарий Ляпунов. Гермоген, не соглашавшийся на возведение на русский престол польского короля, был заточен на Кириловском подворье. Томимый заключением, он стоял у гроба, но и на пороге вечности ревностно занимался судьбою своего отечества. – Пламенная любовь к отечеству подкрепляла дряхлые и горестные дни его жизни. Он молился за спасение России, клял мятежников, убеждал бояр не жертвовать Церковью; – он один среди коварства и обмана не был коварен. Изменники много раз приступали к Святителю, требуя его благословения на избрание нового царя. Сам Гонсевский увещевал его, угрожал ему гневом короля и даже смертью. Ветхий старец, указывая на небо, говорил: «Боюсь Одного, там живущего!» [32]32
Изменник и клеврет бояр<ин> Михаил Салтыков, требуя однажды у Гермогена, чтобы он запретил Прокопию Ляпунову ополчаться за Россию, в противном случае грозил зарезать его. Но видя его твердость и решительную волю, предатель обнажил нож и в бешенстве устремился на него. Патриарх осенил его крестным знамением и сказал: «Знамение Креста противу ножа твоего, и взыдет вечная клятва на главу твою». – «Собр. госуд. гр.», т. II, с. 491. – Латух. «Степен. кн.»: «» патриарха скверно лаяше и выняв нож свой, хотел его заклати, и т. д., см. еще «Ник. лет.» – А. С. Шишков, известный отечественными заслугами, говорит о патриархе Гермогене в прекрасном своем рассуждении «О любви к отечеству», будто бы ляхи его били и мучили, о чем никакая отечественная летопись не говорит нам. Правда, ляхи грозили ему смертью, томили заточением, и изменник Салтыков покушался заколоть его ножом. «Неистовые враги угрожают ему (патриарху) смертию, – говорит г. Шишков. – Тело мое вы можете убить, но душа моя не у вас в руках. Они в ярости рвут на нем златые ризы, совлекают священное облачение, налагают на него вериги и оковы: он сожалеет, что из десницы его отнят крест, которым благословлял он народ стоять за отечество. Они повергают его в глубокую, смрадную темницу. Он соболезнует только, что не может более предстоять во храме Божием для воздеяния пред лицом народа рук своих ко Всевышнему. Они изнуряют его гладом и томят жаждою, но ни тяжкие цепи, ни густой мрак, ни страшное мучение алча, ни жестокая тоска иссыхающей гортани не могут победить в нем твердости духа, не могут преклонить его к согласию на порабощение отечества». – «Собран. сочинен. и перев. г. Шишкова», ч. IV, с. 161–162, изд. С. П. Б., 1825 г. – С патриарха никогда не срывали риз, ни платья; не налагали на него ни веревок, ни оков, ни цепей и не держали в глубокой и смрадной темнице. – Это все увеличено. Вероятно, г. сочинитель смешал это событие, бывшее с митрополитом ростовским Филаретом. Когда ляхи взяли Ростов (в 1609 г.), народ и воины бежали; тогда Филарет сказал: не бегством, а кровью должно спасать отечество! – и заключился с немногими усердными воинами и гражданами в соборной церкви. Там все исповедовались, причастились и ждали смерти. Неприятели осадили храм, выломали двери и ринулись с мечами. Верные ростовцы окружили Святителя, защищали его до последнего издыхания; церковь наполнилась мертвыми, и злодеи схватили Филарета: сорвав с него святительские ризы, одели в рубища; потом надели на него простую свиту и повели его босого в татарской шапке в тушинский стан. Великий Филарет терпел унижение долгое время; но его верность к отечеству ничто не поколебало. – «Никон, лет.», с. 103–104; Авр. Палиц. «Осада Троицк. – Серг. Лавры», с. 44; Латух. «Степен. кн.».
[Закрыть]Изнурением голода думали убедить его, но он благословлял народ на защиту отечества, и предсмертный голос его был о спасении России.
Так кончил жизнь свою великий иерарх – лучезарное светило отечества. Смерть его воспламенила сердца всей России; все люди закипели мщением. Опорою бедствовавшей России еще оставался Ляпунов, но злодей Заруцкий оклеветал его пред своими казаками. Они взволновались, провозгласили его изменником, и среди высоких помыслов об освобождении отечества Ляпунов встретил неотвратимый удар – он пал на гроб отечества! Великие тени Гермогена и Ляпунова навсегда пребудут в событиях истории священными [33]33
Некоторые из наших писателей сомневаются в патриотических действиях Ляпунова – между тем как он умер за отечество.
[Закрыть]. Казалось, все погибло со смертью этих великих защитников. Отечество погрузилось в печаль безутешную: все страдало и плакало. Думали, нет надежды на избавление: нигде не видели спасителей. Но на голос о спасении явились Козьма Минич Сухорукий и кн. Дм. Мих. Пожарский, и тогда единодушно объявили своим царем юного Михаила. Враги, однако, подослали злодеев в Ипатьевский монастырь, в коем жил Михаил, чтобы умертвить его. Крестьянин Ив. Сусанин известил избранного на престол об угрожавшей ему смерти и сам умер за него, будучи замучен поляками [34]34
Потомки Сусанина, живущие в Плесском уезде, в деревне Коробове, в 35 вер. от Костромы, освобождены Екатериною II от всех повинностей и сделаны, вольными.
[Закрыть].
К концу 1612 г. большая часть России очистилась от наших губителей, и это самое время, лютейшее из всех государственных, ознаменовало русских более, нежели когда-либо. Тут вылился весь народный дух, кипевший священным чувством любви к отечеству. Народ познается только в бедствиях. Чувство благородного самоотвержения восторжествовало, и отечество вышло из пучины смут и крамол светлым, чистым, блестящим как солнце! Всегда, во все века были у нас разительные доказательства самопожертвования. Это не пристрастие, а истина, как Божий свет. Быть молчаливым о славе своего отечества, великих деяниях народа – это обнаруживает одно робкое и неуместное смирение, которое весьма вредно в политике.
НЕИЗМЕННОЕ СВОЙСТВО ВЕСЕЛОСТИ
Предки наши и в самой неволе увлекались забавами и пляскою. Горе их услаждалось тихим и боязливым веселием, которое отразилось в песнях, напоминающих доныне грусть и тоску. Пение нередко сопровождалось музыкою, которая невольно переходила в печальные звуки сетования. Оттого напев и музыка русского заунывные. Некоторые игры доселе носят отпечаток истомы, олицетворенной в голубе, коршуне, сером волке и пр. Предрассудки и суеверия владели умами; искусства и художества начали распространяться только со времен Иоанна III. Тогда стали уважать плоды гражданского образования, но любили святыню древних нравов и простоту жизни, отдавая справедливость разуму и просвещению; перенимали все, что было хорошее, отнюдь не чуждались иностранцев, приносивших к нам полезное с собою. Древние народные обычаи мало изменялись до конца XVII в. Хотя мы познакомились с винами иноземными, однако русские яства и хлебосольство, радушие и роскошные одежды еще напоминали и тогда старинную самобытность. Все любило свое собственное, им жило и веселилось, и это чувство переходило от потомства к потомству как завет самосохранения.
СОХРАНИВШАЯСЯ НАРОДНОСТЬ В ДРЕВНИХ СОЧИНЕНИЯХ
Науки облагораживают сердце, раскрывают душу и возносят ум; но без истинного просвещения они не согревают, а воспламеняют; не ведут к цели благосостояния, а кружат головы пылкими затеями и превратными начертаниями, потому знания, жизнь народов должны отсвечиваться в действиях общих, а не гениев. Русские издавна любили науки и постоянно стремились упрочить их своими понятиями и своим образом жизни. В первых веках нашей гражданственности познания тесно сливались с народностью, могуществом, роскошью, изобилием, удальством и силою. Древние песни и сказки славили могучих богатырей, сподвижников Владимира I; великолепие его пиров и ласковое его обхождение [35]35
Богатыри и сподвижники: Добрыня Никитич, Александр с золотою гривною, Илья Муромец, Алеша Попович, Чурила Пленкович, Соловей Будимирович, богатырь Рогдай, Ян Усмошвец, Дюк Степанович, Иван гостиной сын, Аким Иванович, Отар Годинович, Касьян Михайлович, Поток Михайло Иванович, Василий Игнатьев-Пьяница и Тугарин Змеевич запечатлелись в памяти народа как доблестные витязи Владимира.
[Закрыть].
В стольном городе Киеве,
Что у ласкова, сударь, князя Владимира
А и было пированье, почетный пир,
Было столованье, почетный стол,
Много на пиру было князей и бояр,
И русских могучих богатырей.
А и будет день в половину дня,
Княженецкий стол в полу столе…
Владимир князь распотешился,
По светлой гридне похаживает,
Черные кудри расчесывает.
Когда пировали, <тогда> богатырь сам наливал чару зелена вина, не велика мера, в полтора ведра, а турий рог меду сладкого в полтретья ведра [36]36
«Древн. русск. стихотв., собр. Кирш. Даниловым», изд. 1818 г… с. X, XI, 5 и 206.
[Закрыть].
Законы черпаются из обычаев и жизни народов. Правда, русские и церковные уставы носят отпечатки тогдашнего духа и потребности. В нач. X в. мы имели уже училище народное, заведенное в Новгороде для 300 детей [37]37
«Никон. летоп.»: «И собрав от старост и пресвитеров детей 300, и повеле учити книгам».
[Закрыть]. Междоусобия князей и нашествие татар заглушили первые начатки образования. Словесность и науки нашли убежище в монастырских стенах: там иноки занимались списыванием священных книг, сочинением летописей и поучений. Наставления в. к. Ярослава (1054 г.) к детям его; церковное правило митроп. Иоанна (около 1093 г.), наставника добродетельного и друга несчастных; поучения епископа Луки Жидяты (1059 г.), поучения Владимира Мономаха (1125 г.), сочинения митроп. Никифора (около 1120 г.) – все это ознаменовано сердечным умилением, мольбою к Вседержителю за отечество и народ, который любил добрых князей и пастырей, как дети своих отцов. «Слово о полку Игореве», древнейший памятник русской поэмы (сочин. в конце XII в.), возглашает славу наших витязей, хвалит доблестный дух народа, который и в несчастии был велик преданностью беспредельной к своему отечеству. Имя сочинителя неизвестно, но его произведение запечатлено силою выражения языка живописного. – Начиная поэтический рассказ о былинах своего времени, он с восторгом восклицает о песнопевце Бояне, соловье старого времени, которого вещие персты, касаясь живых струн, рокотали славу нашим витязям. – До нас не дошли песни Бояна, но они свидетельствуют, что мы имели еще до XII в. знаменитых стихотворцев, коих творения с древнейшими русскими сказками о делах и богатырях погибли в бедственную эпоху междоусобий и угнетения России. Выпишем замечательнейшие места. Новгород-Северский удельный князь Игорь, исполненный ратного духа, ведет свои храбрые полки в половецкую землю; но, увидев красное солнце, покрытое тьмою, которая распростерлась на его воинов, он воодушевляет их: «Братия и дружина! Лучше нам умереть на поле битвы, нежели достаться в плен. Сядем, братия, на свои быстрые кони и полетим к синему Дону. Я хочу с вами изломить свое копье на половецких степях; там положить свою голову или шеломом испить Дону! Не буря несет соколей чрез широкие поля; но стадо галок к великому Дону. – Лошади ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубят трубы в Новгороде, развеваются знамена в Путивле, – Игорь ждет к себе на помощь милого своего брата Всеволода». – Он не замедлил прибыть и говорит своему брату: «Мои воины метки в стрелянии, под звуками труб повиты, под шеломами взлелеяны, острием копья вскормлены, пути им ведомы, овраги знаемы, луки у них натянуты, колчаны раскрыты, сабли заострены. Мои воины носятся в поле серыми волками, ищут себе чести, а князю славы». – Игорь разъезжает по чистому полю, но потемневшее солнце преграждает ему путь; ночь стонет грозно и разбуживает птиц, звери рыщут в пустынях. Игорь ведет своих воинов к Дону. Уже птицы хищные предвещают ему беду, волки бегают по оврагам, орлы своим клек<о>том созывают зверей на кости, лисицы воют на червленые щиты. Русские уже за Шеломянем. Ночь долго меркнет, и заря утренняя не всходит. – Битва началась: неприятели побеждены; в добычу достались нам дорогие ткани, золото и красные девицы. Но с юга налетели черные тучи – новые полки врагов. Русские стали противу них своими щитами. «Всеволод сыплет на неприятелей стрелами, звенит по шлемам булатными мечами. Где сверкнет златый его шишак, там лежат головы половецкие; раздробляются шлемы неприятельские от саблей каленых. Два дни кипит битва страшная. Летят стрелы каленые, гремят сабли о шеломы, трещат копья булатные; земля усеяна костьми и облита кровью; но печаль облегла русскую землю: на третий день к полудню пали знамена Игоря! Недоставало кровавого вина, но храбрые русские кончили свой пир: напоили гостей и сами легли за отечество! Невеселая настала година! – Жены русские восплакали: не видать нам своих милых, ни мыслию помыслить, ни думою сдумати. Застонал Киев скорбью, а Чернигов бедами; тоска разлилась по всей России: Игоря ведут в плен, девицы половецкие поют радостные песни на берегах синего моря и звенят русским золотом. В. к. Святослав роняет золотое слово, омоченное слезами, и говорит: «О, племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано вы подняли мечи на половецкую землю, а себе искать славы. Несчастно бились, но несчастнее пролили кровь поганую. Сердца ваши скованы булатом и закалены мужеством, но что нанесли моей серебряной седине! Много у нас воинов, но и те без щитов. Величаясь прадединой славою, вы говорили: мужайтесь! Славу прадедов исторгнем и ею увенчаемся! Если сокол летает на добычу, то он нападает свысока». Песнопевец приглашает князей соединиться, чтобы наказать половцев: «В. к. Всеволод! Ты можешь Волгу раскроить веслами, а Дон вычерпать шлемами. О, Рюрик и Давид! Не ваши ли позлащенные шлемы плавают в крови? Не ваша ли храбрая дружина рыскает, как дикие волки, уязвленные калеными саблями? Галицкий Ярослав Осмомысл! Сидя высоко на своем златокованом престоле, ты подпираешь венгерские горы своими железными полками, преграждаешь путь королю, затворяешь ворота Дуная, открываешь путь к Киеву, стреляешь за земли султанские – стреляй в Кончака, нечестивого кощея, за землю русскую, за раны Игоре вы! А вы, Роман и Мстислав, летая высоко отвагой, как сокол на крыльях ветров, под вашими булатными мечами склоняют головы: литва, ятвяги, древляне и половцы. – Ингварь и Всеволод и все три Мстиславичи, знаменитого гнезда шес-токрыльцы! Заградите поле врагу своими острыми стрелами за землю русскую, за раны Игоревы! Уже Сула не течет серебряными струями, а Двина течет болотом, под грозным кликом поганых. Изяслав, сын Васильков, сразился острыми мечами со щитами литовскими и нашел славу: он пал на кровавой траве, изрубленный литовскими мечами. Дружину твою, князь, приодели птицы крыльями, а кровь ее полизали звери. Ты выронил жемчужную душу из храброго тела. Приуныли голоса, замолчало веселие! – Ярослав и все внуки Всеслава! Склоните свои знамена, вложите свои мечи. Вы своими крамолами навели поганых на землю русскую. На берегах Немана они стелют снопы головами, молотят булатными цепями и веют душу от тела. – На кровавых берегах Немана не болог посеян, а посеяны кости русские! – О, стени русская земля, вспоминая про времена первых князей своих!» Супруга Ярослава плачет, говоря: «Полечу незнаемой кукушкой по Дунаю, омочу шелковой (бебрянь) рукав в реке Каяле и утру кровавые раны на изрубленном теле моего друга». Супруга пленного Игоря проливает слезы в Путивле, смотря с городской стены в чистое поле: «О, ветер, ветер! Для чего ты веешь! К чему мечешь ханские стрелы на воинов моего друга? Разве тебе мало веять на горах под облаками, носить корабли на синем море? К чему мое веселие развеваешь? О, славный Днепр! Ты пробил каменные горы в земле половецкой, носил на себе Святославовы ладии к стану Кобякова; принеси ж ко мне моего милого, чтобы я не посылала к нему в море утренних слез моих. О, светлое и пресветлое солнце! Ты для всех теплое и красное: для чего ж падаешь горячими лучами на воинов моего милого, палишь их в безводной пустыне и угнетаешь печалью?» Игорь освободился из плена: обманув бдительность стражи, он садится на борзого коня и летит соколом; утомив коня, он садится в лодку и плывет в отечество р. Донцом. Река приветствует князя: «Князь Игорь! Не мало тебе величия, Кончаку досады, а русской земле радости». Князь отвечает: «О, Донец! Не мало тебе величия, когда несешь на своих волнах князя, стелешь ему зеленую траву на своих серебряных берегах; одеваешь его теплыми мглами под сенью зеленого дерева; охраняешь его гоголями на воде, чайками на струях, чернетьми на ветрах». За Игорем гнались Гзак с Кончаком: «Тогда вороны не крякали, галки замолкли, сороки не трескотали, лазя по деревьям. Дятлы указывали ему путь к реке, а соловьи повещали возвращение князя веселыми песнями». «Хотя тяжко голове без плеч, – говорит песнопевец словами Бояна, – но худо телу без головы, а русской земле без Игоря. – Солнце сияет на небе, Игорь в русской земле! Девицы поют на берегах Дуная; радостные голоса вьются чрез море в Киев: Игорь едет по Боричеву во храм Св. Богородицы Пирогощей». Стихотворец заключает: «Да здравствуют князья и дружина, поборовшие за християн поганые полки. Слава князьям и дружинам!» [38]38
Слог песни о полку Игоря показывает, что она сочинена южным жителем России. Некоторые слова и выражения, встречаемые в этой песне, сохранились доселе в малороссийских думах конца XVI в., и это доказывает, что Малороссия давно имела своих вдохновенных поэтов, еще до создания языка.
Из многих разбиравших песнь о полку Игоря с исторической стороны есть более удовлетворительный – П. Г. Буткова, напечат. в «Вестн. Европ.», 1821 г., № 21 и 22, в «Сын. Отеч.» и «Север. арх.», 1834 г., № 52. – Г. Бутков подвергся несправедливым замечаниям сочинителя «Сказаний русск. народ.» г. Сахарова. Уважая вполне полезные труды г. Сахарова, нельзя пропустить без замечания ошибочных его нареканий. Он, между прочим, говорит, – см. его «Сказания русск. нар.», в статье: «Русская народ, литература», с. 58–60, изд. 1841 г. и «Песни русск. народа», ч. 5, с. 222–228. – «Критические исследования г. Буткова заслуживают особенного внимания. Идя своим путем, он сам разыскивал, не верил чужим толкованиям. Эту самобытность г. Буткова встречаем мы во всех его исследованиях». После этого прибавляет, что он несправедливо толкует древние слова, которые не объяснил и сам г. Сахаров. Он говорит далее: «Мнение г. Буткова о местоположении Тмуторакана, замечательно своею новостию изысканий от всех других: он полагает, что его искать должно не в Тамани, но на пути из Киева к Полоцку, на правой стороне Остра, при соединении этой реки с Десною, где теперь село Старогородка, в одной версте ниже города Остра, в 60 верстах от Киева». Г. Сахаров не так это понял. Г. Бутков, говоря о побеге Всеслава из Белгорода чрез Киев и Тмуторакань, указывал, что тут разумеется Тмуторакань не Таманская, а тот город Тмуторакань – Остроческий, который упоминается в географическом отрезке XIV в. в числе киевских городов. Сахаров говорит еще: «что же касается до непонятных слов, встречающихся в описании слова о походе Игоря, то Г. Бутков почти не обратил на них внимания». Г. Бутков не брался объяснять непонятные слова; он писал нечто к слову, а не о всем слове, и г. Сахаров упустил из виду, что г. Бутков объяснил отчетливо события Игорева похода. Я не вхожу в дальнейший разбор исследования по этому предмету г. Буткова, которого труды весьма важны для нашей критической истории.
Очень многие покушались объяснить «Слово о полку Игоря», и каждый из них писал по своему мнению. Вот одно только исчисление писателей по предмету, доселе не истолкованному. 1. Граф А. И. Мусин-Пушкин. Он первый открыл в 1795 г. и напечат. в 1800 г. – 2. А. С. Шишков напеч. в 1805 г., потом перепечатал в 1826 г., и помещено в поли. собр. его сочинений и переводов. 3. Я. Пожарский в 1819 г. 4. Н. Грамматин объяснял в прозе и стихах, 1823 г. 5. Н. А. Полевой в 1830 г. в 3 т. «Ист. русск. нар.». – 6. А. Ф. Вельтман, в 1833 г. 7. М. Максимович, 1837 г. Переводили в стихах: 8. Серяков, 1803 г. 9. Палицын, 1808 г. 10. Язвицкий, 1812 г. 11. Левитский, 1813 г. Иностранные переводчики на немецкий яз.: 12. Славянин Юнгман, 1810 г. 13. Миллер и 14. Зедерман. Последний объяснения гт. Карамзина и Шишкова назвал перлами. 15. Куприян Годебский на польский яз. 16. Вацлав Ганка, славянин, на чешский яз. 17. Аджит поместил перевод «Игорева слова» в сербском альманахе «Голубице». 18. Авг. Белевский объяснял «Слово о полку Игореве» на польск. яз. 19. Дм. Дубенской представил новые объяснения на «Слово о полку Игореве» – оно напеч. в «Русск. достопамятн.», ч. III, 1844 г.
[Закрыть]