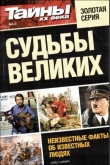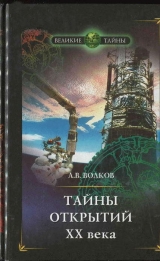
Текст книги "Тайны открытий XX века"
Автор книги: Александр Волков
Жанр:
Научпоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Пять климатических эпох
«Други, – сказал он, скликнув к себе всех мужиков, – делать нечего… Авось не все замерзнем!»
По знаку, поданному бородатым, заиндевевшим вождем, его спутники, неловкими увертками роняя на себя снежные хлопья с ветвей, спрятались в кустах, поднимавшихся по склону. Снежный прах слепил им глаза, но они не отводили взгляда, терпели, молча всматриваясь в темнеющий низ долины, где, поднимая морду и так же озираясь, перетаптывался на месте молодой бизон. Шипение ветра окружало его непроницаемой пеленой. Он вслушивался в лесные шумы и ничего не слышал. Он принюхивался, но лишь ветер, пропитанный снежной мглой, терся о его ноздри, сводя с ума, отупляя, застя, лишая обычной осторожности. Он двинулся вверх по склону навстречу охотникам-неандертальцам. «Которые, как там, еще не совсем замерзли?» – поинтересуемся мы у современных исследователей.
В опубликованном в 2004 году отчете под названием «Неандертальцы и анатомически современные люди в европейском ландшафте во время последнего оледенения» говорится без обиняков, что в могилу всех неандертальцев свел невероятно холодный климат, установившийся в Европе около 30 тысяч лет назад.
И не только их. Жертвами холода стали большинство представителей ориньякской культуры – популяции анатомически современных людей, расселившихся в Центральной Европе почти 45 тысяч лет назад. Лишь люди граветтской культуры (тоже анатомически современные люди) приспособились к субарктическим холодам.
Неандертальцы не были «однодневками». Еще 250 тысяч лет назад они расселились по всей Европе вплоть до казахских степей. Около 75 тысяч лет назад начинается последнее крупное оледенение – вюрмское. Неандертальцы пережили и эту беду.
Чтобы потом внезапно исчезнуть. Вскоре после того, как к ним поближе переселились наши предки – анатомически современные люди. Это-то и озадачивало. Случайное совпадение? И вот уже давно зазвучали обвинения в адрес «хомо сапиенс».
Часто обвиняли и климат. В 1990 году нидерландский океанограф и геолог Тьерд ван Андел, работающий сейчас в Кембриджском университете, вместе с группой ученых из разных стран – антропологов, археологов, геологов, климатологов – приступил к проекту, который должен был решить судьбу неандертальца – объяснить загадку его гибели.
На первом этапе шел сбор самых разных сведений об интересовавшей эпохе. Годилось все: анализ речного гравия; сообщения об ископаемых останках людей и животных; статистика кернов, добытых в Гренландии; химический состав озерных отложений.
Затем к работе подключились программисты. На картах, созданных ими, можно увидеть, как на протяжении тысячелетий в Европе менялся климат и ландшафт, по-иному очерчивались области расселения неандертальцев и анатомически современных людей. Вот краткие выводы:
65 тысяч лет назад: в результате вюрмского оледенения большая часть Европы (к северу от Альп) обезлюдела. Лишь на юге Европы, в районах с мягким, умеренным климатом – в Центральной Италии, Южной Франции и на Пиренейском полуострове – сохранились популяции неандертальцев.
59—44 тысячи лет назад: длительное потепление благоприятствует миграции неандертальцев в центральные и восточные районы Европы вплоть до степных районов Украины, Крыма и Кубани. Обычно они стараются селиться вдоль крупных рек. 43 – 34 тысячи лет назад: климат становится все холоднее. Страдая из-за непривычно суровых холодов, неандертальцы вновь переселяются в более теплые районы Европы: в Арденны, на юг и юго-запад Франции, Пиренейский полуостров, Крым. В этот же период в восточной части Европы появляются племена, принадлежащие к ориньякской культуре (носители этой культуры были анатомически современными людьми).
Со временем эти племена, занимавшиеся в основном охотой, расселяются в тех же районах, что и неандертальцы. В пещерах людей ориньякской культуры находят первые произведения искусства – статуэтки, вырезанные из кости мамонта, и наскальные рисунки, а также первые музыкальные инструменты – флейты.
33—29 тысяч лет назад: дальнейшее ухудшение климата. Ледники покрыли более половины Европы. Граница их продвижения достигла центральной части современных Франции, Германии, Польши. Пастбища сокращались, численность оленей и бизонов падала. Выжить в этих условиях было трудно. Центральная Европа вновь обезлюдела. Уцелевшие племена неандертальцев еще можно встретить в компактных зонах проживания на юге Франции, на северо-восточном побережье Черного моря и Пиренейском полуострове, где климат пока еще сравнительно мягкий. Потом их следы теряются.
Племена, принадлежащие к ориньякской культуре, переселяются в юго-западные районы Франции и на Русскую равнину – и также практически исчезают. По расчетам британского генетика Мартина Ричардса, прямые потомки этих людей живут сейчас на севере Испании, в Басконии, и на Скандинавском полуострове. Их оттеснили туда новые «колонизаторы» Европы. Ведь в это же время в Европе появляются носители другой культуры – граветтской. Возможно, их предки были выходцами из поселений ориньякской культуры, находившихся на территории современной Чехии; возможно, они пришли с Ближнего Востока. Они умели изготавливать изящные каменные топоры, дротики и рыболовные сети – орудия, неизмеримо расширившие возможности охоты. Их женщины овладели искусством сшивать шкуры, изготавливая из них одежды. Все это давало им огромные преимущества и прежде всего – возможность переносить сильные холода.
Вскоре ледники разделили Европу на две части – западную и восточную. На Пиренейском полуострове по-прежнему развивалась «ориньякская» культура. На Балканах укрылось новое население Европы. Его потомками, согласно данным Мартина Ричардса, является большая часть современных европейцев – около 80 процентов.
28—22 тысяч лет назад: численность граветтской популяции значительно возросла. Если неандертальцы и ранние ориньякцы были приспособлены, главным образом, к жизни в областях с умеренным климатом, то люди граветтской культуры готовы были селиться в тундре, обустраивая зимние и летние стоянки. Вслед за северными оленями и мамонтами они откочевывали далеко на северо-восток – предметы их материальной культуры можно обнаружить на землях Центральной Европы и России. Именно эти люди оказались наиболее приспособлены к суровому ледниковому климату; в этом неандертальцы им уступали. Лишь после 20 000 года до нашей эры, последнего пика похолодания, популяция людей граветтской культуры тоже редеет.
Два типа организма
В книгах и журналах все еще можно встретить рассуждения о том, что неандертальцы были удивительно хорошо приспособлены к жизни в условиях ледниковой Европы, что они – результат «длительной селекции», которая привела к появлению особого морозоустойчивого вида людей.
Много писалось об «арктическом» или «гиперарктическом» строении тела неандертальцев: об их цилиндрическом торсе; коротких руках и ногах; избыточном (по сравнению с современным человеком) весе тела – в среднем мужчины весили около 90 килограммов. Анатомия помогала неандертальцам. У них были широкие ноздри, в которых подогревался вдыхаемый воздух. Средний рост мужчин составлял 1,67 метра, а женщин – 1,55 метра, то есть в среднем они были на десять сантиметров ниже Homo sapiens, а значит, их организм выделял меньше тепла, чем организм современного человека.
В рамках проекта «Stage-З» британские ученые Лесли Айелло и Питер Уилер попытались разобраться, что в этой картине правда, а что нет. Вот их выводы: организм современного человека начинает охлаждаться при температуре 10,5°, а организм неандертальца – при 8°. Разница невелика. То же касается температуры, начиная с которой организм для нормальной терморегуляции должен получать калории вместе с пищей. Для неандертальца – это 27,3°, а для современного человека – 28,2°.
Вывод ученых таков: анатомические различия между современным человеком и неандертальцем слишком малы, чтобы можно было говорить о том, что последний имел какое-то преимущество и мог легче выжить в ледниковой Европе.
И анатомия, и сам образ жизни неандертальцев имели ряд черт, сближавших их с Homo sapiens: их черепа были достаточно большими, и мозг был хорошо развит; они также жили племенами и пользовались качественными орудиями труда; у них наблюдались, судя по оставленным ими погребениям, даже зачатки символического мышления. Они были воистину «нашими братьями». И исчезли…
Сто тысяч лет вымирания
Итак, последний пик оледенения стал губителен для неандертальцев. Погибли даже их популяции, проживавшие в Южной Испании, Хорватии и Крыму. Почему? На этот вопрос дал вполне обоснованный ответ еще один участник проекта «Stage-3», Кристофер Стрингер.
Для этого он ввел такой показатель, как «климатический стресс», предположив, что для людей, а также растений и животных той эпохи был страшен не столько абсолютный минимум среднегодовой температуры, сколько крайняя нестабильность климата – ее характеризует скорость чередования фаз потепления и похолодания (кстати, для начавшегося глобального потепления так же будут характерны резкие перемены климата, когда за необычайно холодным сезоном может последовать аномально теплый).
Стрингер и его коллеги совместили график температурных колебаний за последние сто тысяч лет, полученный на основе кернов, добытых в гренландских льдах, с графиком, который характеризовал скорость изменения среднегодовой температуры. Получилась кривая, напоминающая горный ландшафт с двумя характерными пиками.
Первый пик «климатического стресса» наблюдался 65 тысяч лет назад, а второй – значительно более высокий – 30 тысяч лет назад. Климатологи выделяют также период, начавшийся 38 тысяч лет назад и завершившийся 28 тысяч лет назад. За это время наблюдалось более двух десятков резких изменений климата, когда в течение нескольких десятилетий, то есть на глазах одного поколения, средняя температура возрастала, например, на 7°, а затем так же быстро (и без всякого Киотского протокола!) понижалась, чтобы некоторое время спустя вновь повыситься. Одним словом, наблюдались «сильнейшие климатические качели».
В подобных условиях все живое должно было как можно быстрее приспосабливаться к стремительным изменениям климата. В отмеченный период экосфера Европы к северу от Альп решительно меняется. Анализ образцов почвы, относящихся к той эпохе, засвидетельствовал значительное снижение биомассы. Леса отступили далеко на юг, а зона тундры придвинулась к Альпам. Но едва все живое приспособилось к этой перемене, как «маятник климата» качнулся в обратную сторону. Началось потепление. И эти перемены продолжались снова и снова. Их жертвами 30 тысяч лет назад, как установили участники проекта «Stag-3», стали крупные млекопитающие, населявшие лесные области Европы, – лесной слон (Elephas antiquus) и лесной носорог (Stephanorhinus kirchbergensis). Судьбу четвероногих разделил и неандертальский человек.

Тундра на севере Гренландии: 30 тысяч лет назад так выглядела Центральная Европа в летние месяцы
За последние 250 тысяч лет, всякий раз в период оледенения, численность неандертальцев стремительно сокращалась. Выживали лишь отдельные племена. Но в период потепления они вновь расселялись по всей Европе. Почему же 30 тысяч лет назад произошла непоправимая катастрофа?
«Может быть, – полагает ван Андел, – стоило бы оборотиться и посмотреть на анатомически современных людей. Посмотреть им в глаза и спросить: “ Где брат твой? Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет!”»
Отмахиваясь от стекавшего со всех сторон снега, охотники уже готовились поразить копьями шедшего им навстречу быка, как вдруг случилось что-то непоправимое. «Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепетал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось». В охватившей всех снежной круговерти постепенно скрылись, исчезли из виду заросли кустарника, белесые, с проплешинами, горы, медленно тронувшийся в путь бык и
несколько охотников, уже занесших онемелые руки, уже подавшихся вперед, чтобы отрывистыми движениями прикончить добычу. Но своей неслабеющей хваткой до них дотронулся мороз, и их жалкие, закоченевшие фигурки не дрогнули, не пошевелились.
Ветер трудился всю ночь, разукрашивая холмики, затерянные в лесу, стирая, стирая неандертальское семя.
Вместо послесловия
Homo sapiens тоже страдал от начавшегося похолодания, но лучше приспособился к нему. Лишь в последние тысячелетия началась «отрицательная эволюция» человека. Мы перестали бороться за выживание. Что нас ждет?
На протяжении тысячелетий каждая человеческая смерть, как ни ужасен был ее факт, являлась необходимым звеном естественного отбора. Более умные спасались. Глупенькие, доверчивые, неосторожные гибли один за другим. Человечество очищало породу. Хороший «ай-кью» (IQ) завоевывался кровью. В жертву будущим Шекспирам, наполеонам и Эйнштейнам приносились миллионы неудачных, несовершенных экземпляров.
Постепенно люди научились справляться с любыми ударами судьбы. Изготовление орудий труда стало их важнейшим занятием. Искусство это передавалось из поколения в поколение. Возникали селения, где непременно трудились ремесленники. Торговая сеть связывала отдельные поселения людей между собой. В этих комфортных условиях изменились размеры человека. В период с 8 000 по 3 000 год до нашей эры они уменьшились на семь процентов. Люди стали изящнее и миниатюрнее. Появилась та стать, которую мы называем породой. В это же время наши предки перестали заниматься простым собирательством пищи и охотой и перешли к оседлому, сельскому хозяйству. Совершилась неолитическая революция. Одомашненные животные носили тяжести и снабжали организмы людей белком. Грубая физическая сила начала оттесняться в прошлое.
Ископаемые находки явно свидетельствуют об этом. «Взгляните на кости людей, живших 25 тысяч лет назад, – пишет Герхард Бозински. – Легко представить себе, какой мускулатурой должны были обладать эти люди, какое телосложение они имели. А ведь это были вовсе не неандертальцы, коих мы привыкли называть грубыми мужланами, это были обычные предки современного человека, всю свою короткую жизнь занимавшиеся охотой. Что мы могли бы им противопоставить? В лучшем случае, нескольких феноменальных спортсменов – каких-нибудь рекордсменов мира, изо дня в день тренирующих свои мышцы!»
Итак, пахари и пастухи были заметно слабее охотников. Пища, которой они питались, постепенно подтачивала их зубы. Одно дело: сидя у костра, наперегонки с другими рвать зубами тушу только что добытой козы и торопливо жевать оторванный шмат, надеясь быстрее ухватить новый кусок. И другое дело: расположившись у домашнего очага, неспешно потягивать кашку, заедая ее хлебом и запивая молоком. Лоринг Брейс из Мичиганского университета, проанализировав ископаемые останки, доказал, что за последние семь тысяч лет наши зубы уменьшались в размере в среднем на один процент за тысячелетие. «Чем тщательнее человек приготавливал пищу, тем меньше ему приходилось жевать. Все чаше выживали люди с очень мелкими зубами, и все больше себе подобных они плодили», – поясняет антрополог.
Естественный отбор долгое время правил человеком едва ли не сильнее, чем любым другим видом животных. Ведь популяции наших меньших братьев живут обычно в более или менее сходных условиях. Человек же за многие тысячи лет расселился повсюду. В эпоху «завоевания земли» его тело поразительно приспосабливалось к любому климату. Оно менялось как глина или пластилин, неизменно принимая лучшую форму, помогающую выжить. В арктических регионах человек стал плотным, коренастым, «бочкообразным». Такая конституция сводит к минимуму потери тепла. Чем ближе к экватору поселялся человек, тем сильнее вытягивались его руки, ноги и туловище.
Порой природа действовала с необычайной изощренностью. Так, перуанские индейцы кечуа и непальские шерпы могут без всяких проблем жить на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Нехватку кислорода их организм компенсирует с помощью одного физиологического трюка. Их организм вырабатывает гемоглобина на 20 процентов больше, чем обычно. Ведущие спортсмены мира могут только мечтать о таких показателях.
Однако в наше время человек перестал жить по велению природы. Благодаря современной медицине мы продлеваем жизнь любому индивиду, какими бы недугами он ни страдал.
В наше время выживают все – люди с пониженным зрением и ослабленным слухом (сорок тысяч лет назад звери давно бы пировали на их костях), люди с врожденными пороками сердца и почек (сорок тысяч лет назад они умерли бы, едва родившись), люди, наделенные самыми причудливыми наследственными болезнями (сорок тысяч лет назад природа истребляла их гены, как иной хозяин – сорняки). Итак, в далеком прошлом все эти больные немедленно бы погибли. В наше время их дефекты становятся частью общего достояния, частью генофонда человечества.
Все это хорошо – для конкретного человека с его проблемами, но последствия для всего нашего общества могут быть самыми серьезными. «С биологической точки зрения мы достигли предела», – такой суровый приговор вынес известный американский биолог Стивен Д. Гулд. Когда-то естественный отбор осуществлялся прежде всего за счет детской смертности. По оценке Ханса-Юргена Мюллера-Бека, «в каменном веке смертность среди грудных детей была невероятно высока. Выживал, быть может, только каждый четвертый ребенок». Теперь уровень детской смертности практически сведен на нет. Когда-то природа вознаграждала здоровыми, живучими детьми лучших представителей вида. Теперь – стараниями медиков – любой из нас, как ни цинично это звучит, способен родить (и выходить!) заморенного, недоношенного ребенка. Прежняя – жестокая – справедливость Природы потеснена человеческой справедливостью. Надолго ли?
Цивилизация зародилась, чтобы помочь людям выжить. В наше «прогрессивное» время она стала сдерживать, тормозить их дальнейшее развитие. Даже если в каком-нибудь уголке Земли возникнет неожиданная мутация – появятся люди, наделенные «сверхмозгом», своего рода прообраз грядущих Homo futurus, – то не успеем мы даже призадуматься: «Камо грядеши, человече?», как гены этих немногочисленных «сверхлюдей» моментально распылятся в «общем котле» – в этом весьма засоренном генофонде человечества. Люди будущего быстро сойдут на нет, исчезнут, словно струйка дождевой воды, пробежавшая по пустыне.
Изоляция – еще один важнейший движитель эволюции – давно уже сделалась невозможной. Уже неоткуда ждать «отборного семени». Все замутилось, перемешалось, равномерно распределилось. Нигде на Земле не осталось тех блаженных уголков, где люди могли бы исподволь развиваться вдали от остального человечества. «Разве что, ради спасения человеческой расы, остается основать где-нибудь в Космосе колонию и прекратить с ней всякое сообщение», – фантазировал Стивен Д. Гулд. На практике совершается обратное: мы врываемся в жизнь индейцев Амазонки или аборигенов Борнео – последних народов, живших в полном уединении, – и насильно втягиваем их в цивилизацию, обрекая все крупицы человечества на единую судьбу.
Человечество вырождается? Люди превращаются в неженок, вечно страдающих от стрессов и повышенного кровяного давления, вечно живущих от одной инъекции инсулина до другой таблетки валидола? Цивилизация защитила людей от Природы, Цивилизация – словно коварный, искусительный змей – задушила людей в своих объятиях? Стирая, стирая…
4.9. КОГДА НАЧАЛАСЬ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
Как свидетельствуют результаты раскопок на берегу Генисаретского озера, обнародованные в 2004 году, неолитическая революция началась значительно раньше, чем считалось.
Два миллиона лет люди бродили по лесам и степям в поисках случайной добычи. Гордон Чайлд назвал образ жизни первобытного человека «паразитическим». Как часто человек был жертвой Природы, а не ее соперником!
Лишь в последние десять тысяч лет люди научились отвечать Природе ударом на удар. Вечные капризы погоды им надоели. Они перестали ждать милости от неведомых стихийных сил и сами заботились теперь о своем пропитании. Так началась неолитическая революция, как окрестил эту эпоху Гордон Чайлд. Это было время, когда «человек перешел от сбора и добычи продуктов питания к их производству», то есть начал намеренно менять окружавший его мир, возделывая полезные растения и выращивая домашних животных.
Прологом к этой главной экономической революции древности стало научное открытие. Люди приметили, что там, где они ссыпали собранные ими съедобные зерна, по прошествии нескольких месяцев из земли пробивались ростки с теми же самыми зернами, – хотя прежде эти вкусные растения не встречались здесь, а росли «за той далекой горной грядой».
Стало понятно: если бросить в землю зерно – похоронить его, присыпать горсткой праха, как присыпают останки умершего человека, – то зерно не погибнет, а обретет новую жизнь, оно прорастет через несколько недель или месяцев (может быть, и человек по прошествии нескольких лет и десятилетий тоже поднимется из земли, куда был погребен?). Чтобы собрать пригоршню зерна на исходе лета, нужно кинуть в землю весной зерно. Так человек научился возделывать землю, повелевать землей, получая от нее столько пищи, сколько ему надо было.
Пища в обмен на труд. Хозяйствовать, а не искать, жить оседло, а не скитаться – вот под какими девизами торжествовала неолитическая революция. Охотники и собиратели, – в этих ипостасях мало чем отличавшиеся от животных, – превратились в культурных хозяев – земледельцев и скотоводов, разительно не похожих на животных.
Когда-когда это произошло? И где?
Десять тысяч лет назад на Ближнем Востоке, на землях «благословенного полумесяца» – вытянувшейся в виде дуги территории, включавшей Палестину и Северную Сирию; она простиралась от Египта до Анатолии. Здесь в достатке было речной и грунтовой воды, здесь часто проливались обильные дожди. «Полумесяц» изобиловал растениями и деревьями, приносившими плоды. Здесь росли виноград и груши, яблони и гранаты, грецкие орехи и инжир. Десять тысяч лет назад здесь не было недостатка в пище, и недавние охотники вели оседлый образ жизни, собирая еще и урожай с полей – ячмень, чечевицу, горох…