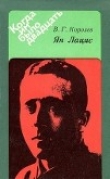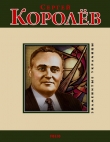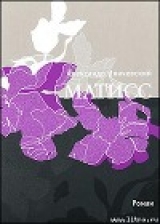
Текст книги "Матисс (Журнальный вариант)"
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава одиннадцатая
НЕ-МЫ
L
Дальше ничего не было, и очнулся Королев спустя два года в городе Александрове. На заводе, выпускавшем телевизоры, он работал наладчиком конвейерной линии, на которой собирались компьютерные мониторы.
Для компании “Восход” выгоднее было покупать в Сингапуре детали мониторов и собирать их в России. Обычно Королев стоял в цеху на втором ярусе и наблюдал, как лента внизу несла расчерченные параллелограммы плат, как над ними водили руками слепцы, с выразительными крупными лицами, в белых халатах, в синих целлофановых шапочках и нарукавниках. Вздев горбе запавшие бельма, они опускали сырые пальцы в коробочки, проворно наживляли ножки транзисторов в монтажные гнезда, трогали, отжимали, погружали кисти рук в воздух, отправляли платы дальше – в направление участка глубокой пайки, где в травочной ванне темно дымилась царская водка и чуть дальше сверкало раскаленное зеркало припоя…
Случалось, к Королеву подходил бригадир сборщиков Семен Кустодиев и, глядя в пустоту, спрашивал разрешения петь во время работы. Репертуар слепцов ограничивался песнями Гражданской и Отечественной войны. “Катюша”, “Щорс”, “Темная ночь”, “Полем вдоль берега крутого...”, “Журавли”.
Заслышав распевку, Королев старался поскорей уйти из цеха.
Закончилось все тем, что заводскому Обществу слепых были выданы таможенные льготы. Таким образом, оформляя свои и чужие грузы на слепых, “Восход” мог заработать хорошие деньги. Сборкой мониторов руководил хваткий юноша, Петр Наливайко, недоучившийся студент питерского матмеха. Узнав о льготах, он выпучил глаза, расчесал пятерней бородку и, подсчитав в уме годовую прибыль от аферы, яростно воскликнул:
– Да за такие деньги всему “Восходу” можно глаза повыкалывать!
Через два месяца сборочный цех превратился в таможенный терминал, а еще через полгода Наливайко ретировался в Сингапур, спасаясь от уголовного дела, заведенного попечением конкурентов на контрабандном поприще. На дорожку он прихватил где-то кредит под залог склада, и скоро в Александров приехали судебные приставы. Вывалившись из “пазика”, вооруженная команда фантомасов уложила слепых на пол. Как единственного зрячего, следователь взял Королева в оборот. Но тот настолько ушел в себя, в неподвижный взгляд и заиканье, что следователь выругался:
– Подонки, дебила над слепыми поставили матрешки собирать.
Приставы забили автобус мониторами – и провалились.
Слепые, хоть и были распущены по домам с сохранением зарплаты, привычке изменить не смогли. Они приходили утром к цеху и по стенке, оберегаясь от бесшумных юрких каров, пробирались внутрь, усаживались в Красном уголке за длинный стол.
Слепые не пили чай, остерегаясь пролить, ожечься. Королев выставлял им пряники, сушки, карамель, лимонад. Бригадир Кустодиев исполнял роль концертмейстера. Однажды Королев закрыл глаза и попробовал вполголоса присоседиться к их пению. Через минуту его пробила дрожь.
Королеву казалось, что вокруг слепых зыбила, дышала воронка. Ему трудно было находиться рядом – реальность вокруг них была разрежена. Она запутывалась, заштриховывалась, заплеталась сверхточными движениями пальцев, разносилась вдребезги по околесице разнобоя слепых взглядов. Он все время проваливался в их слепоту, невольно пускаясь в долгие лесные переходы, полные сумрака, полные то решетчатых, то пупырчатых, колких дебрей. Голова кружилась при выходе в открытое поле, отброшенное негативом, в лабиринт перелесков, в область сна наяву – и, очнувшись, Королев спешил податься прочь, на твердое зрячее место. И так однажды не стал останавливаться на задах за цехом, курить одну за другой в кулак, пинать проржавленную цистерну с надписью “Кислота!”, выбивая из нее тягучий бом-м, бом-м-м-м, а вышел с территории, дошел до вокзала и сел в электричку – налегке, бросив пожитки на съемной квартире, в которую больше не вернулся.
LI
В Москве он сначала снял квартиру в Бибиреве. Не любил эту фатеру – приезжал только переночевать, весь день пробродив по городу. Покупал у метро на завтрак пачку крабовых палочек и майонез, заходил – и заваливался спать.
До него квартиру эту снимал один из сотрудников “Восхода” – ушлый парень, подключившийся к соседскому телефону и наговоривший с Сингапуром и Саратовом тысячу долларов. Вскоре пьяные дружки соседки избили Королева в подъезде, выместив на нем нерастраченный заказ.
На следующий день Королев устроился ночным сторожем в фирму, торговавшую электронными микроскопами. Ночевал он в демонстрационном зале, где стоял настроенный микроскоп. Ночью Королев иногда включал его. В окуляре плыло ослепительное поле микронного образца, по которому рельефной тенью, подобно Скалистым горам, залитым с орбиты солнечным светом, шириной всего в несколько атомов золота шли надписи: “АНГСТРЕМ”, “АТОМ”, “СЛАВА КПСС”, “РАДОСТЬ”.
Контора находилась в переулке у Большого театра, и утром он не отказывал себе выйти покурить в портик, на пустой театральный подъезд. Ему нравилась колоннада как таковая, ее возвышенность, устремленность, открытость городскому ландшафту, – он воображал себя стоиком: как будто бы гуляет в Стое, раскланиваясь с воображаемыми философами, оправляя тогу, подходит к кружкам Зенона, Хрисиппа, Клеанфа, слушает, спорит.
Однажды летней ночью он вышел покурить в галерею. Не включая свет, припал к открытому окну. Он уже собирался уходить, как вдруг услышал вкрадчивый лязг. Под фонарем приподнялась крышка канализационного люка, и из него, не скрываясь, вылезли два человека. В пятне ртутной лампы они устроились играть в карты. Бомжи то переругивались, то шлепали козырями, то чинно спорили, то подходили к стене отлить. Прислушавшись, Королев понял, что ставка в их игре превышает его зарплату.
LII
Место работы Королев менял часто, как будто разгребал кучу хлама, поднимая, выпуская из рук бессмысленные вещи. Самой интересной была работа расклейщиком объявлений.
Держала эту рекламную фирму женщина с недавним академическим прошлым, которое было значительно: была она крупнейшей специалисткой в стране по прочности летательных аппаратов. Расчет первой советской крылатой ракеты был в свое время ее дипломной работой. Теперь она отпечатывала на изографе объявления и нанимала для расклейки своих бывших сослуживцев. Королева, не имевшего научной степени, она взяла в виде необходимого исключения из правил. Главным клиентом их конторы была компания “ПиК”, торговавшая бетономешалками. С банкой казеинового клея и пачками рекламок, на которых веселый гусь в кепке нажимал крылом кнопки пульта управления смесительным барабаном, он изъездил все Подмосковье. Дачная местность, изобиловавшая строительством, была особой заботой заказчика. Фаустово, Виноградово, Конобеево, Конев Бор... Звенигород, Тучково, Салтыковка... На всех станциях он выходил, развешивал объявления на столбах и, поджидая следующую электричку, бродил в окрестностях. В хорошую погоду он пускался в недалекие приключения.
А самой беспросветной была его работа страховым агентом. Он обошел всю Москву, предлагая организациям подписку на страховочные сертификаты. От него требовалось нацелиться на производственные помещения. Никто не хотел страховаться, всем было наплевать: будущего не существовало. Зато где только он не побывал. Москва оказалась полна неведомых промзон, грузовых терминалов, складов, товарных станций, машиностроительных заводов, – казалось, не было в ней места жизни. “В центре Кремль расползается пустотой, разъедая жизнь; окраины полнятся лакунами пустырей, заставленных металлоломом производства; где осесть живому?” – думал Королев, обходя разливанные апрельские лужи, пробираясь задворками завода Михельсона. Это был пустой и бестолковый, огромный завод – с дремучими корпусами, в которых скрипучие двери вертелись на блоках, приоткрывая пошедший винтом, захламленный коридор, прокуренную мастерскую, заставленную до потолка стеллажами, вздетыми на попа станками, стойками с электромоторами, испытательными стендами, верстачком, за которым едва было можно разглядеть пучеглазого мастера в сильных очках и выцветшем халате, с тремя прядями, протянутыми через трудовой череп, – с “беломориной” в зубах и паяльником в руке; на стене висела красная воронка пожарного ведра, полная окурков, и календарь 1982 года с пляжной японкой.
– Здравствуйте! Застраховаться не хотите? От пожара, от смерти?
Дрогнули, поплыли захватанные стекла очков. Мастер испугался, не ответил. Королев не очень-то и хотел, чтобы тот отвечал. Он с удовольствием вдохнул горячий запах канифоли.
– Извините. Не подскажете, где на территории произошло покушение на Ленина?
Мастер поднял глаза от пайки:
– Где памятник – видел? Там. – И он махнул паяльником в сторону стены.
Королев долго еще бродил по заводу, заходя в дырявые, выпотрошенные ангары, на ветру звенящие, оживающие в верхотуре висячими частями. Обходил всякую неопознаваемую рухлядь, вертикальные цистерны с красными черепушками и костями, пока не вышел к парадной площадке, с обелиском и Доской почета. Здесь он, воздев руку над огнем зажигалки, поклялся себе больше никогда не быть страховым агентом.
LIII
Все трудоустройства Королева были так или иначе обусловлены его студенческими знакомствами. Самое бешеное время с ним приключилось, когда, поддавшись уговорам институтского приятеля, он переехал в Питер. Рустам был родом из Оренбуржья. Его опекала младшая сестра, вышедшая замуж за нувориша. Королев жил с другом в полуподвале на Большой Конюшенной, где они вместе мечтали устроить репетиторский класс, сезонно готовить школьников к поступлению в вузы, а полгода посвящать путешествиям: на Алтай, в Монголию, мечтали проделать путь Стеньки Разина – с Нижней Волги в Персию… Для этого сначала неделю заливали бетоном земляные полы, обдирали, прочитывая, со стен газеты 1889 года, затем пилили и строгали стеллажи, столы, топчаны, плели из проволоки ограждение перед окнами, чтобы забредшие в подворотную глухомань люди не мочились им под форточку. Июньской белой ночью выходили на улицу. Их двор был одним из многочисленных дворов-матрешек в округе. В проходе к Дворцовой площади худенькая девушка играла на гитаре Баха… Затем лето, питерское лето понеслось глупым счастьем. До обеда они готовили школьников в вузы, в пух и прах разрешивая сборники вступительных задач, а после мчались в Петергоф, Царское Село, Гатчину. Королев мог часами бродить по Царскосельскому парку, заглядываясь на галерею Камерона. Ему вообще нравилось все, что напоминало портик: он обожал одновременность покрова и открытости всему ландшафту. Даже новые бензозаправки вдохновляли его на античные ассоциации. Ему казалось, что, родись он в Питере, этот город совсем по-другому бы его слепил, выпестовал – одним только пространством…
А потом началась промозглая осень – посыпались искрометные знакомства с китайцами-ушуистами, поклонниками стиля шаолинь-цюань: один из них вытекал из смирительной рубашки, а у другого было удивительное рукопожатие – ладонь его выливалась из руки, как подсолнечное масло. От китайцев они перешли к кружку самураев, то ковавших по ночам мечи в металлопрокатном цеху Путиловского завода, то под дождем рубивших бурьян вокруг дворцовых развалин в Стрельне; а от них – к гейше-любительнице, учившей Королева сочинять растительные стихи – икебана. Гейшу звали Татьяна-сан, была она средних лет и при всей непривлекательной нескладности источала такой тонкий аромат, что Королев в ее обществе терялся, задыхаясь от неясного жара, вдруг раскрывавшегося пылающим сухоцветом в солнечном сплетении. Потом была девушка Оксана, год назад спасшаяся от рака йогой, голоданием. Королев гулял с ней вдоль каналов, следил, как фасады перетекают в дрожащие зигзаги кильватерной ряби, разбегавшейся от прогулочных баркасов, вникал в подробности ее титанической борьбы за жизнь. Оксана любила шить, он приходил к ней послушать стрекот челнока, последить, как ловко – будто печатью – ложатся на шов стежки. Содрогаясь от легкости, он брал ее на руки, нес на диван, тушил бра, и она жалась, стесняясь телесной своей ничтожности, а Королев наполнялся жестокой, любопытной жалостью, с какой он снимал с нее кофточку, пузырящиеся брюки, выпрастывал спичечное тело, вдруг начинавшее биться, складываясь в его ладонях со стыдливой, прерывистой горячностью, и все смотрел на ниоткуда взявшийся скелетик, словно бы недоумевая, и вдруг, как внезапные слезы, пробивало его неистовство, он словно бы попирал саму смерть, зверея над ней, над этой худышкой…
Потом были унылые девки с улицы Жени Егоровой, как на школьной линейке, гулявшие вдоль обочины: осовелые, бесчувственные, желающие только срубить на дозу. Везли их на такси через весь город, и наконец Королеву опостылело: однажды он весь сеанс просидел с такой подружкой в кухне, в то время как вторую в спальне Рустам гонял ремнем за нерадивость.
“Не убьет?” – спрашивала у Королева девочка, откусывая пирожное…
А потом они с Рустамом уехали в Оренбург закупаться пуховыми платками, войлоком и валенками – для открытия торговли на базаре. Но прежде заехали в деревню Рустама. От станции тряслись на телеге, запряженной мохнатым тяжеловозом, оглядывавшимся на Королева как на знакомого. Возница тоже оглядывался – ревниво – и понукал, подстегивал Гришку – так звали дряхлого, засыпавшего на ходу мерина.
Затем они окунулись в простой и важный мир, в котором жили дымящиеся стога запорошенного снегом сена, коровы, овцы, хлопотливые гуси, лошади – и ноябрьский буран в степи, разверзшийся из тучки-кулачка, как из раскрытой в очи жмени, ураганом колючих хлестких бесов. Теплая широкая печь, по которой так приятно было кататься поверх стеганого одеяла, сытная пища, дневной сон, тишина. Такая тишина, что закладывало уши и специально самому себе приходилось подать голос: кашлянуть или мыкнуть – чтоб очнуться слухом. В этой татарской патриархальной деревне жители редко говорили по-русски. Но если говорили, язык их звучал необычайно чисто, парадно.
Вскоре Королев порожняком вернулся один в Москву: родители оставили Рустама, чтобы женить.
LIV
По большей части потому Королев не мог жить, что не способен был получать удовольствие от простых сущностей. Он и сложной и радостной жизнью наслаждался не вполне, поскольку всегда принимал изобилие за предвестие недостачи.
Ревнивое тело его одиночества вмешивалось третьей частью в его связи с человеком. С женщинами его отношения строились по принципу карточного домика. Из-под их руин выбираться было просто, но такая тоска охватывала Королева снаружи, так ему было там просторно, будто отплыл он без привязи от космической станции. Постепенно он перестал испытывать себя и перевел эту часть жизни в область практическую. Но и в такой конструкции темперамент Королева проделал брешь, размером превосходящую бытие. И вот уже год Королев жил один. И даже думать о женщинах себе запретил…
Его общение с однокурсниками постепенно сошло на нет.
Последний друг, покинувший Королева, был ему особенно близок. Высокий, тонкий, красивый, горячий, чуть сутулый Эдик Симонян был сумасшедшим, подчас несносным, но неподотчетная симпатия Королева всегда действовала безотказно. Вообще, сумасшедшими его было не удивить: те или иные степени маниакально-депрессивного психоза были так же часты на его факультете, как грипп. Чересполосица циклотомии мотала всех поголовно по пикам эйфории и провалам беспричинного горя. Умственное переутомление, взвинченное бурей гормонов, многих подталкивало к краю безумия. Зимой третьего курса, в самую тяжелую сессию на Физтехе, через психдиспансер Яхромы в академический отпуск отправилась четверть его потока.
Королев всегда следил за психиатрической гигиеной. Лучшим заземлением для него была физическая нагрузка: волейбол, баскетбол, футбол по колено в снегу, до упаду, каникулярные походы, изнурительные и счастливые; девушки, случалось, с благодарностью, как трава росу, принимали в себя его буйство.
Эдик аристократически брезговал совмещать сдачу теоретических минимумов с физкультурой – и к концу четвертого курса заработал смещение сознания в религиозную сторону. Выражалось это сначала в его философии, развиваемой в коридоре общежития факультета общей и прикладной физики (мол, познание суть гордыня, а стремление к вершинам теоретической физики, выстроенное еще со времен Ландау на поляризации – кто умный, а кто дурак, – дерзновение низкой нравственности), и затем – в скитальческом поведении. Аскетически исхудавший, с мученическими кругами под глазами, своими воззваниями неофита он приводил однокурсников в трепет. Однажды унылые соседи прогнали Эдика из комнаты, и приютил его Королев. Вдумчивой беседой он осадил его воспаленные речи и, когда соседи остыли, водворил на место.
С этого началось их приятельствование, далеко не сразу развившееся в дружбу. Не виделись они несколько лет, и однажды, когда Королев из ностальгии заехал прогуляться в Долгопу, он встретил Эдика. Жил тот по-прежнему в общаге, преподавал на кафедре теоретической физики. С тех пор они часто гуляли вместе – и сдружились не на шутку. Эдик говорил тихо, с глубинным горением, и Королев слушал теперь бережно, осторожно подхватывал, но все-таки одновременно думал свою отдельную трудную мысль. Эдик рассказал ему, как одну зиму прожил в Ереване, у брата, сколько там было горя, унижения, нищеты. Как было холодно, как они воровали из заброшенных квартир мебель – на дрова, как налаживали буржуйку, как брат однажды кинулся на него с топором, потому что Эдик замучил его разговорами о покаянии…
Однажды, разговаривая, они дошли от Воробьевых гор до Водников и на закате купались в Клязьминском водохранилище. Обсохнув, Эдик достал из рюкзака буханку, вяленого леща с лопату и персиковый сок. Королев навсегда запомнил наслаждение, с которым – после такого восхождения духом – он сыпал серебряной шелухой, срывал с хребта полоски просвечивающего от жира мяса, протягивал другу, как разломил пополам буханку и как, насытившись, они легли, глядя в бледное небо, высоко рассекаемое виражами стрижей, и закурили… И как потом пешком шли в “Шереметьево-2”, как высился за обочиной строй медвежьей дудки, как вышли они к посадочному коридору, означенному красно-полосатыми мачтами, батареями прожекторов, и долго высматривали в рассветном небе серебряный крестик самолета, полого дымившего с посадочного склона над полями и лесом вдали, над широкой просекой на подлете, как, бесшумно нарастая тушей, шевелясь, подкручивая подкрылки, пропадал громадой за бетонным забором, как дико взвывали на реверсе двигатели… И как завтракали, по институтской памяти, в рабочей столовке аэропорта, на четвертом этаже – подняться на бесшумном лифте, – где однажды Королев познакомился с группой шведов, транзитно дожидавшихся утреннего рейса. Среди них оказался актер, снимавшийся у Тарковского в “Жертвоприношении”, – милый вдумчивый человек. Полночи они простояли перед темным панорамным окном, выходившим на взлетное, полное дрожащих огней поле, разговаривая на простом английском о простых вещах, – и на память у Королева остался альбом нефигуративной живописи…
Следующей весной Королев проводил Эдика в недавно возрожденный монастырь под Чеховом – на послушничество. Летом Королев съездил к нему. У ворот монастыря они постояли в неловкости. Королев все хотел его расспросить, но Эдик молчал, уставившись в землю, и время от времени повторял: “Все хорошо, Лёня. Все слава Богу”. Королев тогда раздосадовался: “Да чего ты заладил”, – махнул рукой и пошел к остановке не оглядываясь. А сев в автобус, увидал, что Эдик все еще стоит у ворот – высокий, смуглый, в рясе, которая очень шла к его стати, и как, отплывая за стеклом, вдруг поднял глаза и украдкой перекрестил дорогу. Зимой Эдик сообщил письмом, что принял постриг. А в марте он сидел на кухне Королева, в гражданском платье, курил и беззвучно плакал.
Пожив у Королева, Эдик засобирался в Ереван. Да и Королю с ним становилось все трудней и неспокойней. Например, он стыдился в его присутствии приводить домой женщин, возмущавшихся к тому же, что это за чудик живет в кухне – голой в ванную не проскочить. Наконец насобирал ему денег на билет – и проводил в Домодедово. При прощании Королеву явно стало, что Эдик решается, сказать или нет что-то важное, но Королев отступил, махнул рукой и повернулся к выходу…