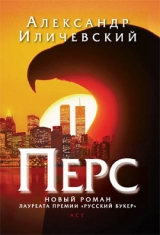
Текст книги "Перс"
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Я отнес Марка в детскую, пустил его снова ползать за ограду, показал ему, как обращаться с новой игрушкой – шариком-мякишем. Тереза позвала обедать: праздничный халибут с травами на пару, я откупорил вино. «Илья, я предала тебя, я не могу с тобой быть», – вдруг сказала она по-английски и кинулась, взяла из манежа Марика, вернулась, села напротив. Дальше я ничего не помню, или почти ничего: я сосредоточился на Марке, я смотрел на него неотрывно, не выпускал из виду, впитывая все ужимки, улыбчивость, с какой он принимался теребить мать, хватать за руку, кусать за запястье, у него резались зубки.
Меня тогда спас сын. В то время мне особенно был нужен Марк, нужен и сейчас, а тогда б я без него не перекантовался. Я брал его на руки, и они были заняты на время нежностью; все внимание я сосредоточил на нем и так уберегся. Скоро я переехал к родителям и пожил у них неделю, пока не отбыл на вахту.
Прежде чем украсть сына, я подготовился, купил памперсы, детской еды, кроватку, игрушек гору – железную дорогу, радиоуправляемую стрекозу с огромными целлофановыми крыльями, очень верткую, ее мы лишились из-за ветра. Я снимал тогда студию на первом сыром этаже 25-го авеню, плесень от туманов на обоях, корешках книг, весь крохотный садик заднего двора был обложен по забору плетями неприступной ежевики, за них и махнула затрепетавшая стрекоза, пенопластовый корпус, проволочные ножки. Мы бесконечно жили с Марком в двумерном мире пола и разбросанных игрушек, я вживался в этот мир. В тот вечер, кое-как накормив сына, я искупал его, уложил, но еще не убаюкал – вышел покурить во дворик, уже полный сумеречным туманом, постоял, вернулся. Марк лежал в кроватке, улыбался. Я лег на пол и снова погрузился в мир железной дороги, не мог я думать о завтрашнем дне, вызвал такси, завернул Марка в одеяло, и тут раздался короткий звонок в дверь. На пороге стояла Тереза, с перевернутым лицом.
И тогда, чтобы не спятить, я уехал на Аляску; по старой памяти пожил у Керри Нортрапа на Кинае, на Большую Землю не ездил, зато хариуса, лосося обловился, мошку покормил, а зимой обучился управляться с собачьими упряжками, покатался вдоволь. Затем перевелся в Норвегию, между вахтами жил в заповеднике в палатке над входом в фьорд, внизу в камнях меня ждала надувная моторка, с нее я рыбачил; один раз чуть не угробился – вдруг заштормило, рванул к берегу, но слабенький мотор не давал выйти на глисс, понесло в море, волна разгулялась, стала захлестывать, хорошо, была ракетница, рыбаки подобрали.
Четыре года назад, месяца через два после того как я обратился в суд, жена прислала на адрес родителей письмо (электронную почту сменила, никаких следов): «Если хочешь встретиться с Марком, можешь застать нас в Нью-Йорке в первые две недели октября».
Мы встретились в Центральном парке, на детской площадке. На ней был бежевый плащ, в таких ходили в шестидесятые, густые волосы на пробор гладко очерчивали лоб и были собраны в пучок на затылке. Я едва узнал ее.
Марк вырос. Точная копия меня в профиль и вылитый мать анфас, будто сошедший с ее и моих детских фотографий, мальчик смирно стоял у скамьи, не обращая внимания на чужого дядю. Содранная коленка, морщинистая сукровица. Ссадина на локте, на плече расчесанные укусы комаров. Я смотрел на его живую коленку и хотел поцеловать ее. Мои губы помнили занемелую шероховатость сукровицы. Я не решался заговорить с сыном, и если бы решился, то не смог бы вымолвить и слова. Наконец Марк вернулся к детям, занятым крикетом и фрисби одновременно, и стал ждать, когда они его заметят.
Рассеянный свет над кронами деревьев был полон покоя, листья облетали. Небритый парень в инвалидной коляске возился с фотоаппаратом на треноге, припадал к окуляру, испепелял сердитым, требовательным взглядом округу: газон, скамьи с чугунными кружевами боковин и ножек, вазоны по флангам и площадки с малорослыми копиями статуй, вскинувшихся в зависшем балетном фехтовании ребят, кроящих пластами воздух бесшумно стремительной тарелкой-фрисби. Парень ловко подруливал коляску, поворачивая фотоаппарат для съемки следующего сектора панорамы, и поджидал, когда кадр очистится от ненужных деталей – прохожих, собак, тележки мороженщика. Старушка, просеменившая мимо, держась за ортопедическую рамную опору, которую переставляла так ловко, что казалось, будто она может передвигаться и без нее, – радостно («Молодчина!») проводила взглядом бегуна, здоровенного парня, бежавшего так мощно, что донеслось движенье воздуха.
Тереза молчала, а я думал, что зря не купил сыну подарок. Я пришел с пустыми руками, решив, что мелочно таскаться с игрушками, что отношения наши настолько значительны, что встреча наша обладает настолько высоким рангом, что ни о каких подарках, привносящих в ее плоскость обыденность, – речи быть не может.
Я сказал:
– Давай снова жить вместе.
Тереза стыло смотрела прямо перед собой, я никак не мог распознать, на чем сосредоточено ее внутреннее усилие. Ведь я тут был уже ни при чем, я «оставил давно хижину огня, где пролилось молоко лунной ночи».
– Поезд ушел. Так правильно говорить, да? – спросила Тереза.
…Я смотрел на ее профиль. Прямой нос, серые глаза, синеющие аметистовой глубиной в сумерках, чуть коротковатые, ровно на полкаблука, сильные, балетные ноги, быстро зябнущая матовая кожа. Ладони мои вдруг занемели, ощутив – вспомнив чуть шершавые вершины ее попы. Никогда она не пользовалась духами, но сейчас была окутана простой пятой «шанелью», единственными духами, что были у моей матери: флакончик тускнел, пустел по мере моего взросления на верхней полке серванта. В нашем доме летом всегда от жары были зашторены наглухо окна, в комнатах днем вечно стояла темень, как в пещере Али-бабы, лишь грошовые сокровища (гэдээровский фарфор с осенними листьями по полям, толстенная пепельница из богемского стекла, с дымчатыми разводами, персидская бронзовая ваза с клинописной чеканкой, которую я обожал тереть зубным порошком) меркли за стеклом в серванте, хранившем в нижних ящиках альбомы по искусству, мой иной, смежный мир, который я отворял на коленях, сидя на полу перед лакированными створками, там я рос, неделям и пребывая внутри картин Дюрера, Кранаха, Веласкеса, играя в догонялки с фрейлинами, собакой и карлицей, или трепля за уши льва святого Иеронима, или гуляя в райском саду Кранаха. Оставаясь один дома, я доставал иногда флакончик духов: вдохнуть праздник. Мама взрослела – не старела! – но запах «шанели» всегда держал ее юной.
– Илья, сейчас я не люблю тебя. Так правильно, чтобы ты знал, – произнесла Тереза.
Она сказала это с сильным акцентом, и потому смысл слов показался мне ненастоящим. Волна желания немного схлынула. Вверху высокое, как собор, облако смещалось за деревья. Плоть его, насыщенная солнечным светом, казалась в нескольких местах полупрозрачной. Справа от нас простаивал велорикша в изумрудной обшарпанной колеснице, куда он залез с ногами, завалившись на поручень. Вдруг он всхрапнул и тут же проснулся и испуганно огляделся.
Наконец Тереза подняла глаза. Передо мной сейчас стоял незнакомый мне человек. До сих пор черствость владела ее лицом, отстраненным, но своей напряженностью допускающим перемену, слом. После этого полувопроса напряжение спало, она наконец поняла, чего я хочу и что от меня ждать. И тогда расслабила осанку, равнодушие вернулось к ней, и пропасть разверзлась между мной и Марком. Теперь ее было не перепрыгнуть.
Скоро на дорожке появилась няня, молодая негритянка, с белоснежными кружевными манжетами из-под красной кофточки, молчаливо учтивая, с округлыми жестами. Ажурные полоски ослепительной белизны – над черной узкой ладонью, уводящей прочь по дорожке моего сына (не оглянулся на мать), – вот что я особенно запомнил из всего того длинного дня, который никак не закончится до сих пор.
– До свидания.
– В таких случаях надо говорить «прощай», – сказал я.
– Почему?.. Прощай. Да.
3
Развод состоялся заочно. За мной осталось право видеть сына. Тереза не запрещала мне встречаться с Марком, она просто пропала – и дело с концом. Судя по запросам, которые я отправлял в специальный отдел полиции, эхо ее мерцало то в Швейцарии, то в Англии и наконец пропало в России. Когда она наконец вышла замуж, очередной запрос принес мне ниточку, потянув за которую, я выяснил, что сын мой теперь живет в семье Роберта Хаггинса.
Постепенно приоткрылось. Скорей всего, познакомились они в том самом кафе на Валлехо, куда Тереза однажды заглянула в мое отсутствие. Не знаю, что пришло ей в голову – может, она соскучилась и решила развеяться, как-то приблизить нашу встречу тем, что пришла в это место, такое близкое к небу и заливу, там я забывал, что человек создан только для того, чтобы осознать свое одиночество. Завсегдатаи этих заведений – жители Итальянского квартала, мусорщики. На рассвете эта лихая братия пересаживается на мусоровозные мастодонты и рассекает по пустынному городу. На подножке и на корме – под рычагами гидравлического пресса – висят атлеты в зеленых комбинезонах, они соскакивают на ходу, опорожняют столитровые баки с лихостью жонглеров и заскакивают тоже уже на ходу, по сигналу флага сизого дыма и трубного рева движка. Днем эти низкорослые крепыши в джинсах и кожанках, болтая, выпивают эспрессо у стойки, закуривают, болтают с хозяином, и мы – чужаки, сторонние, хоть и постоянные посетители, глазеем на них, как на Марадону.
Но отныне я в Trieste не ходок. И не оттого, что не желаю задарма поить ласковое чудовище ностальгии. Именно там мы с Терезой увидали этого парня, Роберта Хаггинса, голубоглазого блондина с чуткими бровями и скупыми жестами. Его водянистые зрачки были вкрадчивы и почти неподвижны, при том что рот не закрывался. Я знал Хаггинса по Ричмонду, несколько раз встречал в конторе, куда он являлся по своим фрахтовочным делам, присутствовал при разгрузке танкера, чей путь в течение двух месяцев отслеживал по всему миру из офиса в верхотуре Трансатлантической Пирамиды, отвечал за сделку головой. Я наведывался в Ричмонд по наладочному наряду: кое-какие узлы нашей системы были недавно установлены на разгрузочный терминал.
Я даже пару раз катался с Хаггинсом на ланч, но ничего не вынес из общения, кроме неприятия этого типчика. Неприступная закрытость свойственна людям его профессии – сырьевым трейдерам. Трейдеры – специалисты-кудесники, подобные Деррену Брауну, но, в отличие от последнего, не выступают с номерами вроде «русская рулетка», «отдай ключи от квартиры чужому парню» или «продай бриллиантовое кольцо за два фантика», а зарабатывают приличные деньги путем внушения какому-нибудь арабскому принцу идеи торговать именно с его фирмой, а не с какой-либо еще.
Раньше я пару раз нарывался на подобных мошенников, из которых вырастают настоящие спецы. Один был продавец подержанных автомашин, участник выездной сессии-ярмарки, на которую меня занес черт, все равно потом купил новый Civic. Парень этот вылавливал посетителей при входе на огромный паркинг, украшенный транспарантами и карнавальным антуражем. Взял он и меня в оборот: сам сухонький, твердое лицо, поджарое тело, но отчего-то потел обильно, с похмелья, что ли. Говорил он сквозь зубы с напором и ненавистью любезные вещи, означало это одно: «Купи машину, а то прокляну». Я хотел уже купить у него хоть что-то, какую угодно бросовую колымагу, только чтобы прекратить весь этот мрак, но вдруг в какой-то момент выпрыгнул наружу, ни слова на прощанье.
В Хаггинсе при всей его невозмутимости и скрытности (лучше всего прячется пустота, вакуум сложно уличить в утечке) я подозреваю что-то подобное, некий надлом, видимо, он и мешает ему продвинуться на приличный уровень и не ездить больше на побегушках разговлять операторов терминала. Ну разве не катастрофа, что мой сын будет жить вместе с подобным типом?
4
Суть мировой торговли сырьем, в частности и нефтяного трейдинга, состоит в борьбе закрытых государственных корпораций различных стран-добытчиков и транснациональных сетей потайных продавцов. Один из главных игроков на этом рынке вселенской значимости, где торговые войны справедливо приравниваются к войнам мировым, – транснациональная сеть, созданная Максом Просперусом. Тридцатипятилетнее детище его (мы с ним одногодки) есть один из главных монстров современного сырьевого бизнеса. Дела его поистине мрачны. Одной из шалостей последнего десятилетия этой хитроумной поруки спекулянтов стала головоломная метода, позволившая им организовать контрабандную торговлю иракской нефтью, проходящей по программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Парни Просперуса срезали на ходу подметки чиновникам ООН, десятки раз перепродавая друг другу, на сторону и обратно содержимое танкеров за время их плавания от одного терминала к другому, рассеивая взвешенные квоты. Технология называлась C&S – «раскроши и рассыпь» (Crumble and Scatter).
Просперус – пионер «шакальего трейдинга», специализирующегося на кризисных странах. Только за «торговлю с противником» (с Ираном: братья Бахтияр, нефтяные шахи Абадана – стародавние кореша Просперуса, именно они потом вывели его на подпольную иракскую нефть) в то время, в 1979 году, когда жизни четырехсот американцев находились на волоске от гибели, – суд вознамерился наградить его веком заключения. Торговля с ЮАР в период расовой сегрегации, с Кубой и Ливией в нарушение их экономической изоляции – все это не скрашивало обвинения в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов: в 1982 году Просперус канул в Швейцарию, где отлежался и со временем развернулся, став главным налогоплательщиком кантона Цуг, в котором я и обнаружил одно из местожительств Хаггинса и Терезы.
Большинство трейдеров-одиночек из стаи Просперуса обосновались там же, в Швейцарии, в ландшафте, апробированном Джеймсом Бондом для охоты на подобных властительных дельцов. Мне до Бонда далеко, зато цель у меня дороже человечества: мой мальчик.
Следующий пункт пребывания Хаггинса был добыт мной через его приятеля с помощью бокала приличного кьянти в стрип-клубе на О'Фаррелл: «Hey, man, how's going?.. Remember Robert? He scooped the kitty, while left for Moscow».[12]12
Привет, парень, как дела? Помнишь Роберта? Он сорвал банк тем, что отвалил в Москву… (англ.)
[Закрыть] Россия в пристрастиях Просперуса проходит, как и некоторые другие страны третьего мира, в качестве крупномасштабного проекта по освоению недр. Вторжение осуществляется по простой схеме: компании неокрепшей экономики хронически нуждаются в инвестициях, и трейдеры их обильно финансируют в обмен на эксклюзивные права экспорта. Никель и цинк из Перу, алюминий и вольфрам из России. Налоговые убежища с крепкой охраной банковской тайны вроде Панамы, Лихтенштейна или Гибралтара обнаруживают в своих наделах финансовые холдинги, оперирующие на территории Сибири.
В московский офис я перевелся в два счета, благо компания только что подписала пятилетний контракт по обслуживанию ряда российских нефтедобытчиков и как раз рекрутировала инженеров-наладчиков для заброса в Сибирь и Сахалин. Еще через месяц хождения по улочкам и скверам близ Патриарших прудов и Бронных улиц дали результат: Роберт и Тереза жили в доме, дворик которого украшала скульптурная группа – два аиста с раскрытыми клювами смотрели в небо Москвы. Я часами листал журналы с фотоаппаратом на коленях во время прогулок Марка. Он стал еще больше похож на меня. Пусть хоть в нем силком она меня любит.
Глава пятая
ПОЮЩИЙ ОКЕАН И ПОЮЩИЕ НЕДРА
1
Голландия оказалась воронкой воспоминаний. Из нее легко было выбраться при помощи поезда или самолета, но я все медлил…
Однажды среди ночи в гостинице я подскочил на постели, будто внутри меня зажгли прожектор. Снилось мне, что села на меня Тереза, села на низ живота горячей своей легкостью и смотрит белыми глазами, вжимается в пах… И Марк стоит светлой тенью у изножья кровати лицом в угол, наказанный. Я мычу ей: «Что ж ты делаешь», – а из горла хрип: молчком прогибается волной, и краешки губ удлиняются. Тогда я повернулся на живот, и поплыло мне в переносье лицо Черникина, открытое и суровое, обрамленное шкиперской бородкой лицо моего начлаба на «Вавилове». А за ним картины стали приоткрываться, новые шквалы подробностей накатили, отступили, переменились…
Многим я обязан этому сумрачному добряку, прикрывшему меня в сложной ситуации. Человек непростой, но добрый, отчаянный и прямой – принял под свое покровительство странного паренька, сбежавшего от себя, от стыда, от неизвестности, – на корабль. После исключения из училища, после проклятой службы и контузии я все равно необъяснимо рвался в море: толком не отлежался, оставил мать в обморочном состоянии, отца в волнении, а раньше пришел к Столярову, к одному из главных учителей юности, к человеку, который учил нас управляться с парусом, водил нас в степь и в горы, по реликтовым лесам, учил «тарзанить» на лианах, ловить острогой форель, шутя, показывал начала тайных троп в Иран, учил строить лодки, ходить под парусом, сам в одиночку пропадал неделями в зимнем штормующем море и всем своим существом доказывал величие союза человека и природы и почему человек должен ей поклоняться.
Я еще расскажу о нем, а пока мы с ним сидим в чайхане на бульваре, под парашютной вышкой, в лоне вымершего от зноя города; искрится колотый сахар в пиале, листики оливы серебрятся с изнанки, Столяров уже выслушал все мои приключения и никак не может понять:
– Ты видишь, что сейчас в стране делается?
– Вижу. Перестройка, гласность, весело становится. История поворачивает.
– Весело… Скоро история людей жрать начнет, из поворота вышвыривать. Понимаешь? Время отнимет у людей место! А ты мать с отцом бросить хочешь.
– Они не маленькие.
– В такое время всем вместе нужно держаться.
– Да что я, навсегда пропаду? Сейчас июль, поступать в институт я опоздал, даже на заочный. Так чего ж я целый год болтаться буду? Лучше в море. Только не на здешнем каботаже.
– А вдруг война? Вдруг танки на улицах?
– Смешно. Никаких танков. Никаких крейсеров. Я теперь пацифист.
– История зато не пацифистка.
Столяров был прав, и вернусь я уже в сердце усобицы. А пока он вызвонил Черникина, своего приятеля из московского Института океанологии. Черникин принимал участие в новейших гидрофизических исследованиях Каспийского шельфа, для которых Столяров был привлечен экспертом: лучше любого лоцмана он знал нагонные течения, фронты столкновения ветров, дыхание обширных мелководных полей Апшерона, меняющих рельеф, подобно тому, как сдвигаются долгие складки одеяла, укрывающего буйно спящего великана. Нефтяники молились на него при установке новых буровых площадок в открытом море; прорабы обращались к нему исключительно – «меалим», учитель. Только Столяров мог выписать им точные режимные поля штормовых условий: при монтаже настильных сооружений крайне важно знать величины гребневой волны на данном участке дна, вопрос всегда упирался в дорогостоящие сантиметры…
2
Черникин дал Столярову добро, и через день я уже ночевал в «Домодедово» на станковом рюкзаке «Ермак» и потом неделю, пока оформлялся, жил у вдовца Черникина на Открытом шоссе, дни напролет сидел с тремя мал-мала пузырями, его внучатами, читал им «Веселую семейку» и «Приключения Карика и Вали». Дочка Валерия Григорьевича, измотанная, то и дело плачущая по любой причине (дети ободрали алоэ, попугай Кики обгрыз угол «Мастера и Маргариты»), вечно ждущая из командировок невиданного мужа, проводила нас до метро. В акварельном Калининграде небо было полно хохочущих чаек, а вечером я уже стоял на дне гидрологической шахты научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вавилов», семь метров под ватерлинией. Корабль был прообразом настоящего плавучего института: оснащенный всеми лучшими приборами – навигационного и гидроакустического толка, армией глубинных лебедок, двумя батискафами-манипуляторами и специальным двигателем, гасящим дрейф, чтобы удержать корабль в одной точке, «Вавилов» работал в паре с другим научно-исследовательским кораблем, названным «Академик Келдыш». У того тоже имелась гидролокационная шахта, оснащенная локаторами, с помощью которых акустики получали отраженный от дна звук, излученный с нашего корабля; мы также принимали сигналы, индуцированные «Академиком Келдышем», спаренно менялись углы излучения и приема, прощупывалось дно на многих сотнях миль, разделяющих корабли, – и таким образом уточнялись данные, на основе которых потом был составлен Атлас мирового океана, титанический уникальный труд, над которым сотрудники Института океанологии работали десятилетия. Но главная задача кораблей состояла в скрытном прослушивании Мирового океана, в работе над глобальными системами обнаружения подводных лодок. Тогда еще не закатилась мечта военных покрыть весь Мировой океан антеннами скрытной системы обнаружения. Притопленные по всему Мировому океану акустические буи – сеть оснащенных антенн должна была отслеживать местоположение вражеских подлодок; военные космические спутники, зависшие неподвижно над теми или иными участками Мирового океана, считывали бы полученную антеннами информацию для анализа и передачи в пункт командования. Проект оказался баснословно дорог, раза в три дороже разработки водородной бомбы (каждая антенна из многих тысяч должна была иметь автономное питание, а энергия волн еще не поддавалась эксплуатации), и для его реализации требовалось открыть как минимум еще одно Самотлорское месторождение. А пока лаборатория Черникина продолжала разрабатывать и испытывать такие антенны.
«Вавилов» шел утвержденным курсом, поджидая, когда та или другая наша подлодка, возвращаясь с боевого дежурства, окажется в зоне слышимости и с ней вместе мы станем регламентированно отрабатывать заранее подготовленные эксперименты: апробировать антенные комплексы, новые гидролокационные приборы и вычислительные системы обработки акустических данных; важно ведь не только услышать, определить координаты, но и определить источник: косяк ли это тунцов, киты, касатки, чужая подлодка или подводный неопознанный объект, «инопланетяне». Все подводные лодки на боевом дежурстве находятся в режиме молчания, используют только пассивную локацию, так что в отсутствие связи танцы с подлодкой в выделенном квадрате (когда лодка меняет режимы работы, глубины, курсы) должны быть слажены превосходно, а не выглядеть «совокуплением инфузорий» (так выражался Черникин).
Уравновешенный человек, отличный инженер, Черникин на поверку обладал странностями, которые как раз нас и сблизили… Я получал острое наслаждение от страха, с которым вновь поднимался во мне разверстый шторм: косматое море напирает от горизонта, встает торчком, проваливается, и стена волны бьет на расстоянии вытянутой руки, заполняет весь воздух, бьет в кадык, ломает подбородок, дальше гулкая от крови темнота… Но оказалось все непросто – и впервые на «Вавилове» меня осенил припадок. Когда вдруг неясно, что с тобой происходит, но ты дрожишь, весь исходишь тонким звоном, как стеклянный, тревога твердеет в кончиках пальцев, а душа норовит отлететь с губ, вот-вот, весь ты внимаешь каждому выдоху, ты чуешь – правда, правда, не показалось, – что теряешь дыхание, теряешь светлоту, глаза спускаются на дно – и ужас, жестокий ужас твари, приколотой в углу, уголь в стиснутых зубах, будто сейчас хватит тебя удар, ты помрешь, отключишься или сойдешь с ума…
Даже когда удается в таком предчувствии закемарить, вдруг мышца дернется в первосонье – и прянешь с испуга, будто сон есть смерть, и потом спать боишься, чтобы не умереть, боишься малейшей замутненности сознания, слышишь весь организм, каждый орган оживает отдельной сущностью. Печень вдруг представляется львом. Сердце то трепещет Дюймовочкой, то гулко ходит в горле дельфином. Почки бьются в стекло стрижом. Селезенка – уткой. И дышишь, дышишь, проверяешь снова и снова с опаской, что можешь дышать, что мышцы еще слушаются, еще не отказали расправлять легкие, и снова дышишь… Все было ясно – травма головы, нарушенное кровоснабжение мозга, но как бы там ни было – мне повезло, может, мало кто из смертных наяву видал смерть: с пустым темным ликом слепым пятном она вставала тихонечко предо мной – на палубе, на камбузе, нависала над койкой. Я подхватывался и кидался к Черникину – заняться чем-нибудь, с кем-то поговорить, продышаться, но не сразу мне давалось общение…
Самое унизительное состояло в том, что тем же приступом тебя заворачивало в гальюн, и ты сидел там взмыленный, еще трепещущий, пристыженный; и я не знал, что с этим делать. Днем я старательно соблюдал вахты, слушал Черникина, паял и перепаивал платы, зачищал и шлифовал путаное собрание разнокалиберных дюралевых штырьков и крестовин, которое потом монтировалось в один из антенных блоков; просто прибирался… Моя бешеная прилежность объяснялась боязнью остаться одному, оказаться у борта. Иногда так было страшно, что хотелось вышвырнуться в море, чтоб только не бояться.
Но скоро выглянуло солнышко, мы оставили по левому борту Лиссабон и второй день резали стекло штиля параллельно курсу торговых судов, долгой вереницей стоявших на горизонте. Я видел яхты, замершие нам навстречу, их палубы населяли загорелые бородачи-оборванцы, их смелость, тысячи штормовых миль за их плечами подбадривали меня. Я стал лучше спать, появился аппетит. И тут как раз меня пробило. Я снова стал слышать недра… Однажды я почти заснул, это был тонкий момент пред угрозой бессонницы: нужно было не испугаться мгновенья первого бессознанья – и я не испугался, но вдруг в мозжечок ворвался гул, тишина, снова гул – и пощелкивания, далекие певучие переклички, скрипы. Я не сразу узнал, не сразу понял, что слышу глубину, я позабыл уже, как в детстве – начиная с пожара в Черном городе, потрясенный им, – не сознавая, вдруг ни с того ни с сего слышал рев и ворчание нефти, пузырящееся течение ее, потрескивание соляного купола, клокотание грязи… Начало поправки ознаменовалось новым слухом, глубина вошла в меня.
Я пришел в лабораторию и, едва подавляя дрожь, рассказал все Черникину.
Привыкший по многим месяцам пропадать в рейсе или в лаборатории, Валерий Григорьевич был невозмутим. «Психика не порождает смысла», – однажды сказал он в ответ на мои разглагольствования о том, что моряцкий режим уединенности как-то особенно должен влиять на характер человека. Черникин был глубоким человеком и молчал глубоко. На полке его вместе с фотографией молодой женщины с задорной улыбкой, показывавшей кувшин, полный ягод, стояли тридцать три тома сочинений Достоевского; еще два раскрытых чемодана книг – корешками, зубасто выглядывали из-под койки. В свободное от эксперимента время Черникин одним пальцем стучал по послушной клавиатуре пишущей машинки. Времени в рейсе было навалом, звукосъемка дна шла в автоматическом режиме. Зато во время работы с подлодкой Черникин недели две не спал, отрабатывал серии, и я подтягивался за ним по режиму. Валерий Григорьевич обладал двумя могучими хобби, вскормленными избытком свободного времени: он писал самоучкой статьи о творчестве Достоевского, переписывался с редакторами журналов, критиковавшими его работы, – и занимался изучением неопознанных звучащих объектов в океане. О первом своем хобби начлаб сурово молчал, но время от времени я прочитывал несколько абзацев, торчавших из пишущей машинки «Олимпия» (приписка: «Ответ, если поспеет до десятых чисел ноября, присылайте в Рио-де-Жанейро»).
Черникин – единственный человек, поверивший, что я слышу пение недр. Тогда я пришел к нему, пробурчал, пролепетал, что в голове странно шумит и щелкает, поревывает, скулит и просит.
– А уши не болят?
– Нет вроде.
– У врача был?
– Он же меня спишет.
– Ну да… А как щелкает? Вот так?
И Черникин смешно скомкал губы, пустил в воздух:
– Вппрррру, вууух, вуух, вух, трррруууааа. Кле, цек, цок, цуок, цуок, цуок. Уууууууу. Вппрррру, вууух, вуух, вух… цуок, цуок, цуок.
– Не знаю. Похоже вроде.
– Так ты же слухач!
Черникин посуровел. Расспросил вкратце, что именно я слышу, хмыкнул, а затем снял с крюка наушники, щелкнул тумблерами и послушал локатор.
– Ничего сейчас. Молчок.
Снова пощелкал, включил запись. Заслушался. Отдал наушники мне.
Я закрыл глаза. Сухое молчание примкнуло к моим барабанным перепонкам, поскреблось. Затем шорох наискосок пересек черепную коробку от виска к скуле. И вдруг из потемок, из-под ключицы заискрилось поцокивание… Сорвалось в певучий скрип и клекот, звуки прошли рядом, стихли.
– А вот еще послушай.
И тут Черникин как с цепи сорвался. Двое суток мы слушали с ним океан. У меня в ушах проходили авангардные симфонии хребтов, то срывающиеся на какофонию, то длящиеся необыкновенной мелодичностью, неслыханными перепевами. Разломы взмывали и рассыпались фонтанными сюитами, мелкие особенности рельефа вокруг вздымались гладкими загадочными музыкальными фразами, чья пульсирующая ритмичность завораживала.
– Сейчас ты слышал клубы извержений над «черными курильщиками», – торжественно разъяснял Черникин и взахлеб рассказывал об этом удивительном геологическом (и биологическом) явлении.
Выяснилось, что Черникин немного экспериментировал с обработкой звука, пробовал синтезировать звуковой мир океана, сделать его более легким для уха, более музыкальным.
Я рассказал Черникину, как в детстве слушал нефть под Апшероном, и он с ходу поверил, растолковал мне в ответ, что ничего удивительного, что Земля и вправду поет, что еще не прекратились колебания магмы. Именно магматические волны сформировали тектонические плиты в порядке октаэдра, что это большая удача – когда-нибудь зафиксировать и сделать слышимыми эти титанические долгие звуки земного колебанья…
– Понимаешь, любой предмет звучит и сам есть акустический фильтр и резонатор, такая звуковая сложная линза, с помощью которой можно услышать неведомое. И вопрос только в том, чтобы обладать необходимым порогом чувствительности, позволяющим услышать…
Черникин откровенностью на откровенность поведал, что ищет неопознанные подводные объекты, охотится за ними уже много лет. Он идентифицировал их с помощью подводников. Речь шла о «квакерах» – квакающих миниатюрных источниках звука, последние годы преследовавших наши подлодки в Северном и Баренцевом морях. Послушать «квакеров» Черникин мне не дал, сказал, что запрятал далеко бобину.
Черникин был прирожденный слухач, так и говорил про себя с удовольствием, объясняя:
– Если на военном корабле, и тем более на подлодке, нет приличного слухача, то это не корабль, а гроб. У слепых часто встречается обостренный слух. Может так получиться, что в консерватории из всех поступивших абитуриентов только два человека с абсолютным слухом, и оба слепые. Во время войны никаких локаторов не было. С помощью специального «уха», звукоулавливателя, слепые прослушивали ночное небо, предупреждая о налетах бомбардировщиков задолго до их приближения. Может, видел на старых фотографиях – зенитка, а над ней гроздь раструбов? Вот это и есть «ухо». Слепой служил в паре со зрячим. Зрячий поворачивал громоздкое ухо в разные стороны, а слухач руководил им, уточняя направление. У слухачей восприимчивость развивается, самому слухачу это не заметно. Слепые слухачи за десятки километров могли отличить «хейнкель» от «юнкерса». Представляешь, сколько жизней в одном блокадном Ленинграде спасли слепые!








