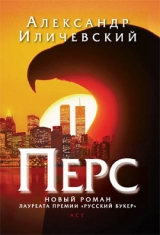
Текст книги "Перс"
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
«Надо будет, как Керри, обзавестись очками от солнца», – подумал я.
4
– Воблин? Слышал. Тут много разного народу показывается. По субботам у нас что-то вроде фестиваля. Воблин запомнился. Одно время он появлялся здесь часто. И в округе его видели не раз. Он ходил по арабским деревням. Что-то ему там было надо. Я думал, он этнограф. Такой высокий спортивный дядечка, довольно пожилой. Волосы отбрасывает назад, говорит бойко и связно. Предметами арабского быта интересовался. Приносил, показывал скалки, ступки, кофейники. Но, кажется, это была отмазка, чтобы не приставали. Может быть, он на рынке барахло это покупал и брал с собой как индульгенцию. Держался в стороне, слушал стихи, песни у костра, но ни с кем подолгу не говорил, хотя был приветлив. Приезжал на велосипеде. Я его однажды спросил, как ему тут по нашим горам на велике, тяжко, должно быть? Тут и пешком… А вообще на него никто особенно не обратил внимания. К нам часто доверенные люди приводят экскурсии – просто посмотреть. Мне все равно, кому показывать свои работы. Считайте, что мы живем в музее и цирке одновременно. Есть постоянные зрители. Но их не так много. Больше проходящих, как Воблин. Но, я же говорю, он одно время часто к нам захаживал. Искупается, отдохнет в теньке, может, задержится до вечера, когда все из закутов повылезают к костру. Его я больше из-за странной кликухи приметил. Вроде старец чинный, академический даже, а кликуха несерьезная, извините.
– Его Владимиром звали, – сказал я, боясь спугнуть вдруг взволновавшегося Симху.
– Он себя только Воблиным назвал. Я еще подумал: «Во, блин, гоблин». Как-то так хамски подумал. А ведь над фамилией грех смеяться. Над фамилией смеяться, как над калекой. Фамилия всегда калека, правда?
– Когда его последний раз видели? – спросил строго Керри.
– Месяца два-три назад, в начале лета, кажется.
Симха Сгор поправил очки, съехавшие с переносицы, и снял аккуратно муравья, ползшего по его лодыжке.
– Я подумал, что он приезжает сюда к отшельнику, – сказал, помолчав, Симха.
– Какому отшельнику?
– Однажды я его видел. Все знают, что в окрестностях Иерусалима много скитов еще раннехристианских времен. Небольшие пещеры с вырезанными в стенах крестами. Некоторые из них и сейчас заселены монахами. Но попадаются и бомжи. Мы, например. Я. Один отшельник живет над Халсой. Наши его встречали несколько раз. Нас с Машкой он вяленым диким инжиром угощал. Ласковый, не старый еще, борода редкая, не растет, и, кажется, больной он был. Говорил с нами приветливо, но так, будто превозмогал в себе что-то.
Боль, болезнь? Утомление? Я еще подумал, как только не жарко ему в рясе. Пыльная, выцветшая, штопаная. Так вот, я думал, что ваш Воблин ездит к этому отшельнику. Поговорить, пообщаться. Вот только я не пойму, как он на велике по горам? Раму на плечо – и вперед?..
Мы распрощались с Симхой.
– Воблину что-то было нужно в окрестностях, за чем-то он следил здесь, в этих деревнях, – рассуждал я вслух. – Однажды он стал свидетелем издевательств над женщинами, подсмотрел, как их пытались линчевать. Сломя голову мчался вниз по каменюкам. Вызвал полицию. Женщин удалось в первый раз спасти. Но никто не гарантировал, что это удастся сделать в будущем. Полицейские отказались помогать, сказали – не наше дело. Пусть они тут хоть на кусочки друг дружку порежут. Тогда VVoblin решил действовать самостоятельно…
Керри слушал довольно равнодушно.
Собака – животное нечистое, и потому в арабских деревнях тихо, пусто, слышно только, как за забором ссорятся козы, стучат рогами, топочут, блеют. Шуршат соломой. Только у одного дома в Халсе мы заметили машину, старенький пикап ISUZU; я списал его номер.
И на улицах днем не встретишь никого. Глухие заборы, окна узкие, все обращены во двор. Я постучался в ворота кулаком. Подождал. Подобрал камень – постучал им. Наконец калитка приоткрылась. Старуха с бельмом на глазу смотрела мимо нас. По-английски не понимала.
Мы нашли тропу и стали подниматься над деревней. Если Воблин за чем-то следил, ему нужно было оставаться незамеченным. Вооруженный биноклем, он должен был занимать господствующую высоту, чтобы наблюдать за происходящим во дворе. Керри огляделся окрест.
Мы нашли площадку под смоковницей, которая роняла ягоды в зеркало небольшого источника, к которому мы тут же припали. Керри вскоре встал с колен и отошел в сторону, потом исчез. Я отлеживался в тени и отпивался.
– Как думаешь, на какое расстояние в этой гористой местности двое здоровых мужчин способны протащить тело еще одного человека? – спросил Керри, когда вернулся.
Я встал и отправился за Керри.
Земля была чуть притоптана, похоже на приметы свежей могилы. Керри работал десантным ножом, я руками. Появился запыленный лоб, нос… И вот я снимаю с себя майку и обмахиваю голову человека. Она вся в сухой земле, будто обсыпана пудрой. Строгий профиль. Упертый подбородок.
– Макбенах, – сказал Керри.
Я перестаю махать майкой, меня тошнит.
Керри остается у тела, я долго, бесконечно долго сбегаю вниз на дорогу, кидаюсь под колеса какой-то легковушки, и скоро полицейские вместе со мной подъезжают к Керри, который сидит под деревом с откупоренной фляжкой и, прихлебывая, смотрит перед собой бессонными глазами. Полицейские – два парня: один поджарый, почти черный, рубашка форменная натянута трапецией на костяк, другой почти без шеи, сбитый – подходят к яме, зажимают носы ладонями, пятятся, хватаясь за рации. Прибывают криминалисты, и я смотрю, как женщина в маске саперной лопаткой обрамляет в земле и обметывает кисточкой еще одно, тоже мучное, почти детское лицо. Посмертная маска Есенина – вот на что похоже лицо откопанной молодой женщины. Тела лежат в яме валетом. Тело мужчины облачено в подобие рясы, бывшей когда-то лиловой.
Свидетельские показания Симхи Сгора, которые он дал в полиции на следующий день, ничем не помогли. Личность человека в рясе до сих пор не установлена. Владимир Зорин нашелся в больнице Хадаса, где пребывал неделю без сознания после инсульта, случившегося с ним в супермаркете, когда он стоял в очереди в кассу. Ничего о Воблине полицейским он не сообщил.
Глава восьмая
ДОМОЙ!
1
Уже сойдя в седло глиссады, командир воздушного судна объявил пробку над «Домодедово», завыл привод закрылок, крыло пошло вверх, иллюминатор хлебнул синевы и снова ослеп, понеслись клочья облаков, самолет то дрожал, впиваясь крылом в кучевую плоть, то затихал, освобождаясь от нее; в полыньях-разрывах поплыл, вырезался по контуру ожидания квадрат полей, расчесанный бороздами (качнуло крылом, фрачный грач в лиловом глянце оперенья, червь кучерявится в клюве), кляксы рощ, лесов, стрелы и ленты дорог, бетонные крошки и плошки построек, долгий шрам ЛЭП, просеченный по скуле поля, по щетине леса. Земля нарастала, рельеф мгновенно стал соизмерим высоте полета, именно в этот момент возникает сознание падения, – и посадочный коридор, уставленный глазастыми щупальцами навигационных вышек, принял в себя грузный нависающий пласт скольжения «Боинга», который, пошевеливая закрылками, боролся с рваным боковым ветром, выравнивая ось.
Я миновал паспортный контроль и, хоть и не было у меня багажа – только ручная кладь, завис над каруселью выдачи. Пустые ячейки веером раскладывались, выпрямлялись, входили снова веером в вираж. Первые чемоданы, сумки, стукнувшиеся на ленту, были мокрыми, затем разобрали и сухие, остался один черный кожаный блестящий от капель кофр. Затем стукнулись баулы, рюкзаки со второй тележки, все вымоченные напрочь, потемневшие; разобрали и их, карусель опустела совсем, а я все стоял и видел, как неслась резиновая ячеистая дорожка… Одна-единственная мысль грызла мою голову…
Через полтора часа, нанизав глазной хрусталик на ленты стопарей, встречных фар, кляксы неона, лягушачью икру горящих окон, фонарей, гирлянд, витрин, светящихся кнопок домофона, чей код никак не вспоминался, – я застыл перед дверью с ключом в руках, не решаясь войти. Брелок позвякивал, святая корова неожиданности вышла из-за угла и уставилась на меня влажными глазами.
Я еще раз заглянул в письмо Керри.
«Скорее всего, аэродром в Насосном. Больше негде…» – пробормотал я и очнулся от собственного голоса.
Собраться – хватило часа. Ехать решил поездом, в плацкарте. Нет лучше способа произвести разведку: как изменились люди, какое время вокруг?
2
Поезд всегда отправлялся с Курского. Теперь он отчалил с Павелецкого, а прежде в рассветных осенних сумерках пустил в себя толпу, хлынувшую после подачи поезда по перрону. В начале его широколицые линейные милиционеры, расставив ноги, обозревали согбенных под ношами пассажиров, выискивали особенно затравленные лица, подзывали к себе для отчета по регистрации тех и этих, стопили парней с тележками, груженными горами баулов, башнями покрышек.
Поезд, полный людей, полный жизни: заботы, радости или унылости возвращения, полный усталости, надежд или бесчувственного ожидания; полный апатии, сна, еды, отправления надобностей, бесконечных походов покурить; полный ртов, золотых зубов, полный рук, плеч, животов, ног, идущих, качающихся, выставленных, свисающих в проходы; полный звуков: стуков – защелок, чемоданов, дверей, сумок, колес; шарканья – тапочек, сандалий, багажа, сидений; дребезга – стекол, ложечек в посуде, подвесных снастей; полный плещущегося кипятка – носимого в толкотне, штормящем проходе; скрипа – перегородок, обшивки, тормозов; полный запахов – острых, удушающих, вызывающих голод или отвращение, тошноту, с которой вынужден мириться, – спрессовывающихся в один креозотный запах выбегающих из-под последнего вагона шпал. За всем этим колесным царством летаргически, вполглаза присматривает высшая раса: исполненные смертного презрения проводники, заискивающие лишь перед пограничниками, неравнодушные только к своим коллегам и торгашам, которые встречают их на тех или иных станциях с целью взаимовыгодной сделки.
Перед Саратовом все проводники оживают и попарно выпячивают пуза в распахнутые двери: встреча прямого и обратного поездов оглашается возгласами приветствий, смехом, шутками, выкрикиванием в рупор ладоней сообщений и просьб, перебрасыванием фруктов и сигарет на ходу. Становится ясно, что оба поезда населены общей челночной командой, бригадой, бандой, комплектация которой со временем перетасовывается, – вот отчего все знают друг друга на этих двух единственных составах, которые обмениваются номерами и нумерацией при развороте.
3
Утром на рассвете – при ясном небе все жухлое ниточно-кружевное пространство – поля, кусты, деревья, трава – засверкало густым инеем: опрятность белизны уничтожила унылость распутицы, умиранья. Мертвый в гробу всегда нарядный.
Но скоро оттаяло, небо настигли низкие облака, погнавшие по земле чересполосицу теней и света, и к полудню поезд тянулся сквозь снова почерневшие поля, кое-где блестевшие лужами.
На Грязях, над перроном поезд сходится со встречным из Душанбе. Зоркие проводники на подножках, плечом и подбородком наружу, взгляды их скользят поверх вокзальной суеты. В их азиатском прищуре совмещается хищность и безучастность. Запыленные, обветшавшие вагоны, непроглядные, повыбитые окна, рамы заклеены скотчем. Истерзанные одной общей бедой – многодневной дорогой, пассажиры встречаются глазами и тут же потупляют взгляды.
Пассажиры спускаются, спрыгивают, высовываются из вагонов. Осовелая Азия – дымящая перекуром, затянутая дымом, как поле боя, подавленная угрозой неизвестности, столичных казней, величием мифической Москвы, оплота разлуки и рабского труда, – атакуется разносчицами. Носят пиво, вечную картошку с укропом, соленый огурчик в придачу. Картошка уже не дымится, как в детстве из-под крышки укутанной в одеяло кастрюли, а подается в склизких пакетиках, уже не рассыпчатая, а сырое крахмальное облако с сизым пролежнем.
И среди всего этого сумрака усталости, жалости, утомительного разношерстия характеров вдруг тоненький голос выкликает: «Цветы, цветы!» Толпа расступается перед сухонькой, спешащей вдоль поезда старушкой, она не смотрит по сторонам, не предлагает – несет, как знамя, – завернутые в газету астры, выстоявшие до середины октября, мощный махровый букет солнца: «Цветы, цветы!»
В Саратове я загулялся по вокзалу, вскочил на ходу и попал в хвостовой вагон, необъяснимо полный полуголых подростков со страшными шрамами после операций, санитарный, что ли, поезд?! Никак не мог понять – откуда они все? Скопом едут в какой-нибудь северокавказский санаторий? Шрамами подростки красовались как единственным имуществом, как татуировкой – выставляли напоказ. Запомнил пупок, разрезанный и сросшийся неправильно, перекошенно, будто новая жизнь привалила белобрысому долговязому подростку, всматривающемуся в диспозицию магнитных шахмат на ладони.
Миновали Астрахань, щедрость степного простора, теплый ветер. В обнимку с копченым сазаном (распластанные слитки прозрачного мяса и жира, строй ребер, позвоночника) заполняю таможенную декларацию. В окне тянется прорва волжской воды, тихо, грозно идущая река. В Сталинградскую битву раненых грузили на плоты и пускали вниз по течению, так выводя из-под бомбежки, в надежде, что кто-то их подберет. К ночи наступала тишина, солдат не замечал, отчего так тихо – то ли от смерти, то ли далеко отплыл от боя, – а на рассвете плот тихо входил в лабиринт дельты, просыпались птицы, и над остановившимися зрачками солдата всходило нежное солнце. В его взоре беззвучно стояло то, что светилу открывалось постепенно выше по течению: месиво из железа, земли и человеческой плоти.
В Кизил-Юрте ошалевшие и одновременно сурово сосредоточенные дагестанские менты ходят по перрону, держа палец на курке «калаша». Быстрым шагом, срываясь на бег, заглядывают под днище вагона, вспрыгивают на подножку, расталкивают всех на пути, здоровенные лоси, грубят, как деды новобранцам.
Я курю, и в голове вдруг возникает стишок: «Ну-с, урус, снимай-ка свой бурнус!»
В детстве в Баку поездом было два пути: через Гудермес или через Грозный.
В Грозном отец никогда не разрешал выходить на платформу, без объяснений. Грозный был единственной станцией на протяжении двух с половиной тысяч километров, которая облагалась таким налогом. Так он и остался у меня в памяти этот город: неизъяснимо грозным.
А в Дербенте было уже можно, и я вышагивал по платформе, взбудораженный морем, только что на подъезде появившимся в окне. Вверху на ослепленных солнцем отрогах Малого Кавказского хребта виднелись руины оборонительных сооружений – часть стены с башнями, некогда доходившей до самого моря. В этих естественных «фермопилах», в самом узком месте между горами и морем, Сасаниды веками успешно держали оборону от хазар.
Широкогрудые псы с обрезанными ушами заглядывали в лица пассажиров.
Через четверть века пасмурным октябрьским утром я стоял там же, под теми же руинами, и видел, как ополоумевшие от страха милиционеры мотаются вдоль состава с автоматами наизготовку, рыскают, по десять раз заглядывают под колеса, в тамбура.
Ветер выл в проводах и гнал летучий мусор: клочки, обрывки, тучи пыли; полиэтиленовые пакеты парусили пузырями, дорываясь до высоты птичьего полета.
4
Вагонная теснота: безобразие и достоинство всего человеческого, обостренность стыда и терпимость, взаимность, соприкосновение плеч, ноги в проходах, пригнуться, изнеможение. Свежесть остановок – праздник мышц, костей, ноздрей и легких. В каждом сгустке тесноты своя жизнь – концентрация телесности и человеческого вещества, словно на бойне, в очереди. Идешь по вагону, все бьет в глаза и нос, иные миры, полные человечины.
Наши соседи – военное отделение: два бойца. Бойкого коренастого мужика лет сорока пяти, в спортивных штанах и пуловере, зовут Камал. Судя по всему, в Москве он таксарил, но не говорит прямо, однако почти все азербайджанцы на чужбине или бомбят, или торгуют. Камал не торговал. Он считает, что Бог создал народы для того, чтобы все стали мусульманами. Вот он смотрит на часы, спохватывается, сгоняет меня с полки, забирается на нее с ногами и, забормотав что-то, целует себе руку, кланяется, сотворяет намаз. Солнце в окошке дрожит и покачивается над горизонтом. Весь вагон молится на нижних полках, обратясь на солнце, ползущее в многооком хребте поезда, и я чувствую себя «зайцем».
Этот Камал на поверку глубоко несчастен: два года не был дома, теперь едет отдыхать, говорит, вообще ничего целый год не будет делать, а только спать, спать, спать. Вдруг спохватывается, когда достаю китайскую вермишель: «Ай, забыл детям купить, конфеты купил, вермишель забыл. Дети у меня так любят ее, так любят, они вермишель в рот с одного конца берут и вот так делают, хлюпают, знаешь, да?»
Камал мужик сметливый, пять лет военного училища накануне развала. Когда говорит, что будет два года отдыхать – означает, что станет ходить в медресе, учиться: всем ученикам выплачивают стипендию, большие деньги для Шемахи. Зачем-то стал ругать азиатов, аргумент: «Во Вьетнаме совсем нет ислама. В Китае есть, а во Вьетнаме нету. Скажи, зачем нужна такая страна?.. Жалко, американцы ее до конца не сожгли». Все время возится со своим мобильным телефоном, читает новости. Вдруг выкрикивает: «Слушай, слушайте, люди! Говорит Москва, сообщает ТАСС: „В Иране раскрыта подготовка покушения на президента России. Выявлены две группы смертников. Визит президента России в Тегеран отложен“. Ну, что будет, а? Нас теперь через границу не пустят! О, я посмотрю, посмотрю на этих дагестанцев, они там и так звери, а тут президента охранять кинутся!.. Вот увидишь, они так говорить будут: „Эй, эй, Камал, ты зачем едешь? Ты не домой едешь, ты шпион, дай денег!“ Вот увидишь – звери!»
Второй боец – Мирза-ага: сухонький, невысокий старик, любитель «белого чая», который стыдливо под столиком наливает из бутылки в армуд, запивает пивом, семьдесят два года, но еще крепкий. Разломил портмоне, показал фотографию сына, совсем юного паренька: «Это от новой супруги сыночек. А от другой жены младший в 1993-м погиб под Агдамом», – говорит Мирза-ага, и глаза его укрупняются от влажного блеска. Старик, обращаясь ко мне, называет меня «мальчик», говорит, что Советский Союз был раем: «В моем селе под Гянджой во время Великой Отечественной пропали без вести 162 человека, я пацаном был, помню горе. В Сталинграде погибли полтора миллиона солдат, рядовой в среднем имел жизни – три-четыре минуты, лейтенант – пятнадцать минут. Больше половины из погибших в Сталинграде советских солдат – из Закавказского военного округа, все братья. А что сейчас? Что – забыли?! Похоронка в село приходит – бабы воют, и я с ними. Так я привык плакать…»
В вагоне плачет по внутренней радиотрансляции сейгях. Струнный перебор сопровождается медитативным стенанием. Туда-сюда слоняются торговцы, состав их обновляется от станции к станции, несут то стопки подарочных чайных сервизов, с макушки стянутых тугими струями целлофана, то рубашки, то пуловеры, рукавицы, шарфы, журналы, детские игрушки; все это щупается, перелистывается, и я вспоминаю глухонемых ловкачей из детства, с пляшущими лицами, со слышным вывертом челюстного сустава, со слюнным хлюпаньем языка во влажном или – шелестом в пересохшем – рту. Это была секта кустарей – продавцов отретушированных, грубо подкрашенных анилиновыми красками трафаретных карточек со всякой неподцензурной всячиной; глянцевые эти сокровища раскладывались по диванным полям каждого купе, и, выждав, мнимые глухонемые собирали распотрошенные или нетронутые пачки с карточками Высоцкого, Ланового, Тихонова, Северного, с календарями пляжных азиаток, с не то астрологическими, не то знахарскими памятками, исполненными чертежным почерком, – и с еще каким-то бредом, чаровавшим магией печатного знака.
Соседи напротив, на боковых полках – семья. Отец за полсуток не произнес ни слова. Мать – ширококостная, красивая, здоровая, голос тихий, хрипловатый и твердый. Обращается она в основном к сыну – мальчику лет тринадцати, уже измученному путешествием, малоподвижностью, отсутствием развлечений. Время от времени он кладет матери голову на колени. Старик в белой курточке, ресторанный разносчик, целый день маячит по составу с подносом в руках, полным пирожками: «Пирожки с картошкой, капустой, свежие, горячие». Мальчик озлобленно подшучивает над стариком, мол, одни и те же пирожки с самого утра, они не могут быть свежими.
Мирный старик вдруг взрывается негодованием, долго яростно отчитывает мальчика. Тот молчит и смотрит волчонком. Мать тоже молчит. Страстная неподвижность в ее лице исполнена достоинства и уважения к старшим. Возвращается отец, не зная, с чего все началось, тоже сурово молчит.
В Волгограде долгая стоянка, снова путейцы меняют локомотив, помощник машиниста соскакивает, расписывается в ведомости разводящего в оранжевой жилетке, рвет клапан на пробу. Шланг пневмотормозов взрывается, хлещет, и тогда он сцепливает его с вагонным отростком, защелкивает сустав, проверяет еще, трижды стравливая и нагнетая давление, задирает голову вверх, сверяясь с машинистом, и забирается обратно в кабину. Теперь оба, собрав пожитки, отщелкнув несколько тумблеров и вложив в ножны главный рубильник, уходят во фронтальную кабину: снова состав сменил хвост на голову, и мне на полке вновь придется при рывках балансировать в иную – теперь по ходу – сторону.
Средняя скорость движения пассажирского поезда – сорок пять километров в час, тридцать семь дней вокруг экватора, если не помешают шторма: так что планета крохотная и обозрима вполне с верхней полки.
Как бы мне уже дотянуться до того края земли, как все-таки туго проходится пространство, сколь трудна надрельсовая теснина… Перроны пусты, чуть в стороне над ними высится соборный ампир вокзала, чья торжественность смягчена еще не остывшими от заката сумерками, весь город – отстроенный после войны заново – по сути, есть памятник Победы.
С платформы спрыгивает женщина, снимает сумку и одного за другим троих детей – вижу еще, что у груди в рюкзаке младенец. Держась за руки, веером перешагивают через рельсы. Они направляются к нашему вагону, проводники и пассажиры, встретив их как родственники, загружают мать с детьми в тамбур. Следующие сутки я дивлюсь на это семейство: тихие, спокойные две девочки и мальчик, ужасно похожие друг на друга и на мать – такие же востроносые и лопоухие, – действуют слаженно, послушно, во время кормежки грудничка держат натянутой простыню, закрывая пространство боковой полки, пекутся о матери.
В проходе появляется спортивного вида парень, предлагает сканворды; лицо его, нервное, тонкое, сковано сложной гримасой торговой услужливости и небрежения к населению вагона.
Соскучившийся Камал оживляется при виде пачки сканвордов, свисающей полотенцем у парня с руки, тот всучивает ему прейскурант. Камал рычит:
– Что ты мне даешь? Я не русский, читать не умею, дай сам поинтересней!
– Я и так вижу, что вы не русский. Но перед Богом все равны.
– То, что я не русский, только я говорить могу, – вскинулся Камал и добавил: – Если Бога боишься – никого не боишься.
– Бог есть Троица, – упрямо бормочет парень и протягивает листки сканворда. – Десять рублей каждый. А майку купить не желаете?
– Покажи майку, – говорит Камал примирительно. Парень вынимает из пакета скомканную черную майку, осторожно расправляет. На груди, смещенная чуть влево, под сердце, надпись: «Христос умер за нас. Рим. 5:8».
– «Рим – пять-восемь» – это что? Счет футбольный? – прищурившись спрашивает Камал.
Парень сжал челюсти, губы его шевелятся, в потупленных глазах кротость борется с ненавистью.
– Эй, слушай, а материал какой? – вдруг спросил кто-то в проходе.
– Самый обыкновенный, хлопок, полистирола десять процентов, чтобы не мялась, – с облегчением переключается парень и, толкаясь с теснотой, продвигается дальше.
Я вышел к туалету, сдернул вниз окно, высунулся покурить, продышаться. Луна неподвижно влеклась за поездом, тянулись поля, перелески, набегала темень, скопленная в овраге, и стук колес, взбежавших на мост через блеснувшую речушку, звучал короткой, глухой, значительной поступью. И снова открывались, перелистывались поля, отдельные деревья на них, стоявшие на краю ложбины или на пригорке или плывшие – зорко, гордо – среди простора, облитые ртутью луны, стояли как стихотворения. Тысячи километров перелистывается сумеречная книга простора. Юг разворачивается страницами полей, на каждой – слова, буквы, многоточия домишек, поселков, междометия убогих станций, одиночные вздохи зажженных окон, стальная линовка разъездов, узловых. Луна читает ландшафт, наконец освободившись от дебрей лесов, болот, стремится к равнинному степному разбегу. Начался вороной чернозем, вспаханный построчно, вот и я вчитываюсь в него, задыхаясь от тоски и жути.
5
На подъезде дух перехватило, когда потянулись окраинные трущобы – проволочные ограды, сараюшки, сложенные из кубика-песчаника, с плоскими крышами, шифер на которых прижат тем же кубиком. На пустырях каждая верблюжья колючка держит трепещущий флюгер – полиэтиленовый пакет. Пакеты эти везде – накопления новейших времен, составляющая осадочных отложений. Вот он, символ холостых достижений цивилизаций, постигших третий мир: полиэтиленовый пакет, главный мусор пустыни.
Долгие, многолинейные разъезды перед Баладжарами, настоящее железнодорожное государство, Каспийские ворота Кавказа. На подъездных разъездах женщины в оранжевых путейных жилетках макают веники в ведра с нефтью, смазывают рычажной механизм стрелок, сами втулки, льют в крылья направляющих. Как давно я не видел живой нефти! Год, больше? Каменный ее запах ударил мне в темя…
Я выхожу в город залпом. Мыс Баилов развертывается на высотах: ободранные ветром крыши домиков, зеницы окон, в глубине полные пыльного света, смотрят на морскую ширь, на дорогу, петляющую по нижним ярусам к началу ажурных нефтяных полей. Дома с тесными многонаселенными дворами, жужжание качалок, которые повсеместны – во дворах, на пустырях: здесь нефти почти и нету, но все равно тоненькая струйка с водой пополам наполняет за месяц ржавую молочную, переставленную с шасси на кирпичный постамент цистерну. Отстоянная нефть продается ведрами. Кругом песок и ноздреватые развалы ракушечника, заборы, дома из камня, похожего на поверхность луны.
На Баилове знамениты тупиковые в оба конца улицы и сквозные парадные, с зияющим черным ходом, в котором среди конуса мрака стоит узкий прямоугольник неба и моря. На пороге примостилась к косяку фигура женщины со спитым лицом, она только что прошла через подъезд, всхлипывая о чем-то, утираясь платком.
– Хорошо, хорошо, все сделаем, Ахмед, все сделаем, как скажешь, договорились, – говорит она полному дворнику.








