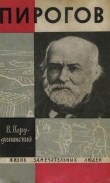Текст книги "Новиков"
Автор книги: Александр Западов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
4
В декабре 1759 года директор университета Иван Иванович Мелиссино – Аргамаков умер, пробыв лишь два года в своей должности, – отправился в Петербург. С собою он взял десять учеников гимназии, чтобы представить их куратору Шувалову и похвастаться плодами университетского просвещения.
Среди избранных были братья Денис и Павел Фонвизины. Они пробыли в столице несколько недель. Возвратившись в Москву, Денис Фонвизин с увлечением рассказывал приятелям о виденных им чудесах, о настоящем театре и об актерах, с которыми он свел знакомство.
– И вот директор повел нас к Шувалову, – говорил Фонвизин. – Вельможа принял всех весьма милостиво, а меня оглядел особо и подвел за руку к человеку, в котором угадал я кого, как вы думаете?
– Графа Разумовского, – ответило несколько голосов.
Фонвизин засмеялся.
– Видно, что вы далеко от столицы живете и по-деревенски судите. Разумовский никогда к Шувалову не поедет, ведь они…
Фонвизин оглянулся и приложил к губам палец.
– Словом, не угадали, и больше пытать не буду. Меня представили Ломоносову.
– Ты видел самого Ломоносова! – воскликнул Новиков.
– Как вижу тебя. А что ж тут диковинного? – Фонвизин прикрыл свою гордость небрежным тоном. – Он спросил меня, чему я учился. «Латыни», – ответил я. Тут начал он говорить о пользе латинского языка с превеликим красноречием.
– Латинский язык, спорить нечего, нужен, – сказал Новиков, – но и русскому не худо бы нам учиться побольше. Стыдно не знать отечественного наречия.
– В Петербурге, – возразил Фонвизин, – говорят по-французски, вернее, стараются говорить. Мы были с директором во дворце. Везде сияющее золото, огромная музыка, люди в голубых и красных лентах – первые чины империи. А в разговоре все с русского на французский перескакивают.
– Я бы, кажется, вовек из дворца не ушел, – мечтательно сказал Василий Рубан. Он был беден, учился в разночинской гимназии на своем коште с превеликим усердием, а в свободное время пробовал сочинять стихи.
– Французский-то язык и у нас, на Москве, в ходу, – заметил Новиков. – Плохо то, что рядом с ним и русский коверкают. Щеголи и модницы говорят на своем языке, чему не у Ломоносова учивались. Намедни слышал я разговор. Жаловалась госпожа на мужа – любит он ее, а это, мол, неприлично… «Муж, – говорит, – расстроен от жены, это-де, радость, гадко. Как привяжется он ко мне со своими декларасьонами да клятвами в любви, я сперва прошу его отцепиться, а после резонирую, что стыдно и глупо мужу быть влюбленным в свою жену. Он не верит, и мне одно средство – упасть в обморок». В модном языке есть и русские слова, да в каком-то другом значении. Маханье, например, – что такое?
– Ну, это просто, – ответил Павел Фонвизин. – Махать за кем – ухаживать, строить куры.
– Какие еще куры? – спросил Рубан.
– Это слово из женского щегольского наречия, – пояснил Павел Фонвизин. – По-французски faire la coure – то есть влюбляться, ухаживать. Теперь все чаще так говорят, скоро мы к такой речи привыкнем.
– И сами так изъясняться будем? – спросил Новиков. – Уволь, братец, от столь мрачных предвещаний. Русский язык надобно нам беречь и правильные его образцы распространять печатно, чтобы читатели их запоминали и от писателей доброму бы научались.
– Какие у нас писатели? – с горечью сказал Рубан. – Кто может на рифмах связать «байка, лайка, фуфайка», тот уже печатает оды, трагедии, которые полезно читать лишь тому, на кого рвотное лекарство не действует.
– Ты, наверное, про свои стихи говоришь? – спросил Павел Фонвизин.
– Не задирайся, Павел, – остановил брата Денис Фонвизин. – И ты, Василий, не горячись, шутка – не обида. Лучше послушайте, какую вам скажу новость. Директор наш говорил Шувалову, будто Московский университет начинает выпускать свой журнал.
– Об этом и здесь молва идет, – сказал Новиков. – Пример Александра Петровича Сумарокова и журнала его «Трудолюбивая пчела» ободряет наших начальников, особливо асессора Хераскова, – ведь он и сам пишет немало.
– Херасков – господин весьма скучный, – сказал Фонвизин. – Таким будет и журнал его. А мне подавай остроты и соли!
– Тогда читай Сумарокова, – посоветовал Новиков и наставительно прибавил: – Каждый писатель должен иметь два предмета: первый – научать и быть полезным, и второй – увеселять и быть приятным. Но тот писатель будет превосходнее, который сумеет оба эти предмета совокупить во единый.
– И это все, что ты видел в столице? – спросил Фонвизина Рубан.
– Вы мне сказать не даете главного! Ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр. Ведь я увидел его в первый раз! Играли русскую комедию «Генрих и Пернилла». Актер Шуйский так своими шутками смешил, что я хохотал до упаду. Комедианты были вхожи в дом дядюшки моего. И я свел знакомство с Федором Григорьевичем Волковым, первым актером российского театра. Видел я и Ивана Афанасьевича Дмитревского на сцене, случалось говорить с ним. Вот прямо редкие люди – умные, честные, знающие!
– Что же тебя удивило? – спросил Новиков. – В каждом сословии есть умные люди. Не на одних дворянах свет клином сошелся.
– Я так и не думаю, – обиженно сказал Фонвизин.
– А я знаю об этом, – сказал Новиков, и тема разговора была исчерпана. Ученики разошлись по классам.
При университете в доме у Воскресенских ворот два немца Вевер и Школарий, содержали книжную лавку, единственную в Москве, и Новиков любил туда захаживать. На прилавках и полках там располагались книги, глобусы, математические инструменты, ландкарты. Книги были немецкие и французские – русских изданий выходило еще немного.
Вевер иногда заказывал студентам университета переводы иностранных книг и потом печатал их. Денис Фонвизин рассказывал, что перевел для него басни датского писателя Гольберга, за что получил на пятьдесят рублей книг, и звал посмотреть соблазнительные эстампы, уверяя, что картинки всем, кто видел, очень нравятся. Новиков смотреть эстампы не пошел, но долго толковал с Вевером, расспрашивая, где он печатает книги, хорошо ли они покупаются, какие больше приходятся на вкус публике и сколько дохода могут принести.
Он читал журналы. С января 1759 года в Петербурге стали выходить два – «Трудолюбивая пчела» и «Праздное время, в пользу употребленное». Имя Александра Петровича Сумарокова, драматурга и поэта, было известно любителям словесности. Ныне он выступил на поприще журналистики. Его «Трудолюбивая пчела» была первым журналом, который издавался частным лицом, писателем. Выходивший с 1756 года журнал «Ежемесячные сочинения» служил органом Академии наук, учреждения правительственного.
Сумароков выражал собственные мнения, не спрашивая, что кому нравится. А нравились его сатиры не всем. Он посвятил «Трудолюбивую пчелу» жене наследника престола Екатерине Алексеевне и сделал это, намереваясь показать, что от будущих русских монархов ожидает внимания к просвещению и искусству, чего не видели они со стороны Елизаветы Петровны и ее двора.
Человек резкий, прямой, неуживчивый, но предельно честный, Сумароков искренне заботился об успехе просвещения, больше всего любил театр и литературу. Он полагал, что общество в целом-то устроено правильно: крестьяне работают в поле, дворяне управляют, купцы торгуют, священники молятся – каждому свое. Все сословия полезны в государстве, крестьяне – также дети отечества.
Крепостное право необходимо, думал Сумароков, иначе кто же будет кормить дворян? Освобождать мужиков нельзя – они не знают, что делать со своей свободой, это люди совсем неразумные. Образованные дворяне должны ими руководить. Но крепостной не раб, а человек Во всем, как живое существо, он подобен своему господину. Система выходила сложная, но Сумароков не мог понять и устранить ее противоречий. Он писал о Мечтательной стране, где люди не ведают ни благородства, ни подлородства и крестьянский сын столько же имеет права, сколько сын первого вельможи. Тамошний государь преследует беззакония и отлично умеет выбирать себе помощников. В его совете собраны самые достойные люди.
Новиков очень уважал Сумарокова как писателя и внимательно читал статьи «Трудолюбивой пчелы».
Когда Новиков учился в дворянской гимназии, университетской типографией, библиотекой и пожарным обозом заведовал асессор Михаил Матвеевич Херасков, поэт и драматург. Херасков окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус в Петербурге, где раньше получил образование Сумароков, недолго побыл в армии, а как открылся Московский университет, перешел туда и с некоторым перерывом прослужил в университете более сорока лет.
Херасков искал средств усовершенствовать человеческую натуру, проповедовал добродетель и был настойчив в попытках направить окружающих на путь справедливости и добра. По всему выходит, что Херасков уже в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов сделался масоном. Он, вероятно, вступил в орден еще в Петербурге и теперь искал в Москве себе единомышленников. Университетская молодежь ценила его литературное дарование и уважала в нем бескорыстную любовь к наукам и просвещению.
Из бесед и споров в московском доме Хераскова – он принадлежал к богатой и знатной семье, мать его, оставшись вдовой, вышла замуж за князя Никиту Трубецкого, Юрий и Николай Трубецкие были его братьями – возникла идея литературного журнала. Херасков взял на себя обязанности редактора и с 1760 года наладил издание журнала в университетской типографии.
Журнал был назван «Полезное увеселение» и выходил ежемесячно. На его страницах печатались молодые авторы из кружка Хераскова – братья Нарышкины, Алексей и Семен, братья Денис и Павел Фонвизины, Ипполит Богданович, Алексей Ржевский, Сергей Домашнев и другие. Сам издатель помещал в журнале стихи, статьи и для каждой книжки строго выбирал материалы в нравственном духе.
Участники «Полезного увеселения» не выработали какой-то политической программы да и не предполагали, что она может быть необходима. Но их умонастроение и редакторский отбор Хераскова сказывались на содержании нового журнала.
Журнал был против тиранства и деспотизма, против волчьей жадности вельмож, тесной толпой обступивших престол Елизаветы Петровны. Членам кружка рисовалось счастливое братство независимых дворян, образованных людей с твердыми моральными принципами, верующих в бога, но не связанных выполнением церковных обрядов.
По-видимому, кружок Хераскова и морально-религиозные взгляды авторов журнала вызывали у властей подозрения. Желание познать самого себя, углубиться в духовный мир настолько противоречило поискам удовольствий, захватившим светское общество, стремлениям разбогатеть и подняться в чинах, что скромные цели университетских литераторов могли показаться даже опасными.
5
Наконец гимназическое учение принесло свои первые плоды. Окончивших курс настало время переводить в студенты университета.
В день годовщины коронации Елизаветы Петровны, 27 апреля 1759 года, ученики и преподаватели собрались к дому на Моховой и в чинном порядке, парами отправились в Казанский собор, что у Воскресенских ворот. Впереди шли нижние классы, затем средние и вышние, потом студенты, потом директор Мелиссино, асессор Херасков, профессора и магистры. Отстояли молебен, в том же строю возвратились обратно.
После обеда в Большой аудитории – публичное собрание. Присутствовали духовные особы во главе с митрополитом и множество знатных светских персон. Профессор Керстенс произнес на латинском языке мудреную речь о том, что имеющаяся в человеческой душе сила сопротивления есть причиною многих человеческих действий. Мало кто понял витиеватые рассуждения опытного оратора, но впечатление учености запомнилось. Дальше выступали студенты: Федор Пушкин – на английском, Егор Булатницкий – на итальянском, Ростислав Татищев – на немецком, Аркадий Марков – на французском, Дмитрий Аничков и Матвей Елисеев – на российском.
От имени восемнадцати учеников Яков Булгаков просил ректора Шадена о производстве их в студенты. Шаден ответил длинной латинской речью, а в заключение вручил шпаги тем из новых студентов, кто раньше не имел права на них по своей неблагородной природе, – разночинцам. Шпага составляла принадлежность парадного облачения студентов. Опять произносились благодарственные речи, ученикам раздавали книги и медали, потом был исполнен серенад сочинения университетского капельмейстера Дуни. Приглашенные были угощены ужином на сто персон, а ночью горела иллюминация изобретения философа адъюнкта Рости.
Новиков весь день провел на университетском торжестве. Награды ему не причиталось, но он радовался отличным речам приятелей – Аничкова и Булгакова, не предвидя, что собственное его учение близится к концу.
Ректор гимназии давно жаловался на пропускающих уроки учеников. Список их все увеличивался. Дисциплинарные меры не помогали.
Новиков на третий год своего пребывания во французском классе вдруг перестал посещать занятия. Вероятно, болезнь отца или матери потребовала его приезда в Авдотьино, а по юношеской небрежности он не сообщил в гимназию о вынужденном пропуске. За это и пришлось ему поплатиться.
На конференции, то есть на заседании дирекции совместно с профессорами, в январе 1760 года было решено просить директора наказать нерадивых. Пока составлялись списки, прошло три месяца, и 28 апреля в приложениях к «Московским ведомостям» были напечатаны фамилии исключенных.
Среди них под номером двадцать вторым значился Николай Новиков. Рубрика гласила: «За леность и нехождение в классы». Однако в протоколе конференции, состоявшейся 3 июня 1760 года и подтвердившей распоряжение директора, было сказано яснее. В этом списке первым назван Андрей Рахманов – он «за отлучку, о которой никого не предупредил, исключен, и его имя пропечатано в газете». О Новикове же сказано: «idem», по-латыни «то же самое», исключен за отлучку, о которой не предупредил. Легенда о лености напрасно порочила память писателя: вовсе не она была причиной того, что Новиков покинул гимназию.
Глава II
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПОЛК
Достойно села ты на троне…
В. Майков
1
У фельдмаршала Апраксина при обыске нашли письма великой княгини Екатерины Алексеевны. Вслед за этим был арестован канцлер Бестужев. Его объявили крайним злодеем. Потом взяли Елагина, Адодурова, брильянтщика Бернарди – людей, с которыми дружила Екатерина.
Кольцо вокруг великой княгини было сомкнуто. Оставалось ждать признаний арестованных, находки тайных бумаг, следствия, пыток и казней…
Бестужев мог рассказать о плане, с которым он не раз подходил к Екатерине, чтобы царствовать ей вместе с мужем после смерти Елизаветы Петровны. Себе канцлер брал председательство в трех коллегиях: иностранной, военной, адмиралтейской, и чин подполковника в четырех гвардейских полках. При таком порядке царствующим супругам оставалось бы власти всего ничего. Екатерина поняла политикана, но не отвергла его предложений, потихоньку с ним торговалась. Проекты были не словесные, а на письме. Ну как отыщутся! Страх!
Было и сердечное горе – имя любовника Екатерины поляка Станислава Понятовского, служившего в свите английского посла Вильямса, наверняка попадется в бестужевских бумагах. Арестант Елагин состоял его другом. Понятовский – иностранец, пытать не посмеют, но уехать ему придется, и что тогда?..
Внешняя политика России при Елизавете Петровне определялась союзом с Австрией, направленным против турок. Швеция после военного разгрома в Северной войне не внушала тревоги. Врагом показала себя Франция, однако Россия с ней общих границ не имела.
Наибольшую опасность для России несла сильно возвысившаяся Пруссия Фридриха II. Войска прусского короля захватывали приграничные области своих европейских соседей. Австрия и Франция объединились для войны с Пруссией, и Россия примкнула к их союзу. В августе 1756 года, после того как прусская армия заняла Саксонию, союзники выступили против Фридриха. Через год русская армия под командованием фельдмаршала Апраксина двинулась на Кенигсберг и разбила пруссаков у деревни Гросс-Егерсдорф.
Война эта, получившая название Семилетней, оказалась затяжной и трудной для России. Елизавета Петровна хворала, дни ее, казалось, были сочтены. Престол переходил к наследнику Петру Федоровичу. Тот, кто выигрывал сражения у Фридриха, мог сильно потерять в глазах его поклонника, будущего русского императора, и такой беды никто на себя накликать не хотел.
Старый придворный полководец фельдмаршал Апраксин именно так понимал обстановку. После победы над пруссаками при Гросс-Егерсдорфе не повел он армию преследовать противника, остался на месте, а затем и отступил поближе к русским границам, ссылаясь на недостаток продовольствия и фуража. Военный совет подтвердил решение командующего – и случай покончить с Фридрихом был упущен.
В Петербурге поведение Апраксина сочли подозрительным и приняли меры: фельдмаршал был арестован, и заменил его генерал Фермор.
На балу в тот день, как схватили Бестужева, Екатерина смело подошла к членам следственной комиссии князю Трубецкому, фельдмаршалу Бутурлину и спрашивала их, в чем обвиняется канцлер. Оба ответили, что им приказано было арестовать Бестужева, а теперь другие люди будут искать причины ареста и найдут их.
Екатерина провела мучительную ночь. Но Бестужев – старая лиса! – оказался проворнее своих сторожей и прислал верного человека известить Екатерину, что он успел сжечь все экземпляры проекта о престолонаследии. Подозрения неизбежны, однако документов не существует.
У Екатерины отлегло от сердца. На всякий случай она сожгла свои бумаги и села обдумывать положение.
На что можно было надеяться ей, немецкой принцессе, которую муж ненавидит, императрица осуждает за тайное участие в политике, следственная комиссия будет обвинять в секретной переписке с фельдмаршалом Апраксиным, с канцлером Бестужевым, наконец, с прусским королем, ведущим войну против России? Неужели впереди позор, гибель друзей, изгнание?.. Но куда? В Пруссию?!
Дойдя в своих соображениях до этого пункта, Екатерина подняла голову. Ей представился отчаянный ход, которого никак не могли ждать ее противники. В европейских государствах не бывало еще случая высылки жены наследника престола по недоказанным – и недоказуемым, Екатерина была в этом уверена! – обвинениям. Конечно же, Елизавета Петровна не пойдет на международный скандал. А если так, то нужно действовать и держаться храбрее. Не зря Бестужев в последней записке советовал ей поступать с твердостью.
Надо рискнуть…
Екатерина взяла бумагу, перо и сочинила письмо императрице. Характер своего адресата она знала.
…Государыня милостива к ней, но, видно, Екатерина ласки не заслужила и одарена не по заслугам – великий князь ее не любит, императрица гневается. Заставляют безотлучно сидеть в комнате, самые невинные развлечения запрещены. Детей своих не видит, хотя и живет с ними под одной крышей. Здоровьем совсем ослабла, конца опале не предвидится – не лучше ль отпустить ее, великую княгиню, домой, в Германию? А дети… Что же, императрица заботится о них, да и впредь своим попечением не оставит.
Екатерина писала это, зная, что ехать ей некуда. Отец давно умер, мать с любовником жила в Париже, одалживая деньги у кого придется в ожидании, что дочь заплатит русским рублем. В герцогстве Ангальт-Цербстском стояли войска прусского короля, и брат Екатерины, бывший владетельный герцог, бежал в Гамбург.
Императрица прочитала письмо, но проходили дни, затем недели – ответа не было.
Екатерина сделала новый ход.
Она сказалась больной, твердила, что умирает, и послала за священником государыни, исповедаться и причаститься, уверенная, что Елизавете сейчас же о том доложат.
Исповедь длилась долго. Священник покинул больную, убежденный в ее невиновности, и пошел с докладом. Императрица согласилась принять невестку на следующую ночь.
Накануне, апрельским вечером, Екатерина встала с постели, оделась, тронула пудрой бледное лицо. Она собралась очень рано – минуты текли, а за ней никто не приходил. Екатерина легла на кушетку и задремала.
В половине второго ее разбудил Александр Шувалов.
– Государыня вас ожидает, – сказал он.
Екатерина мгновенно стряхнула сон. Разговор определял судьбу – и она была к нему готова.
В дворцовом коридоре встретился Петр Федорович. Супруги, не видевшиеся много дней, молча раскланялись и пошли рядом. Екатерина знала, что муж поверил в ее болезнь и не скрывал своей радости. Он громко обещал Елизавете Воронцовой, что женится на ней после смерти Екатерины.
Шувалов привел их в туалетную. Четыре свечи отражались в зеркалах, бесконечно умножаясь числом, тускло блестела золотая умывальная посуда. Часть комнаты напротив окон была отгорожена тяжелым занавесом. Перед ним высилась императрица в парадном платье.
Занавес качнулся. Екатерина не удивилась – Иван Шувалов должен был тайно участвовать в этом свидании. Наверное, и Петр Шувалов прятался вместе с ним за складками парчовых полотнищ.
На туалете Екатерина увидела свернутые в трубку бумаги. «Письма», – сообразила она и, как было задумано раньше, с плачем бросилась на колени перед Елизаветой.
– Ваше величество, отпустите меня домой, здесь я всем не мила!
Елизавета казалась более огорченной, чем разгневанной.
– Как же мне отпустить тебя? – сказала она со слезами на глазах. – Вспомни, что у тебя есть дети!
– Дети мои у вас на руках, – с живостью ответила Екатерина, – им нигде не может быть лучше, и я надеюсь, что вы их не покинете! »
– Конечно, нет. Но что подумают при дворе и в Европе, узнав, что я тебя отпустила?
– Объявите, чем я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя.
– А чем ты будешь жить у своих родственников?
– Тем же, чем жила и прежде, когда не имела чести быть вызванной в Россию.
– Кто там у тебя остался? – спросила Елизавета. – Твоя мать в бегах, она живет в Париже и, надо сказать, мотает деньги без счету.
– Но ведь прусский король преследует мою мать за ее приверженность к интересам России и к своей дочери, – возразила, плача, Екатерина. Она поняла, что нашла верный тон и сумела парировать укол.
– Встань же, – сказала Елизавета, – а то я буду сердиться.
Екатерина повиновалась.
– Бог свидетель, как я плакала о тебе, когда ты заболела по приезде в Россию. Если бы я тебя не любила, я отпустила бы тебя в то время.
Императрица оправдывается перед ней!
Екатерина принялась благодарить государыню, уверяя, что ее доброта превосходит все на свете. Однако тут же получила острую дамскую шпильку от собеседницы.
– Ты чрезвычайно горда. Вспомни, как однажды в летнем дворце я подошла к тебе и спросила, не болит ли у тебя шея. Ты мне едва поклонилась, конечно, из гордости.
– Боже мой! Это было четыре года назад! Неужели ваше величество помнит этот случай! Чем же я могу гордиться перед вами?
– Ты воображаешь, что нет на свете человека умнее тебя, – сказала императрица и отошла к Петру Федоровичу и Александру Шувалову. Они громким шепотом начали говорить Елизавете в оба уха. Екатерина услышала фразу мужа: «Чрезвычайно зла и чересчур много о себе думает», – и громко ответила ему:
– Я рада сказать в присутствии ее величества, что действительно очень зла против тех, которые советуют вам делать несправедливости.
– Ваше величество, – залопотал Петр, – видите сами, какая она.
Елизавета знала цену своему наследнику и в записках Разумовскому именовала его «проклятый мой племянник». Подойдя к Екатерине в упор, она сказала:
– Ты мешаешься во многие дела, которые до тебя не касаются. Я не смела этого делать во времена императрицы Анны. Как ты могла посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?
Долгим кружным путем подходила Елизавета к главной теме разговора и, наконец, добралась до нее. Политическая интрига – вот в чем была соль!
Екатерина, ломая руки, клялась, что никаких приказаний она Апраксину и не думала пересылать, что ее обвиняют напрасно.
Императрица, глядя на нее, невольно вспомнила свой последний разговор с российской правительницей Анной Леопольдовной. Тогда она сама тоже все отрицала и заставила поверить себе. Неужели перед нею стоит женщина, которую нужно бояться? Счастье, что догадались арестовать Бестужева! Вдвоем они были бы очень опасны. Да в придачу к ним Апраксин – глуп, вороват, ленив, но ведь в его руках армия.
– Как ты можешь отпираться, когда твои письма лежат на моем туалете? – презрительно сказала Елизавета.
– Ах! – воскликнула Екатерина. – В самом деле, я трижды писала Апраксину, зная, что мне вообще запрещено посылать письма кому бы то ни было. Но ведь это были обычные поздравления, и лишь в одном письме я просила фельдмаршала аккуратно выполнять ваши приказания и вовсе не давала ему своих.
– Бестужев говорит, что писем твоих было много.
– Если Бестужев говорит это, он лжет.
– Посмотрим, – сердито сказала Елизавета. Разговор возбудил в ней беспокойство. – Бестужев обличает тебя, и я велю его пытать.
Угроза не испугала Екатерину. Она видела, что императрица точными сведениями не располагает.
– Как угодно будет вашему величеству. Так или иначе я писала Апраксину только три письма и содержание их вам ведомо.
Наступила пауза. Воспользовавшись ею, Петр Федорович бросился на Екатерину со своими упреками. Он болтал вздор, не замечая хмурого взгляда императрицы, повторяя, что согласен отпустить Екатерину, но не может жить один, что ему придется снова жениться и он знает, кого ему следует взять и кто будет лучше гордячки Екатерины.
Александр Шувалов переглянулся с императрицей. Было очевидно, что Петр говорит о Елизавете Воронцовой и что он вряд ли мог выбрать более неудачную обстановку для своей болтовни. Выдвижения Воронцовых во главе с Романом Михайловичем, отцом фаворитки великого князя, Шуваловы допустить не могли и не хотели. Думая очернить Екатерину, Петр спасал ее.
Екатерина спокойно защищалась от бессвязных нападок мужа. Императрица снова убедилась, как нескладны речи ее племянника, и оценила выдержку Екатерины. Она подошла к ней и вполголоса сказала:
– У меня много еще о чем говорить с тобой, но сейчас не могу, вы еще больше рассоритесь.
– Мне крайняя нужда открыть вам мою душу и сердце, – шепотом отвечала Екатерина.
Она твердо знала, что грозу удалось отвратить, и легкой походкой вышла из комнаты вслед за мужем.