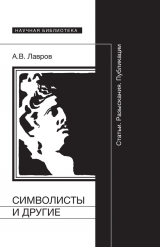
Текст книги "Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации"
Автор книги: Александр Лавров
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Валерий Брюсов и Нина Петровская: биографическая канва к переписке
Публикации эпистолярных документов с теми особенностями содержания, которые ярчайшим образом воплотились в переписке Валерия Брюсова и Нины Петровской: «пять пудов любви» (по чеховской иронической аттестации сюжета будущей «Чайки»)[343]343
Из письма к А. С. Суворину от 21 октября 1895 г. // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. М., 1978. Т. 6. С. 85.
[Закрыть] и «мильон терзаний», этой любовью порожденных, – чаще всего способны вызывать нарекания и даже решительные протесты: как можно предлагать стороннему читателю такие сугубо личные послания, тиражировать интимные признания, обращенные к одному-единственному адресату, делать то, что составляло тайну двух людей, публичным достоянием! Тех, кто берет на себя риск и труд собирать, систематизировать, печатать подобные тексты, вполне могут подвергнуть – и не раз подвергали – остракизму за беззастенчивое копание «в чужом белье», за искание дешевой популярности, за пренебрежение этическими нормами и т. д.
В нашем случае удел публикаторов отчасти, может быть, облегчается тем, что им дарована вполне убедительная индульгенция. Дело в том, что один из корреспондентов, Валерий Брюсов, считал вполне естественным и даже желанным тот факт, что его переписка с Ниной Петровской рано или поздно будет опубликована, и даже озаботился тем, чтобы сделать на этот случай соответствующие распоряжения. Сохранилось его письмо к С. А. Соколову, бывшему мужу Петровской, которое наделено статусом официального завещательного документа:
9 мая 1911 г.
Многоуважаемый Сергей Алексеевич!
Передавая Вам, с согласия Н. И. Петровской (Соколовой) на хранение Вам ее письма ко мне (после чего последует передача Вам моих писем к ней), прошу Вас соблюсти следующие условия:
1) Письма не должны быть распечатаны до смерти обоих корреспондентов, т. е. до смерти моей и Н. И. Петровской, – иначе как с обоюдного, письменного, согласия того и другого.
2) Письма не могут быть опубликованы (напечатаны), полностью или частью, раньше, как через десять лет после смерти того из нас, кто переживет другого.
3) Право опубликования этой переписки и все связанные с этим литературные права предоставляются Вам, С. А. Соколову, под условием, что письма будут распечатаны в присутствии особой комиссии, в состав которой войдете и Вы, и что подготовкой к печати и редактированием издания этой переписки будет заниматься та же комиссия.
4) Редакционная комиссия, указанная в предыдущем пункте, должна состоять не менее как из пяти лиц, непременно причастных к литературе, и желательно, чтобы в нее были приглашены лица, знавшие лично меня и Н. И. Петровскую, причем предположительно указываются мною следующие лица: К. Бальмонт, С. А. Поляков, С. М. Соловьев, Б. Н. Бугаев (Андрей Белый).
5) Организация этой комиссии поручается Вам, С. А. Соколову, с тем, чтобы состав ее был опубликован в газетах.
6) На случай Вашей смерти, Вы, С. А. Соколов, не преминете сделать распоряжение о передоверении всех вышеуказанных прав на хранение и издание передаваемой Вам переписки другому лицу.
Настоящее предварительное заявление имеет быть со временем заменено другим, более подробным. Но если б это не было по каким-либо причинам исполнено, настоящее заявление получает всю силу выражения моей воли.
Дано Сергею Алексеевичу Соколову, в литературе Кречетову, от Валерия Яковлевича Брюсова. Москва, 9 мая 1911 года.[344]344
РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 3. Ед. хр. 5. Завещательное распоряжение Брюсова исполнено много лет спустя после смерти поименованных им лиц. См.: Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913 / Вступ. статьи, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова. М., 2004.
[Закрыть]
Собраться для подготовки переписки к публикации в 1938 г., десять лет спустя – согласно завещательному условию – после смерти Петровской и четырнадцать лет спустя после смерти Брюсова, предполагаемые участники «редакционной комиссии» уже не могли: в живых из них тогда остались только трое, причем К. Д. Бальмонт жил в эмиграции в Париже, а из двоих находившихся в Москве – С. А. Полякова и С. М. Соловьева – один, С. М. Соловьев, был недееспособен, пребывал во власти психического заболевания (после ареста в 1931 г. и дальнейших следственных действий). Не мог предвидеть Брюсов в 1911 г. и тех общественных условий, которые начисто исключали возможность опубликования его переписки с Петровской на родине корреспондентов ко времени вступления в силу приведенного выше документа. Примечательно, однако, явное стремление поэта сделать в будущем свою романическую переписку достоянием гласности. Личную жизнь он осознавал как весьма важную составляющую часть своего единого литературного облика и поэтому заботился о том, чтобы она была надлежащим образом документирована, чтобы не возникло ненароком «белых пятен». Брюсову важно, чтобы с должным вниманием и необходимой полнотой были собраны и оценены непосредственные свидетельства тех отношений, которые преломлены в эстетических зеркалах и освещены отраженным светом в любовных стихах его книги «Stephanos» и в романе «Огненный Ангел», чтобы признания о потаенных внутренних ощущениях и интимных чувствах, сообщенные близкой женщине, пополнили когда-нибудь всеобщее представление о его целостном, личностном, литературном, в конечном счете, образе.
Для Нины Петровской литературного компонента во взаимоотношениях и в переписке с Брюсовым почти не существовало, или, по крайней мере, эта особенность никогда не выступала в ее сознании на первый план. Письма были для нее лишь формой контакта, способом передачи собственных эмоций другому человеку и какого-либо иного содержания и смысла в себе не заключали. Когда ее отношения с Брюсовым подошли к своему концу, должна была исчезнуть, по желанию Петровской, и их документальная, «материальная» составляющая – переписка. Петровская не раз требовала от Брюсова возвращения ее писем – с тем чтобы затем их уничтожить (так она, по всей видимости, поступила с адресованными ей и остававшимися в ее распоряжении поздними письмами Брюсова: ни одного его письма к Петровской, написанного после апреля 1909 г., нам не известно). Если бы Брюсов пренебрег собственным умыслом в отношении этой переписки и выполнил требования бывшей возлюбленной, мы не только лишились бы одного из исключительно ярких и эмоционально насыщенных памятников русской эпистолярной культуры символистской эпохи; мы не имели бы возможности ознакомиться с самым значительным из того, что вышло из-под пера Нины Петровской, что позволяет оценить ее как одну из наиболее выразительных, наиболее характерных, «знаковых» фигур своего литературного круга.[345]345
Ср.: «Она представляет собой определенный интерес как личность, всецело принадлежавшая своей эпохе, – Петровская, если угодно, была ее законченным произведением» (Тырышкина Елена. Жизнь в пространстве декаданса (Н. Петровская) // Studia Slavica Hung. 2002. T. 47. № 1/2. С. 135).
[Закрыть] Ни литературно-критические статьи и рецензии, ни – в еще меньшей мере – ее беллетристические опыты не выдерживают сопоставления с той эпистолярной исповедью, которую обращала Петровская к Брюсову из года в год и которая – конечно же, без всякого расчета с ее стороны – заключала в себе не только интимно-личное, но и, в определенном смысле, литературное содержание.
Специфику этой «литературности» первым, и наиболее полно и внятно, осмыслил В. Ф. Ходасевич, когда в своем поминальном очерке о Петровской («Конец Ренаты», 1928) выделил как самую отличительную особенность русского символизма стремление к «сплаву жизни и творчества»: «…часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь ‹…› Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить – литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, “жизненного” порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей “дар писать” и “дар жить” расценивались почти одинаково».[346]346
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 7, 8.
[Закрыть] Петровской, безусловно, удалось воплотить прежде всего символистский «дар жить», и непосредственным документальным отпечатком, свидетельствующим о наделенности этим даром, остались ее письма – среди них в первую очередь письма к Брюсову.
О жизни Нины Ивановны Петровской до той поры, как она вошла в круг московских «декадентов», мы не знаем почти ничего. Не обнаружено никаких деловых бумаг и документов, по которым можно было бы установить полные имена ее родителей, род занятий отца, когда и где она окончила гимназию и т. д. Немногие скудные и крайне неопределенные сведения суммированы Ходасевичем, с которым ее какое-то время связывали доверительные отношения: «Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестою одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала “литературной эпохи” в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким».[347]347
Там же. С. 8–9. В экземпляре мемуарной книги «Некрополь», который принадлежал В. В. Вейдле, Ходасевич отметил на полях, что Петровская была невестой В. А. Маклакова, видного юриста, впоследствии крупного деятеля кадетской партии (см. комментарии Н. А. Богомолова в кн.: Ходасевич Владислав. Некрополь. М.: Вагриус, 2001. С. 392). О профессии, полученной ею в ранней юности, Петровская вспомнила в письме к Ю. И. Айхенвальду (Париж, 29 июня 1927 г.) – в надежде изыскать средства для существования: «Сознаюсь Вам: я по профессии еще зубной врач. Из ложного стыда потом это тщательно таила от всех… даже самой это хотелось забыть. Но сейчас время суровое, – не до жеманства. Конечно, и диплом я потеряла давно и практиковать не собираюсь, но остались у меня некие знания, которые можно утилизировать с другой стороны. В зубоврачевании огромную роль играет применение всевозможных технических приспособлений, и при каждом кабинете непременно находится лаборатория, где делают искусственные зубы по новейш<им> системам. Это дело мне знакомо во всех его основах и, я даже бы сказала, – нравится. Конечно, прошли годы и годы и техника в этой области страшно шагнула вперед. Нужно поучиться. И если интенсивно, то в какой-ниб<удь> частной мастерской мне нужно пробыть не больше 3-х, 4-х месяцев. (Конечно, у французов). Тогда заработок обеспечен, и заработок верный ‹…›» (РГАЛИ. Ф. 1175. Оп. 2. Ед. хр. 14). Опубликовано в сокращении Э. Гарэтто: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 133–134).
[Закрыть] Долгое время в биографических справках о Петровской обозначался 1884 год как год ее рождения; трудно сейчас установить, кем впервые и на каких основаниях была введена эта датировка, многократно повторенная в различных печатных источниках. Исходя из признаний Петровской в письмах к Брюсову, которые представляются вполне достоверными, теперь можно с достаточной степенью вероятности утверждать, что она родилась в марте 1879 г. Ее младшая сестра, Надежда Ивановна Петровская, страдала физическими и психическими недугами, отягощенными во второй половине 1900-х гг. какой-то романической историей (не вполне внятные указания на эту личную драму имеются в письмах Нины Петровской к Брюсову); после смерти их матери в 1909 г. Надежда Петровская перешла всецело под опеку старшей сестры и разделяла с ней все последующие жизненные тяготы.
Петровская публиковала свои рассказы и статьи под девичьей фамилией, которая и стала ее литературным именем. В московском окололитературном сообществе она объявилась в 1902 г. как Нина Ивановна Соколова, жена адвоката и начинающего поэта Сергея Алексеевича Соколова (псевдоним – Сергей Кречетов), основавшего в том же году издательство «Гриф», которое, вслед за символистским «Скорпионом», учрежденным двумя годами ранее, ставило сходные задачи – быть пристанищем для писателей модернистской ориентации, утверждать «новое» искусство. С 1902 г. Петровская начинает рассказ о пережитом и в своих «Воспоминаниях».[348]348
Петровская написала их сразу после смерти Брюсова, осенью 1924 г.; 23 ноября 1924 г. она сообщала М. Горькому: «Была у меня надежда на мою книгу – “Воспоминания”. Собственно о Валерии Брюсове и эпохе с ним связанной, личные и литературно-общественные. Давно вела переговоры с К<нигоиздательст>вом “Петрополис”. Прочли, пожелали печатать сейчас же, но без аванса, на проценты с экземпляра. Это для меня невозможно» (Garetto Elda. Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina Petrovskaja con V. F. Chodasevič e M. Gor’kij // Europa Orientalis. 1995. Vol. XIV. № 2. P. 140). Горький предполагал опубликовать «Воспоминания» Петровской в берлинской «Беседе», но издание журнала было прекращено в мае 1925 г., затем рекомендовал поместить их в журнале «Русский современник» (см. его письмо к А. Н. Тихонову от 9 августа 1925 г. // Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2012. Т. 15. С. 240–241, 676 – примечания Л. В. Суматохиной), но его издание после выхода в свет в конце декабря 1924 г. 4-го номера не было возобновлено (см.: Примочкина Н. Н. М. Горький и журнал «Русский современник» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 368–369; Примочкина Н. Н. М. Горький в судьбе Нины Петровской // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 2002. Т. 61. № 2. С. 7 – 15; Примочкина Н. Н. Женщина, достойная помощи и внимания (Н. Петровская) // Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003. С. 207–224). Впоследствии «Воспоминания» Петровской были подготовлены к печати в составе тома «Русские символисты» (в серии «Летописи Государственного Литературного Музея») под редакцией Н. С. Ашукина (см.: Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 691), но это издание не было осуществлено. Фрагменты «Воспоминаний» Петровской были впервые опубликованы Ю. А. Красовским (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 773–789), в полном объеме они напечатаны в составе публикации Эльды Гарэтто «Жизнь и смерть Нины Петровской» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 17–90).
[Закрыть] Никакой предыстории это повествование о московском «декадентском» микромире не имеет – ее заменяют признания об обострившемся «томлении по жизни», о «горькой тоске существования», о «странной пустынности» как доминирующем чувстве; всем этим переживаниям «муки небытия», однако, было найдено противоядие: «Вся новая русская литературная проповедь ‹…› была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов. Маленькие сборники его “Chefs d’œuvres” и “Me eum esse”, – потом пышное “Urbi et Orbi” стали для меня символом моей новой веры».[349]349
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 18, 19.
[Закрыть]
Литературный дебют Петровской состоялся в 1903 г.: в «Альманахе книгоиздательства “Гриф”», которым заявило о себе новое издательское предприятие, были опубликованы ее рассказы «Осень» и «Она» – небольшие лирико-психологические этюды, написанные в форме мужского монолога (как и большинство последующих ее рассказов). С аналогичными опытами Петровская выступила в двух следующих альманахах «Грифа», вышедших в свет в 1904 и 1905 гг. Ранние рассказы Петровской являли собой характерные образчики «декадентской» прозаической миниатюры, с детальной разработкой образно-метафорического ряда и ослабленным сюжетом; темы любви и смерти, религиозно-экстатические и «демонические» мотивы часто окрашиваются в них в тона специфически модернистского урбанизма.[350]350
Почти полный свод литературных произведений Петровской представлен в кн.: Петровская Нина. Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика / Составление М.В. Михайловой. Вступ. статья М.В. Михайловой и О. Велавичюте. Комментарии М.В. Михайловой и О. Велавичюте, при участии Е.А. Глуховской. М., 2014.
[Закрыть] Литературного имени эти публикации автору не создали (если о ранних рассказах и упоминали, то чаще всего мимоходом и довольно пренебрежительно[351]351
Ср., например, отзыв С. М. Соловьева об «Альманахе “Гриф”» (М., 1904) в письме к А. Блоку от 18 февраля 1904 г.: «Почти весь альманах хочется положить в печку. “Последняя ночь” Нины Ивановны очень симпатично, но окончательно бездарно» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 364).
[Закрыть]), известность же в узком кругу лиц, причастных к деятельности «Грифа» и «Скорпиона», Петровская получила главным образом за наглядно проявленный «дар жить», за выразительное воплощение в индивидуальном психологическом облике и поведенческом рисунке специфически «декадентских» черт.
В какой-то мере одной из форм подобного самовыражения стал ее непродолжительный роман с Бальмонтом (вспоминает Ходасевич: «Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой ‹…›. Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок – нечто вроде похмелья»[352]352
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 12.
[Закрыть]). Эта мимолетная история всколыхнула волну домыслов и слухов, циркулировавших в литературной богеме,[353]353
Ср., например, сообщение в письме С. А. Соколова к Андрею Белому от 14 августа 1903 г. об А. С. Рославлеве, поэте из круга «Грифа»: «…он ‹…› оказался распространителем и автором гнусных и грязных слухов насчет меня и Нины. ‹…› Мне только и осталось порвать с ним, что я и сделал» (РГБ. Ф. 25. Карт. 23. Ед. хр. 2). О тех же слухах, распространявшихся Рославлевым и Виктором Гофманом, упоминает и Петровская в «Воспоминаниях» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 37). Подробнее см.: Лавров А. В. Виктор Гофман: между Москвой и Петербургом // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 352–353.
[Закрыть] которым вскоре был дан дополнительный стимул: пытаясь изжить в себе последствия отношений с «оргиастическим» Бальмонтом, Петровская устремилась в «аскезу», в поиск возвышенного, духовно просветленного чувства. Так начался осенью 1903 г. ее «мистериальный» роман с Андреем Белым, который в январе – феврале 1904 г. обернулся романом тривиальным, «земным» и дополнительно окрашенным теми же «декадентскими» обертонами. Белый драматически воспринял такую перемену в отношениях: он осознавал, что его «порывания к мистерии, к “теургии” потерпели поражение»,[354]354
Белый Андрей. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 43.
[Закрыть] что воплотить в жизнь новую форму человеческих связей, о которой он грезил, ему оказалось не по силам; но и у Петровской, искренне и страстно полюбившей поэта-теурга, ожидавшей от него той же цельности и полноты чувства, которые испытывала она сама, «бегство» возлюбленного, его попытки видоизменить и в конечном счете прекратить общение с нею вызвали гамму самых мучительных переживаний.[355]355
Подробнее см.: Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 159–162, 167; Письма Андрея Белого к Н. И. Петровской / Публикация А. В. Лаврова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 198–214.
[Закрыть] С осени 1904 г. «роман» Петровской и Белого (судя по его позднейшим признаниям) не возобновлялся, но психологические последствия этой истории сказывались еще довольно длительное время. Когда между Петровской и Брюсовым установилась близость, Андрей Белый довольно долго фигурировал в их отношениях как третий отсутствующий участник (инициалы его настоящего имени – Б. Н. – то и дело мелькают в письмах Петровской к Брюсову).
Брюсов познакомился с Петровской тогда же, когда и с ее мужем Сергеем Соколовым и другими начинающими литераторами из «Грифа» – видимо, в феврале – марте 1903 г.[356]356
См.: Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 131. Помимо принадлежности к модернистскому литературному сообществу, Брюсова с Соколовым связывал и живой интерес к спиритизму (письма Соколова к Брюсову за 1904 г. содержат приглашения на спиритические сеансы; см.: Богомолов Н. А. Заметки к тексту переписки // Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913. С. 48). Петровская описала в мемуарном очерке сеанс польского медиума Яна Гузика в московском особняке А. С. Хомякова с участием восьми человек, в том числе Соколова и Брюсова (Петровская Нина. Что это было? (На сеансах Яна Гузика) // Московская газета. 1911. № 130. 12 октября. С. 1; Петровская Нина. Разбитое зеркало. С. 402–406).
[Закрыть] О Соколове и обо всей компании, группировавшейся вокруг него, у Брюсова сразу сложилось весьма невысокое мнение. Вторичность и второсортность их творческих опытов по отношению к тому, что делалось авторами из «Скорпиона», для него были очевидны (впоследствии в «Воспоминаниях» Петровская косвенно солидаризировалась с его позицией, утверждая, что издательство Соколова «никаких новых течений не выявило, своего слова не сказало, а так и осталось эстетически-барственной затеей в духе времени, стучанием в открытые уже двери»[357]357
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 22.
[Закрыть]). Петровскую Брюсов на первых порах из «грифовского» круга никак не выделял и даже позволял себе насмешливые, а порой и вполне скабрезные суждения о «Грифихе».[358]358
Так, в конце 1903 г., когда возник конфликт между Брюсовым, требовавшим от сотрудников «Скорпиона» и журнала «Весы» неучастия в изданиях «Грифа», и Андреем Белым, отстаивавшим свое право печататься в «Грифе», первый сообщал П. П. Перцову (5 декабря 1903 г.), что Белый «не хочет участвовать в “Весах”. Началось, конечно, с наущений Бальмонта. Это понятно: Бальмонту важна Грифиха с ее медведицей для лизания (З. Н. <Гиппиус> знает, о чем речь). А. Белый мягок, аки воск пасхальной свечи, и из него можно лепить что угодно: медведиц, дьяволенков и ангелочков. ‹…› Я уже начинаю подумывать, не дает ли Грифиха и ему свою медведицу, хотя (или “ибо”) он и очень невинен» (ИМЛИ. Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 23). В неотправленном варианте письма к Андрею Белому, датированного тем же днем, Брюсов, увещевая строптивого автора, прибегал к тем же аргументам: «Как не видите Вы, чтó такое Соколов. У Бальмонта есть специальные причины благоволить Соколову, но при чем тут Вы? Ведь не начали же и Вы лизать соляную медведицу Нины Петровской? Мне страшно писать это. Нельзя же не видеть, что Соколов пустой балаганный шут, неумело-бездарный шарлатан, в устах которого все слова, самые истинные, становятся фиглярством и пошлостью! С ним можно пить мадеру, может быть вести процесс, но нельзя делать дело, истинное и большое, как издательство наших книг» (РГБ. Ф. 386. Карт. 70. Ед. хр. 11. Ср. отправленный адресату вариант текста письма: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 371–374).
[Закрыть] Обратить на нее более пристальное внимание его побудила, по всей вероятности, завязавшаяся романическая история с Андреем Белым, о которой Брюсов поначалу поминал, впрочем, в сугубо ироническом ключе – как, например, в записи, относящейся к весне 1904 г.: «Нина Петровская предалась мистике. ‹…› А Белого мать, спасая от “развратной женщины”, послала на страстную неделю в Нижн<ий> Новг<ород>».[359]359
РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Ср. сообщение в письме Брюсова к М. А. Волошину от 29 марта / 11 апреля 1904 г.: «Андрей Белый соблазнен Грифихой, т. е. Ниной Петровской, и услан матерью, спасаться, в Нижний Новгород» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1994. Кн. 2. С. 331).
[Закрыть]
Ходасевич полагает, что в пробуждении живого интереса Брюсова к Петровской значительную роль сыграла мифотворческая составляющая. Женщина, отвергнутая поэтом-теургом, пренебрегшим чувственной любовью ради верности «светлому» мистическому началу, закономерно попадала в орбиту притяжения «мага», служителя «тьмы» (именно таковым было амплуа Брюсова, создававшееся им самим и принимавшееся другими в игровом символистском пространстве): «Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, когда наметился ее разрыв с Белым, потому что, по своему положению, не мог оставаться нейтральным. Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, “томиться и скрежетать”. Следственно, теперь Нина, ее соперница, ‹…› превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз – против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним – способа “отомстить” Белому».[360]360
Ходасевич Владислав. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 14.
[Закрыть] Петровская, восстанавливая в «Воспоминаниях» некоторые эпизоды, предшествовавшие ее сближению с Брюсовым (встречи на литературных собраниях, спиритические сеансы и др.), также упоминает про «демоническую» окраску, определявшую тональность складывавшихся отношений: «…я однажды сказала В. Брюсову: – Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда…»; «– Вот видите, В<алерий> Я<ковлевич>, – обступил ведь “сон глухой черноты”, и уйти некуда, – нужно, значит, войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же».[361]361
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 67.
[Закрыть] Именно эти апелляции к «тьме», к эстетическому декоруму, к миру «декадентских» обольщений и фантазий послужили главным эмоционально-психологическим началом, которое соединило мэтра русских символистов и вполне рядовую на писательском поприще носительницу символистского мироощущения. Примечательно, что и годы спустя, реконструируя в памяти начало романа, определившего весь ход ее последующей жизни, Петровская прибегает к тому же образному строю, который, видимо, являл собой не только оболочку, форму завязавшихся в 1904 г. отношений, но и в какой-то мере их подлинную суть; жизненные коллизии обретали силу, регенерировались в плетении метафор:
«В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где как жемчужина Клеопатры была растворена его душа, и сказал:
– Пей!
Я выпила и отравилась на семь лет…».[362]362
Там же. С. 69. Видимо, к ранней поре общения с Брюсовым относится недатированное письмо Петровской к Андрею Белому, подчеркнуто «внешнее» по стилистике и сугубо деловое (РГБ. Ф. 25. Карт. 35. Ед. хр. 37): // Дорогой Борис Николаевич, сегодня именно в 7 часов меня просил увидаться с ним В. Я. К 9 ½ я вернусь непременно и буду ждать Вас. Может быть, ничего для Вас эта перемена часа, и Вы зайдете? // Письмо передала вчера же в 6 ч. веч<ера>. Ваша Н. Петровская.
[Закрыть]
Судя по ряду ретроспективных указаний в переписке, первые любовные встречи Брюсова и Петровской относятся к началу октября 1904 г. 12 ноября того же года Брюсов выслал А. А. Шестеркиной автограф стихотворения «Опять душа моя расколота…»;[363]363
РГБ. О. Р. Карт. 128. Ед. хр. 13. Опубликовано под заглавием «Молния» в составе авторского цикла «В провалах» (Северные цветы ассирийские. Альманах IV книгоиздательства «Скорпион». М., 1905. С. 31); печатается с датировкой: 17 ноября 1904.
[Закрыть] сообщая тот же текст в ноябрьском письме к Л. Н. Вилькиной, он пояснял: «…Вы найдете здесь стихи, на которые смотрите не как на стихи (ибо, разумеется, у меня есть лучшие), но как на фотографию моей сегодняшней души».[364]364
Лица. Биографический альманах. Вып. 10. СПб., 2004. С. 359. Публикация Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова.
[Закрыть] Это стихотворение невозможно зачислить по ведомству привычной любовной лирики, однако в своей основной психологической тональности, в самозабвенном погружении в амбивалентный мир полярных, доведенных до предельной остроты катастрофических переживаний оно, безусловно, было вдохновлено отношениями с Петровской и во многом предвосхищало последующие отражения этих отношений в брюсовских стихах и прозе:
Опять душа моя расколота
Ударом молнии, и я,
Вдруг ослепленный вихрем золота,
Упал в провалы бытия.
<…..>
И мне от жгучей боли весело,
И мне желанен мой костер,
И небо черный полог свесило
На мой полуослепший взор.
В марте 1905 г. Брюсов признавался: «На жизнь мою иногда находят смерчи. И тогда я не властен в себе. В таком смерче я сейчас».[365]365
Письмо к М. М. Рунт // РГБ. Ф. 386. Карт. 69. Ед. хр. 18.
[Закрыть] Этот «смерч» вызвала в его внутреннем мире Нина Петровская. Она же была главной причиной тех переживаний, на которые указывал Брюсов в дневниковой записи «Из 1904–1905 года»; в ней идет речь о том же самом «смерче»: «Для меня это был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Бóльшая часть переживаний воплощена в стихах моей книги “Stephanos”. Кое-что вошло и в роман “Огненный Ангел”. Временами я вполне готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые, начать всю жизнь сызнова. Литературно я почти не существовал за этот год ‹…› Связь оставалась только с Белым, но скорее связь двух врагов…»[366]366
Брюсов Валерий. Дневники. С. 136.
[Закрыть]
Как «связь двух врагов» воспринимал Брюсов свои отношения с Андреем Белым, опять же, под знаком Петровской, которая еще продолжала остро реагировать на слом своего «мистериального» романа. Тайные встречи мужа И. М. Брюсовой с женой С. А. Соколова в Москве завершились совместной поездкой в Финляндию: июнь 1905 г., проведенный в Гельсингфорсе и на озере Сайма, Брюсов и Петровская осознавали и тогда, и впоследствии как самую знаменательную, самую счастливую пору своей жизни. Вынужденное расставание в последующие месяцы они пытались компенсировать перепиской; пожалуй, именно в письмах к Петровской этой поры Брюсов, обычно подчеркнуто «холодный» и «внешний», строгий и сдержанный в выражении своих чувств, достигает наивысшего эмоционального накала и исповедальной искренности; в этих посланиях Брюсов раскрывается теми гранями своей личности, о существовании которых многие, возможно, и не догадывались:
«Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней. Как много раз я говорил, – да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого, как некогда Пизарро, открылись мне оба океана – моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидать последние глубины, последние тайны моей души. Может быть, ради этого месяца прожил я все томительных тридцать лет моей жизни, и воспоминаниями об этом месяце будут озарены все следующие тридцать лет. Как символ этих дней, Твой образ стал для меня святыней» (1 июля 1905 г.);[367]367
Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. 1904–1913. С. 69.
[Закрыть]
«… я опять прежний, и я опять там, опять с Тобой, почти до иллюзии, почти чувствую прикосновение Твоих губ, Твоих рук. Да! да! это было! было! а Ты угадала, что бывше<е> покажется мне сном. Но неужели человеку позволено изведать такое счастье, позволено говорить “я счастлив”, и не ждет за это горькая расплата, несказанное мучительство. О, я принимаю все» (7 июля 1905 г.);[368]368
Там же. С. 77–78.
[Закрыть]
«… я могу еще раз повторить все слова о любви, которые я говорил Тебе за эти девять месяцев, повторить их более сознательно, более сосредоточенно, но всё с той же страстью. И могу сказать другие слова, которые не сказались в свое время, которые я не посмел прошептать Тебе, но которые были живы, хотели жить и теперь находят свое воплощение» (10 июля 1905 г.).[369]369
Там же. С. 82.
[Закрыть]
Хорошо знавший поэта С. А. Поляков, глава «Скорпиона» и издатель «Весов», свидетельствовал по праву: «Роман Брюсова с Н. И. Петровской – самый серьезный из всех его романов».[370]370
Ашукин Николай. Заметки о виденном и слышанном / Публикация и комментарий Е. А. Муравьевой // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 194. В той же записи рассказов со слов Полякова Н. С. Ашукин зафиксировал: «Кажется, в 1904 году или в 1905, Брюсов написал духовное завещание, которое передал Полякову, назначив его своим душеприказчиком. Завещание было написано потому, что Брюсов ждал близкой смерти; Сергей Александрович слышал от него что-то, что заставило его предположить о двойном самоубийстве Брюсова и Н<ины> Петровской» (Там же). Текст упоминаемого документа нам неизвестен (не исключено, что имеется в виду вариант письма, обращенного к С. А. Соколову, которое приведено выше); предположение же о «двойном самоубийстве» как финальной точке взаимоотношений нельзя считать безосновательным, зная о характере и общей картине их развития.
[Закрыть] В перечне возлюбленных, оставивших значительный след в его жизни («Мой Дон-Жуанский список»), Брюсов обозначает связь с Петровской самыми большими временными рамками: «1904 – 910» (в другом варианте списка, «Mes amantes»: «1905–1911»).[371]371
Документ опубликован в комментарии В. Э. Молодякова в кн.: Брюсов Валерий. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994. С. 222–223.
[Закрыть] «Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам?» – вопрошала Петровская в «Воспоминаниях» и формулировала ответ – вполне убедительный и проницательный: «Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той – “тайной”, которой не знали окружающие, с той, которую он в себе любил и, чаще, люто ненавидел ‹…›».[372]372
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 56.
[Закрыть] Отношения с Петровской выделяются из общего «донжуанского» ряда, выстроенного Брюсовым, не только своей продолжительностью и, соответственно, интенсивностью, но и яркостью и разнообразием их преломления в художественном творчестве. В приведенной дневниковой записи Брюсов указывает книгу стихов «Stephanos» и роман «Огненный Ангел». За осуществление своего масштабного беллетристического замысла он активно принялся летом 1905 г., после возвращения из Финляндии, и Петровская дала тогда Брюсову все необходимое и достаточное для воплощения образа главной героини исторического романа из немецкой жизни XVI века.
О биографическом подтексте в «Огненном Ангеле», о перипетиях взаимоотношений сторон в реальном треугольнике (Андрей Белый – Петровская – Брюсов) и воссозданном по его подобию треугольнике воображаемом (граф Генрих – Рената – Рупрехт) написано уже немало, конкретные обстоятельства выявлены и осмыслены детально,[373]373
См.: Переписка <В. Брюсова> с Андреем Белым. 1902–1912 / Вступ. статья С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 332–339; Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Wiener slawistischer Almanach. 1978. Bd. 1. S. 79 – 107; Bd. 2. S. 73–96 (рец.: Бахрах Александр. Венские слависты // Русская мысль. 1978. № 3236. 28 декабря. С. 8); То же // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 530–589; То же // Гречишкин С. С., Лавров А. В. Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 6 – 62; Бенькович М. А. «Огненный Ангел» Валерия Брюсова (этап интеллектуальной дуэли) // Из истории русской литературы и литературной критики. Кишинев, 1984. С. 18–36; Мирза-Авакян М. Л. Образ Нины Петровской в творческой судьбе В. Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 223–234; Минц З. Г. Граф Генрих фон Оттергейм и «московский ренессанс». Символист Андрей Белый в «Огненном Ангеле» В. Брюсова // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 215–240; Grossman Joan Delaney. Valery Briusov and Nina Petrovskaia: Clashing Models of Life in Art // Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, California, 1994. P. 122–150, 256–265; Klimowicz Tadeusz. Nawiedzone (Baszkircewa – Piotrowska – Lwowa) // Studia Rossica Posnaniensia. 1993. Vol. XXIV. Str. 88–94.
[Закрыть] поэтому сейчас нет необходимости в очередной раз подробно развивать эту тему. Важно подчеркнуть все же, что выразительность, художественная подлинность образа Ренаты были достигнуты в первую очередь благодаря тому, что Брюсов позволил себе в данном случае едва ли не с документальной точностью запечатлеть реальные черты прототипа. Петровская утверждает: «…во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния ‹…›, оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, – словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе – в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С. Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства “Гриф”».[374]374
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 56.
[Закрыть]
Отблески личности Петровской различимы и в других произведениях Брюсова второй половины 1900-х гг. – в частности, в рассказе «Сестры» (1906), где в образе Кэт, влекущейся к «любви беспредельной, безграничной», наделенной «темным вдохновением» и понимающей «все тайные жажды» существа своего возлюбленного,[375]375
Брюсов Валерий. Повести и рассказы. М., 1988. С. 112, 111.
[Закрыть] запечатлены самые характерные черты психологического облика Петровской. В подтексте книги «Στέφανος. Венок» (1906) Петровская представлена в различных ракурсах: открывавший книгу в первом издании раздел «Вечеровые песни» включал цикл стихотворений «На Сайме», навеянный впечатлениями совместной жизни с Петровской в Финляндии; раздел «Из ада изведенные» был составлен из лирических медитаций, прямо или косвенно воплощавших тот самый «смерч», который пробудила в Брюсове Петровская. Любовь, воспеваемая в этих стихах, – всепоглощающая, испепеляющая страсть, нерасторжимая смесь восторгов и мучений, предельных, одновременно обогащающих и опустошающих переживаний:
Кто нас двух, душой враждебных,
Сблизить к общей цели мог?
Кто заклятьем слов волшебных
Нас воззвал от двух дорог?
Кто над пропастью опасной
Дал нам взор во взор взглянуть?
Кто связал нас мукой страстной?
Кто нас бросил – грудь на грудь?
<……>
В диком вихре – кто мы? что мы?
Листья, взвитые с земли!
Сны восторга и истомы
Нас, как уголья, прожгли.
Здесь, упав в бессильной дрожи,
В блеске молний и в грозе,
Где же мы: на страстном ложе
Иль на смертном колесе?
(«В застенке», 10–11 декабря 1904 г.);[376]376
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 400–401. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно: римскими цифрами обозначается том, арабскими – страница.
[Закрыть]
Астарта, Астарта! и ты посмеялась,
В аду нас отметила знаком своим,
И ужасы пыток забылись как малость,
И радость надежд расклубилась как дым.
Одно нам осталось – сближаться, сливаться,
Слипаться устами, как гроздьям висеть,
К святыням касаться рукой святотатца,
Вплетаться всем телом в Гефестову сеть.
(«Из ада изведенные», 28–30 июля 1905 г.; I, 406).
Стихотворение «Портрет» (20–21 февраля 1905 г.) из того же раздела рисует внешний облик Петровской:
Черты твои – детские, скромные;
Закрыты стыдливо виски,
Но смотрят так странно, бездонные,
Большие зрачки.
<…….>
Не сомкнуты губы бессильные,
Как будто им нечем вздохнуть,
Как будто покровы могильные
Томят тебе грудь.
(I, 397).
Даже в разделе «Правда вечная кумиров», составленном из стихотворений на мифологические темы, лики Брюсова и Петровской проступают под знакомыми масками; они угадывались порой и в тех стихотворениях, которые создавались безотносительно к обстоятельствам реального «романа». Так, Андрей Белый распознавал их в образах диалогического стихотворения «Орфей и Эвридика», законченного 10–11 июня 1904 г. (т. е. за несколько месяцев до начала «романа»); в своих воспоминаниях он назвал главу, описывавшую взаимоотношения с Петровской (в тексте – под обозначением: Н***) и Брюсовым, «“Орфей”, изводящий из ада»: образы Орфея и Эвридики (позднее использованные Белым в статье «Песнь жизни», 1908 г.), обыгрывавшиеся в разговорах Белого-Орфея и Петровской-Эвридики, перекочевали, по убеждению мемуариста, к Брюсову: «Она вызвала меня и ‹…› требовала, чтобы из “ада извел”; и неспроста В. Брюсов, узнавши из слов ее о наших разговорах об “Эвридике” ‹…›, – неспроста он потом в своем стихотворении об “Эвридике”, об Н***, ей подставил слова:
Происшедшую в воображении Белого перекодировку «мифа» в «реальность» иллюстрирует выполненный им карикатурный рисунок «Орфей и Эвридика»: Брюсов (весь в черном) влечет за собой Петровскую (в светлом облачении), поднимающуюся из гробницы (обозначенной черным квадратом).[378]378
См.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 387.
[Закрыть] Стихотворения «Клеопатра» и «Антоний» (в первом издании «Венка» помещенные в разделе «Из ада изведенные», позднее перенесенные в раздел «Правда вечная кумиров») уже впрямую обозначают параллели между историческими героями и их современными прототипами (Антоний – Брюсов, Клеопатра – Петровская); они актуализируют занимавшую Брюсова и Петровскую идею двойного самоубийства, а также, помимо апелляции к исторической мифологии, вызывают многослойные литературные ассоциации – от «Антония и Клеопатры» Шекспира до «Египетских ночей» и других пушкинских текстов.[379]379
См.: Паперно Ирина. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley; Los Angeles; Oxford, 1992. P. 36–39. Свояченица Брюсова Б. М. Рунт (Погорелова) свидетельствует, что, подразумевая заключительные строки брюсовского «Антония»: // О, дай мне жребий тот же вынуть, // И в час, когда не кончен бой, // Как беглецу, корабль свой кинуть // Вслед за египетской кормой! // (I, 393), – // Петровскую «с легкой руки едкого и остроумного В. Ходасевича ‹…› в нашем интимном кругу прозвали “Египетской Кормой”» (Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение // Новый журнал. Кн. 33. Нью-Йорк, 1953. С. 184).
[Закрыть]
Назвав Петровскую «музой поэта Валерия Брюсова», Андрей Белый в подтверждение такого определения добавил: «вспомните любовную лирику лучшей его книги – “Венка”: половина стихотворений обращена к ней».[380]380
Белый Андрей. Начало века. С. 308. Из стихотворений, относящихся к ранней поре взаимоотношений Брюсова и Петровской, за пределами книги «Stephanos» осталось шуточное «Девочка Ниночка…» (1905): // Девочка Ниночка, // Ты – паутиночка // В утренней мгле, // Девочка Ниночка, // Ты – как былиночка // Никнешь к земле, // и т. д. // (Брюсов Валерий. Неизданное и несобранное. М., 1998. С. 18, 279 – комментарий В. Молодякова).
[Закрыть] Сама Петровская сильно желала увидеть открывавшее «Венок» печатное посвящение ей и была до крайности уязвлена тем, что автор на такой демонстративный акт не решился. Брюсов явно не хотел дополнительно осложнять свою семейную жизнь: жена его, Иоанна Матвеевна, не могла оставаться в неведении относительно того, о чем уже судачила вся литературная Москва.[381]381
Выразительный в этом отношении документ – письмо И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой (сестре поэта) от 29 сентября 1905 г.: «…была лекция Мережковского. Входим мы с Броней <Б. М. Рунт, сестра И. М. Брюсовой. – Ред.>, а Валя уже, как в прошлый год, с Грифихой. Но, увидавши меня, по-детски испугался и бросился ко мне. Весь вечер В<аля> был печален, но не отходил от меня. Бальмонт со всеми Грифами и Ходасевичами смотрел насмешливо заносчиво. Зиночка <З. Н. Гиппиус. – Ред.> была очень мила. ‹…› Я ее водила по клубу – по залам. Сели мы в одной гостиной и мимо проходит вся ненавистная компания, а Зиночка говорит: “Это Грифиха, какая она с виду грубая женщина”. Я обрадовалась. Да, она очень грубая женщина! Как только я это сказала, я поняла, ведь литературные сплетни в Москве и Петербурге одни. И, конечно, хитрая Зина неспроста так говорила. ‹…› Я пришла домой и плакала. Валя очень печалился, что не остался ужинать, а когда Бальм<онт> его звал, то он сказал, нам нельзя быть с вами» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 34).
[Закрыть] В отличие от многих прежних любовных увлечений, эта брюсовская связь протекала «на виду»; Петровскую воспринимали по большей части как спутницу поэтического «мэтра», таковой она и запечатлелась в памяти современников: «С ней я почти не была знакома, но, по случайным встречам на лекциях и собраниях, помню ее. Деланная томность, взбитая, на пробор декадентская прическа. Туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность. Общее впечатление скорее – неряшливости» (Б. М. Рунт-Погорелова);[382]382
Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение // Новый журнал. Кн. 33. С. 184.
[Закрыть] «Вы, конечно, знаете ее, эту маленькую “женщину в черном”, – вечно в черном. Пышные волосы, расчесанные пробором посередине, темное лицо, большие черные глаза, черное шелковое платье с шлейфом – такова внешность. Странная внешность, которая не таит в себе очарованья и говорит о мужской силе ума, мужской беспристрастности и, пожалуй, бесстрастности. Даже немножко мужской голос» (А. А. Тимофеев);[383]383
Тимофеев А. Sanctus Amor. Критический этюд // Руль. 1908. № 117. 9 июня. С. 5. Излишне, видимо, добавлять, что «бесстрастность», отмеченная Тимофеевым, могла быть в данном случае лишь формой «внешнего» поведения, утрированного публичного этикета.
[Закрыть] «…молодая женщина, внешность которой нельзя было определить ни в положительном, ни в отрицательном смысле: до такой степени ее лицо сливалось со всеми особенностями фигуры, платья, манеры держаться. Все было несколько искусственное, принужденное, чувствовалось, что в другой обстановке она другая. Вся в черном, в черных шведских перчатках, с начесанными на виски черными волосами, она была, так сказать, одного цвета. Все в целом грубоватое и чувственное, но не дурного стиля. “Русская Кармен” назвал ее кто-то. ‹…› Валерий Яковлевич рядом с Н<иной> П<етровской> был сумрачен и хорош» (К. Г. Локс).[384]384
Локс Константин. Повесть об одном десятилетии (1907–1917) / Публикация Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 15. М.; СПб., 1994. С. 40.
[Закрыть]








