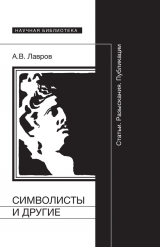
Текст книги "Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации"
Автор книги: Александр Лавров
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Предисловие Коневского к «Собранию стихов» А. Добролюбова обратило на себя внимание критиков исключительно «тяжелым и странным слогом» (Д. П. Шестаков),[107]107
Мир Искусства. 1900. Т. III. Отд. II. С. 242.
[Закрыть] «деланною вычурностью и неясностью выражений», прикрывающими «бедность и неясность мысли» (А. М. Ловягин).[108]108
Литературный Вестник. 1901. Т. I. Кн. IV. С. 451.
[Закрыть] Те же акценты – в откликах на посмертный сборник «Стихов и прозы» Коневского: «тяжелая речь»,[109]109
Русская Мысль. 1904. № 6. Отд. III. С. 172. Без подписи.
[Закрыть] «нелепый набор слов» (Н. П. Ашешов).[110]110
Образование. 1904. № 3. Отд. III. С. 137.
[Закрыть] Поступиться этими особенностями индивидуального стиля поэт не хотел, да, видимо, и не мог: представлены они были, как и все, что он делал, по глубоко осознанному убеждению. Ореус-отец заключает: «Понемногу выработался у Коневского свой собственный, своеобразный слог, во многом не удовлетворявший “академическим” требованиям. Язык Коневского отличается меткостью эпитетов, верностью образов, красивыми сочетаниями звуков, но синтаксис его запутан. Любил Коневской устаревшие, славянские слова и обороты, в стихах употреблял даже усеченные прилагательные. ‹…› Этот непривычный нашему времени язык возбуждал против себя много нареканий, но Коневской упорно его держался и против всяких посторонних поправок горячо протестовал».[111]111
Коневской Иван. Стихи и проза. С. IX–X.
[Закрыть]
Индивидуальная манера, сформировавшаяся у Коневского, стала для него единственно возможной формой высказывания: в стихах она продемонстрирована с той же отчетливостью, что и в прозаических этюдах, философских записях, критико-аналитических статьях, дневниковых заметках и письмах (Брюсов свидетельствует, что тот же слог Коневской употреблял и в «дружеских беседах»[112]112
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 248. Ср. зафиксированные И. Н. Розановым слова И. М. Брюсовой о Коневском: «Что поражало особенно в Коневском, это его разговорный язык, вполне совпадающий с языком его литературы» (Соболев А. Л. Страннолюбский перебарщивает. Сконапель истоар (Летейская библиотека. II. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века). М., 2013. С. 319).
[Закрыть]). В поэтической практике приметы этого архаизированного, синтаксически усложненного, нестандартного слога служили формой творческого самоопределения на фоне преобладавшего трафаретного стихослагательства, обнаруживавшего «легкость необыкновенную» в мыслях и образных построениях. «“Я люблю, чтобы стих был несколько корявым”, – говорил сам Коневской, которого раздражала беглая гладкость многих современных стихов. И этой “корявости” он, конечно, достигал, и не один читатель затруднится, читая строки вроде:
И был бы мир – венец, что Вечность – шар державы, –
или:
И так бы превозмог мест, сроков протяженье…» –
пишет Брюсов в своем очерке о поэте.[113]113
Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 494.
[Закрыть] Д. П. Святополк-Мирский упоминает о «прекрасной корявости» Коневского,[114]114
Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия. С. 105 (Предисловие к антологии «Русская лирика», 1924).
[Закрыть] но эта особенность вызывала приятие не у всех ценителей его поэзии (например, С. К. Маковский замечает, что «рядом с проблесками гениальности в его стихах много выраженного нечетко, наивно-замысловато», указывает на «неудачные словесные выдумки и попросту ошибки» в словоупотреблении[115]115
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 412.
[Закрыть]).
В силу отмеченных особенностей стихотворения Коневского вряд ли способны когда-либо завоевать признание и популярность в самых широких читательских кругах, однако их уникальному своеобразию сумеет отдать должное любой искушенный ценитель поэтического слова. Согласно проницательному наблюдению А. А. Смирнова, в архаизаторской тенденции и утяжеленном слоге Коневского на свой лад отображается «глубокая, безусловная искренность» автора, раскрывающего свою «детски-чистую» душу: «С этой искренностью, с этой чистотой ему не страшны никакие трудности, никакие запреты; с ней он преступает все пределы, и не останавливается, не дойдя до конца. Отсюда – его торжественный, изукрашенный слог, запутанный синтаксис, архаизмы. Красивые, громоздкие, шероховатые стихи его часто производят впечатление недостаточной отделки, обработки, какого-то импрессионизма формы; но если вчитаться в них, становится ясной невозможность изменить хотя бы одно слово. Витиеватая, затейливая форма не выдумана, не создана искусственно Коневским, но возникла естественно, необходимо, в силу его торжественного, проникновенного отношения к своим темам».[116]116
Смирнов А. Поэт бесплотия // Мир Искусства. 1904. № 4. С. 82.
[Закрыть] Эта индивидуальная поэтическая стилистика вбирает в себя широкий спектр составляющих: активно эксплуатируемый арсенал «архаических» поэтических средств, заимствованный из «золотого века» русской литературы и из еще более ранней, риторико-одической традиции сочетается с опытами обновления стиховой фактуры, родственными тем, которые осуществляли его современники-символисты, а также представители следующего поэтического поколения. Н. Л. Степанов указывает на ряд примеров нарушения у Коневского метрических схем, на тяготение его к дольнику и свободному стиху, на использование звуковых повторов и паронимов – сочетаний фонетически парных, но далеких по значению слов; приводит, в частности, строку из стихотворения «Порывы» («Здесь жестоко наш прах цепенеет»), замененную другим вариантом: «Ведь жестоко здесь кости коснеют» – «именно для большей звуковой крепости и организованности».[117]117
Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 198.
[Закрыть]
В своих поэтических медитациях Коневской всегда старается следовать основному исходному принципу – фиксировать исключительно те наблюдения, впечатления и размышления, которые поддаются отражению в сфере отвлеченного умозрения. Образцов так называемой «интимной» лирики, продиктованных сокровенными личными переживаниями, в его стихах почти не встречается, а если реальная жизнь все же сталкивала его с проблемами подобного рода, разрешение их переадресовывалось в ту же метафизическую плоскость. Ею, в частности, было поглощено то, по-видимому, по своей первичной сути любовное чувство, которое на какое-то время внесло определенную сумятицу в его внутренний мир. Жизненной установке, сформулированной в строках стихотворения «Многим в ответ» (1897):
Я не любил. Не мог всей шири духа
В одном лице я женском заключить
(С. 84), –
– суждено было подвергнуться испытанию, когда он зимой 1898–1899 гг. познакомился с Анной Николаевной Гиппиус, младшей сестрой З. Н. Гиппиус. Как свидетельствует Брюсов, «Коневской влюбился самым обычным образом и должен был признаться:
Нет! один я – не все мирозданье.
Выйди, мой воплощенный двойник!
В последнем поэт ошибался: та, кого он любил, отнюдь не была “его воплощенным двойником”. Напротив, ей было органически чуждо все особенно дорогое и близкое Коневскому: его миросозерцание, его любимые авторы, его постоянная углубленность ‹…› Любовь поэта-философа не встретила взаимности».[118]118
Брюсов Валерий. Среди стихов. С. 488. Цитируется 5-е стихотворение из цикла «Волнения» (С. 122).
[Закрыть] Осознание того, что «воплощенный двойник» на самом деле таковым не является, привело к прекращению едва завязавшихся отношений: об этом свидетельствует письмо Коневского к А. Я. Билибину (июль 1899 г.), в котором излагаются основные сопутствующие обстоятельства.[119]119
Ср.: «…был еще эпизод в моей жизни, давший несколько глубоко волнующих и возбуждающих минут, но совершенно загадочных последствий. Не знаю, последний ли это отзвук, или отзвук нового. Я сам вызвал его, и, конечно, именно в виду этой же неизвестности результатов. Известной тебе дриаде, А. Н. Г., я отправил письмо. В нем означалось, “что перед тем, чтобы окончательно отречься от личного с ней общения, не могу не высказать ей несколько прощальных слов”. Далее мотивировалось такое заявление тем, что мне слишком тяжело являться перед открытой, звонкой силой ее души, тела, когда те же самые мысли и чувства, которые высказывались в стихах, ей посвященных, и в письме, их сопровождающем, из быстрых, прозрачных, играющих на свете солнца струй обратились в необъятные мутные дымки, и это – несмотря на то, что они не перестают носиться в моей душе такими смутными, светлыми облаками. Потом выражалось, что ей предстоит большая бурная борьба в широкие дни и яркие ночи. Это – борьба, конечно, за новые ощущения жизни, за расширение каждого мгновения в бесконечность, против Времени и всякой ограниченности. ‹…› В эти слова вплетались некоторые общие мысли о существенных направлениях борьбы с личной ограниченностью и разграниченностью предметов (то есть с Пространством и с Временем). Заканчивалось письмо выражением надежды на то, что она не откажется всегда считать меня своим другом. На это письмо последовал ответ, замечательный по цельности мировоззрения и отчетливой явственности его выражения. Моим мыслям о вмещении всего частного, что было и есть в жизни личности, в одном миге (преодолении времени вдоль) и перевоплощении личности во все окружающее (преодоление времени поперек) противопоставлялось учение о познании вечного и единого во всем множестве частных изменений, одностороннее, но всегда, конечно, великое. Изложение этих мыслей сопровождалось выражением неприятного удивления перед моим решением отречься от личного с ней общения и надеждой на дружеское с ее стороны расположение: “Это противоречие – объясните” ‹…› В ответ на это письмо я распространился в самых обстоятельных рассуждениях о своем мировоззрении – совмещении всех противоположностей мышления. ‹…› В заключение я указывал на настоятельную, несмотря на все, необходимость отстраниться от личного знакомства: ссылаясь на прекрасное замечание ее: “поймите, какая огромная разница – понимать и переживать”, я говорил: быть может, мы оба слишком далеки от переживания того, что мы понимаем; и нам слишком стыдно за свое настоящее перед обетованиями будущего» (цитируется по копии, восходящей к собранию Н. Л. Степанова).
[Закрыть] Несколько стихотворений Коневского, отразивших эти переживания, несут на себе отпечаток внутреннего драматизма:
Я расточал блага своих мечтаний,
Я в тысячи лучей их разбивал.
Построил много радужных я зданий –
И ветер жизни в прах их развевал
(«Волнения», II; 1899). (С. 121–122), –
однако эти ноты не вносят кардинального разлада в общую систему мировидения. Строки из цитировавшегося выше стихотворения «Многим в ответ»: «Но девы лик и сны вселенной – братья: // К единому всё диву я парил» – ознаменовали разрешение обозначившейся личной коллизии: «девы лик» поглощался «единым дивом»; следующие строки того же стихотворения: «Так – обнимусь я с женской красотою, // Но через миг – с горой или с ручьем» – уже намечали иерархию ценностей, в которой экстазы, переживаемые при соединении с природой, определенно обретали высший статус. «Человеческие чувства вообще исключены из его поэзии», – утверждал А. А. Смирнов, безусловно, доводя до крайности свои выводы о тех психологических изъянах, которые он подмечал в личности Коневского, и продолжал: «Можно кратко и полно обозначить болезнь Коневского двумя словами: отрицание плоти. Отрицание плоти, а следовательно и всей вообще личной, реальной жизни – главный мотив его творчества. ‹…› Наша литература хорошо знакома с чувством вражды, борьбы против плоти, но такого спокойного и искреннего отрицания, игнорирования ее никогда еще не бывало. И рядом с этим бесстрастным философским отрицанием в душе Коневского уживалась не менее искренняя, не менее глубокая любовь к жизни».[120]120
Смирнов А. Поэт бесплотия. С. 82, 83.
[Закрыть] Во всеохватном и безраздельном приятии жизни возможность слиться «с горой или с ручьем» компенсировала драматическую отчужденность поэта от многих иных составляющих благого всеединства.
Среди «обширных всезрелищ»,[121]121
Формулировка из фрагмента «Ильменау и дух зрелого Гёте» (Мечты и Думы Ивана Коневского. С. 112).
[Закрыть] открывавшихся благодарному взору Коневского, созерцания феноменов природы вызывали у него наибольшее воодушевление. Он погружался в царство природы с подлинной страстью, и оно представало перед ним всеми своими глубинами и тайнами, резонировавшими в унисон с вибрациями его самопознающего духа. В этих восприятиях сочетались, по наблюдению Н. О. Лернера, «мудрость старца и joie de vive <жизнерадостность> ребенка»;[122]122
Письмо Н. О. Лернера к В. Я. Брюсову от 8 мая 1904 г.; приведено в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 173).
[Закрыть] натурфилософские аналитические рефлексии претворялись в литургическое священнодействие, вдохновленное ощущением слияния со стихийной мировой жизнью. Менее всего стихи Коневского, воплотившие отмеченные особенности его личности, соответствуют привычным стандартам «пейзажной», природоописательной лирики. Цель поэта-«любомудра» – не описать, а постигнуть, охватить синтезирующими усилиями сознания то, что явлено в непосредственном чувственном восприятии. Приближение к сокровенной сути мироздания, предстающей как торжество высшей упорядоченности, метафорически реализуется у него в равной мере воспарением в высшие сферы отвлеченного созерцания и погружением в хаотическую толщу органического мира, воспетым в большом стихотворении – своего рода натурфилософской оде – «Дебри»:
Извивы троп, глубины кущ
Моей душе всего милей –
Святилища дремучих пущ,
Где я пугливей и смелей:
Ничто здесь явно не лежит.
Все притаилось за углом,
И чутко сердце сторожит
Нежданный, странный перелом.
(С. 107)
В своих наблюдениях за природной циркуляцией поэт уже использует ту микроскопическую оптику, которую впоследствии возьмет на вооружение Н. Заболоцкий, созерцая «природы вековечную давильню».[123]123
Параллели между двумя поэтами устанавливает Дж. Д. Гроссман, сопоставившая, в частности, стихотворение Коневского «Призыв» с «Метаморфозами» Заболоцкого (Grossman Joan Delaney. The Transformation Myth in Russian Modernism: Ivan Konevskoi and Nikolai Zabolotsky // Metamorphoses in Russian Modernism / Ed. by Peter I. Barta. Central European University Press, 2000. P. 41–60).
[Закрыть] И вместе с тем «дебри» открывают Коневскому за видимой суетой и разноголосицей надмирный, космический строй и согласие; микрокосм преображается в макрокосм:
Покой и жизнь – на всем окрест.
Трава растет, и корни пьют.
Из дальних стран, из ближних мест
Незримые струи снуют.
То углублюся я в траву –
Слежу букашек и жуков;
То с неба воздух я зову,
Лечу за стаей облаков…
<… >
Брожу в сиянии немом,
Пугливо ждущем торжестве.
И явствен свет, и незнаком.
И замер чуткий дух в траве.
Свершится! – шепчет чуткий дух.
Раскрылся радужный чертог.
И так прозрачен мир вокруг,
Что за стволами – некий бог.
(С. 107–108)
Тот же лад и строй, раскрывающийся при созерцании природных явлений, видится Коневскому, когда он осмысляет мир человеческих связей, воплощающийся в истории, современности, мифологических и эстетических образах. Общий метафизический ракурс, характерный для всех его жизненных восприятий, закономерно сказывается и при обращении к этим сферам. Более всего он ценит органическую культуру, развивающуюся преемственно и самопроизвольно, постепенно реализующую заложенные в ней животворные потенции, и соответственно с неприязнью относится ко всем формам искусственной стимуляции роста и преобразовательным экспериментам. В этом отношении характерно убежденное неприятие Коневским своего родного города: Петербург чужд ему своей умышленностью и сконструированностью. «Но чтό увидишь ты, попав на проезжие улицы невской столицы? – риторически вопрошает он А. Я. Билибина (5 июня 1900 г.). – Убийственно прямые и длинные, пересекающиеся под прямым углом и зияюще-широкие мостовые между домами, которым подобных по пошлому уродству не найти ни в одном западноевропейском или русском городе ‹…› в то время как Москва и германо-романские средневековые города свиваются как гнездо, внутри их чувствуются живые недра, взрастившие и питающие их, обаятельны затаенными завитками и уголками своих закоулков, Питер весь сквозной, с его прямыми улицами, проходящими чуть не из одного конца города в другой; внутри его тщетно ищешь центра, сердцевины, в котором сгущались бы соки жизни, внутри – зияющая пустота, истощение».[124]124
Писатели символистского круга. С. 184. Ср.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…» М., 1987. С. 139–140.
[Закрыть] Образ «демонического» Петербурга воссоздается в стихотворении «Убийственный туман сгустился над столицей…», в котором, однако, пугающие фантомы в конечном счете лишь оттеняют и на свой лад утверждают всеблагое начало, выявляя свою неподлинную сущность:
Ты – в мире демонов, зловонных и холодных,
И в их руках теперь – теснящая судьба.
Но сущий – ты один, создатель чар природных
И тех же демонов, чтоб с ними шла борьба.
(С. 149)
Столь же искусственными, идущими вразрез с определившимися формами общественного мироустройства представляются Коневскому попытки изменить это мироустройство организованными волевыми усилиями. От радикальных политических устремлений своего времени он далек; во время студенческих волнений, охвативших в 1899 г. Петербургский университет, чувствует свою глубокую отчужденность от основной массы однокашников, не в состоянии разделять их эмоции, но и репрессивные действия со стороны властей решительно не приемлет:
Кто вы, откуда вы, юноши бледные?
Что вы беснуетесь в чахлом весельи?
Иль закручусь я и с вами в метели,
И увлекусь в эти шумы бесследные?
Шутки докучные, буйства печальные,
Но и зачем же гоненья ненужные?
(«Zeitgedichte», I. «Сумятица»). (С. 190)
Невосприимчивый к вирусу социально-политической активности, Коневской, однако, выказывал живой, но при этом вполне отстраненный интерес к многоразличным формам общественной жизни – в аспекте общего преклонения перед разнообразными яркими манифестациями витального начала, перед «биениями жизни». Самое законченное выражение этого начала он видит в поэзии Верхарна; в ней – «ожесточенная воля художника-эпика, художника-ваятеля, борющегося с расплывчатостью жизни, да и в среде жизненных явлений избирающего для изображения лишь проявления стихийной или волевой мощи»; в ней и новое совершенное воплощение национального фламандского типа, преодолевающее, разумеется, в восприятии Коневского свои конкретно-исторические очертания и благодаря творческой силе мастера обретающее высший смысл: «Вергэрен – достойный преемник Рубенса, Тениерса и Иорданса по преображению родного народа своего в вечное знамение буйного потока плоти. ‹…› Но живой энергией, сообщенной ему лоном того же родного края, он, конечно, неизмеримо вырастал из граней этого быта, и перед порывом этой энергии должны были расступиться стены и плетни фламандских сел. В тоске сумеречных осенних полей он вы´носил страстную мечту о борьбе самовластной воли с ширью мира».[125]125
Коневской И. Стихотворная лирика в современной французской поэзии // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 13, 14, 15 об.
[Закрыть] Столь же высоко, как и Верхарна, Коневской ценит и почитает гораздо менее знаменитого поэта-современника – Франсиса Вьеле-Гриффена, активно разрабатывавшего в своем творчестве легендарно-исторические и фольклорные сюжеты: «Вьелэ-Гриффин обаевает меня сочетанием тонкой сложности и углубленности мысленных мотивов с изобилием образов, подчас – задушевных, нежных, подчас – державно-великолепных».[126]126
Письмо Коневского к В. Я. Брюсову от 6 января 1899 г. // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 450.
[Закрыть] Ощущение полноты и насыщенности жизни привлекает Коневского в молодом Андре Жиде (совершенно еще неизвестном в России в 1890-е гг.); он переводит фрагмент из его книги «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897; у Коневского: «Земные кормы»), с похвалой отмечая, что в ней «этот отрешенный от мира умозритель воодушевляется верой в телесные ощущения жизни, и строгая и свободная душа его страстно разливается в самых явных, очевидных ощущениях сознания и тела, ликуя поет, превознося надо всем воображаемым и умственно созерцаемым каждое мгновенное прикосновение жизни к организму человека».[127]127
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 9–9 об.
[Закрыть] С воодушевлением откликнулся Коневской и на прочитанную им в рукописи поэму Брюсова «Царю Северного полюса», воспевающую плавание викингов в полярных широтах: в ней его привлекает «ширь горизонта и размах воздуха», а также «полная гармония этих свойств с крайней яркостью и пластичностью образов».[128]128
Письмо к В. Я. Брюсову от 24 октября 1899 г. // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 472.
[Закрыть]
Завороженность интенсивностью и безбрежностью проявления созерцаемых мировых сил влечет Коневского от форм индивидуального творческого самовыражения к эпическим картинам, которые наиболее полно и ярко разворачиваются для него в отдаленных исторических временах и в мифологической перспективе. В этой устремленности вновь сказывается оппозиция поэта по отношению к преобладающим в общественной психологии и литературе конца века сумеречным, пессимистическим и «декадентским» настроениям: «безгеройному» времени он противостоит манифестацией героического начала, прославляет ясность и бодрость духа. Знаменателен эпиграф, который он предпослал своим записям «Дума, сердце и размахи. Некоторые размышления», относящимся еще к зиме 1893–1894 гг.: «И в героическом, удалом движении заиграл луч вечной идеи» – из стихотворения «Теперь и всегда» («Ora e sempre») Джозуэ Кардуччи.[129]129
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1 об.
[Закрыть] «Удалого движения» исполнены фольклорно-мифологические герои, которых Коневской увлеченно живописует («Старшие богатыри»), и исторические пращуры («Варяги», «Среда»). Соответственно и в современном русском изобразительном искусстве наибольшего внимания у него удостаиваются В. Васнецов и М. Нестеров, вдохновивший его на стихотворный диптих «Образы Нестерова», а также М. Врубель как автор картины «Микула Селянинович и Вольга Святославич»: «Проникновенный и необъятный символизм стихийной былины запечатлен на этом холсте с мощью каких-нибудь доисторических исполинов, переворачивавших камни».[130]130
Запись от 3 сентября 1896 г. // Там же. Ед. хр. 16. Л. 40.
[Закрыть] Концентрируется мифотворческая энергетика Коневского, опять же, в тех культурно-географических сферах, которые обозначены избранным псевдонимом. «Варяжское» и «славянское» начала переплетаются и обогащают друг друга на финской почве, ему интимно близкой («древний город края моих праотцев»,[131]131
Письмо к А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. // Писатели символистского круга. С. 175.
[Закрыть] – говорит о Выборге он, правнук выборгского губернатора). Финский национальный эпос «Калевала» – один из вдохновляющих источников для его стихотворных вариаций.[132]132
Подробнее см.: Grossman Joan Delaney. 1) Ivan Konevskoi’s Metaphisical Journey to Finland // Studia Slavica Finlandensia. T. XVI / 2. Школа органического искусства в русском модернизме. Сб. статей. Helsinki, 1999. P. 104–119; 2) From the Finland Station: Ivan Konevskoi // Twentieth-Century Russian Literature. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies. New York, 2000. P. 6 – 15; Hellman Ben. On Ivan Konevskoi’s Finnish Roots // Aspekteja. Slavica Tamperensia. V. Tampere, 1996. P. 95 – 100.
[Закрыть] Самый живой отклик в его душе находят и картины северной природы; с нею Коневской чувствует глубокую внутреннюю связь, истоки которой он прозревает в глубинах родовой истории:
И в луче я все солнце постигну,
А в просветах берез – неба зрак.
На уступе устой свой воздвигну,
Я, из-за моря хмурый варяг.
(«С Коневца»). (С. 95)
3
31 июля 1901 г. Н. Г. Дьяконов, зять Ореуса-отца (муж его сестры), писал Брюсову: «Знакомый Вам Иван Иванович Ореус после последнего письма его из Риги от 8 июля не давал о себе знать ни отцу своему, генералу Ореусу, ни мне, его дяде. Наводя всюду справки, генерал Иван Иванович Ореус поручил мне запросить Вас, не получали ли Вы каких-либо известий за последнее время от его сына».[133]133
Ямпольский И. Г. Письма А. Миропольского к И. Коневскому // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. С. 22.
[Закрыть]
Последнее письмо Коневского, сохранившееся в архиве Брюсова, датировано 21 апреля 1901 г.; видимо, Брюсов и оповестил об этом Дьяконова, прося одновременно сообщить о результатах предпринятых поисков. 10 августа Брюсову написал Ореус-отец: «Согласно желанию вашему, уведомляю о трагической судьбе, постигшей моего сына, – он утонул, купаясь в р<еке> Аа, в Лифляндии. Вы его знали и ценили. Прошу вас – если вы человек верующий – помолиться о его детски-чистой душе».[134]134
Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 534.
[Закрыть]
Обстоятельства гибели установил Дьяконов, отправившийся на поиски по следам предполагаемого летнего маршрута Коневского. В предисловии отца к посмертному сборнику произведений сына об этом говорится: «Коневской скончался 8 июля 1901 года, 23 лет от роду ‹…› Как и в предыдущие года, в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие (“странствие”, как говорил он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться… и утонул.
Все эти подробности выяснились, конечно, позже, так как свидетелей его смерти не было. Тело Коневского было найдено через несколько дней и предано земле местным лютеранским пастором. Только после усиленных розысков отцу удалось узнать о судьбе единственного сына… Немецкая аккуратность местных властей сберегла все оставшееся от неизвестного покойника: одежду, вещи, бумаги. По этим признакам узнали безымянное тело и восстановили события последнего дня.
Останки И. Коневского были вторично преданы земле уже по православному обряду. Особого православного кладбища в Зегевольде не оказалось. Тело Коневского было положено в лесу, прекрасно содержимом. ‹…› Коневской любил лес, любил ветер; лесу и ветру посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в лесу и, при чудной, ясной погоде, бушевал сильный ветер. Скромная могила осенена кленом, вязом и березой».[135]135
Коневской Иван. Стихи и проза. С. X–XI.
[Закрыть]
Некоторые дополнительные штрихи можно почерпнуть в воспоминаниях О. В. Яфы-Синакевич: «Иван Иванович погиб жертвой своей рассеянности, – друзья не доглядели таки за ним: возвращаясь со свадьбы одного из них (А. Ф. Каля ‹…›), он спохватился в пути, что забыл у него свой паспорт, и вышел на небольшой станции (Зегеволь<д>), чтобы тотчас за ним вернуться. В ожидании обратного поезда, он сдал вещи на хранение и пошел купаться. Предполагают, что он увлекся и зашел слишком далеко. Может быть, он слагал стихи в свои последние минуты и, в экстазе вдохновенья, нечаянно, по рассеянности, перешел в вечность… ‹…› На берегу была найдена его одежда, а сданный на хранение чемодан оказался наполненным его рукописями».[136]136
Синакевич О. В. Жили-были. Воспоминания. Тетрадь 10-я. Ч. III. Юность 1894–1900 гг. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 26 об. – 27. В другом фрагменте своих воспоминаний Яфа-Синакевич приводит сведения о Коневском, взятые из письма В. Ф. Штейн: «Помню еще, что когда Ореус пропал без вести, Дьяконов поехал разыскивать его – и узнал его только по зубам и особому строению его лба, настолько уже было сильно разложение, когда его выкопали из земли» (Там же. Ед. хр. 355. Л. 84).
[Закрыть]
Отсутствие очевидцев гибели и реконструкция картины происшедшего по косвенным признакам и свидетельствам невольно вызывали подозрения относительно того, не был ли уход поэта из жизни сознательным. «Тогда же, – вспоминает Маковский, – пошел слух в литературных кругах: Коневской не утонул случайно (хотя река Аа и славится опасными водоворотами). Нет, он погиб добровольно, ушел из мира плоти (как истый романтик), плывя до потери сознания, до блаженного обморока, отдавая себя под рассветным небом возлюбленной стихии. Мечта поэта обратилась в его “безумие”. Стала явью, бессмертной в смерти». «Это миф, разумеется… – отвечает на давние пересуды сам Маковский. – Разве поэты такого духовного закала и такой религиозной озаренности кончают самоубийством?»[137]137
Маковский Сергей. Портреты современников. С. 426. Ср. письмо Н. М. Минского к Л. Н. Вилькиной (Берлин, 19 октября 1901 г.): «Меня глубоко поразила смерть Ореуса. Помнишь последние строки его поэмы, кот<орая> кончается словами “И живы пращуры мои”? Он как будто пророчески предвидел свою смерть. Утонул он или утопился? Где? Когда?» (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 884. Подразумеваются строки из стихотворения «Дебри»: «Влечет болотистый ручей // В меня студеные струи…»). Миф о самоубийстве оказался живучим: более чем сто лет спустя можно встретить упоминание о «ритуальном самоубийстве» Коневского (Пискарев В. А. А. Блок и европейское средневековье. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Иваново, 2007. С. 10).
[Закрыть] Действительно, думается, что достаточных оснований для версии о внезапном суицидном озарении, охватившем Коневского, не имеется: она решительно не согласуется с определяющими чертами мировоззрения и психологического облика поэта. Напротив, смерть в результате какой-то несчастной и непредвиденной случайности представляется объяснимой и в известном смысле даже закономерной: зафиксировано несколько эпизодов, в которых непрактичный, неприспособленный к жизненным условиям, рассеянный и погруженный в себя Коневской ненароком оказывался в опасном, угрожающем положении.[138]138
Например, в воспоминаниях О. В. Яфы-Синакевич излагается (со слов А. Я. Билибина) такой эпизод: «…за границей Ив<ан> Ив<анович> в гостинице писал ночью стихи при раскрытом окне, причем свечу поставил так, что загорелись тюлевые занавески, чего он, в пылу вдохновения, не замечал, несмотря на крики толпы под окном, пока пожарный не влез через окно к нему прямо на стол, за которым он сидел…» (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 21).
[Закрыть]
В русской печати гибель Коневского осталась почти незамеченной. В разделе «Некрологи» журнала «Литературный Вестник» появилось краткое сообщение с двумя ошибками в двух строчках текста: «Иван Коневский <так!>, поэт-символист, по образованию филолог Московского университета <так!>, утонул летом в р. Аа (в Лифляндии)».[139]139
Литературный Вестник. 1901. Т. II. Кн. VIII. С. 380.
[Закрыть] Оплакивали поэта, кроме родных, лишь немногие ценители его творческого дара в кругу писателей-символистов, а также близкие друзья и товарищи по университету. В мемуарах Яфы-Синакевич приведено незамысловатое, но продиктованное искренним чувством стихотворение Марии Станюкович «Памяти И. И. Ореуса (Ивана Коневского)»:
Он плавал в воде в день таинственно-жаркий,
Его унесла серебристо-седая волна.
И солнечный луч – и палящий, и яркий
Его озарил пред лицом благодатного сна.
Он юноша светлый с изысканной странностью думы,
Он юноша вещий, исполненный трепетных сил.
Его оглушили небесные, долгие шумы,
Он, тихий и ясный, в глубоких волнах опочил.[140]140
РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 27 об.
[Закрыть]
Стихотворение Брюсова «Памяти И. Коневского», датированное 3 октября 1901 г., написано непосредственно вслед за получением письма Ореуса-отца (от 29 сентября) с рассказом о вторичном погребении сына «по православно-христианскому обряду»;[141]141
См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 536.
[Закрыть] скорбно-поминальные формулы отступают в нем перед торжественным прославлением духовного величия ушедшего поэта:
Ты просиял и ты ушел, мгновенный,
Из кубка нового один испив.
И что предвидел ты, во всей вселенной
Не повторит никто… Да, ты счастлив.
Лишь, может быть, свободные стихии
Прочли и отразили те мечты.
Они и ты – вы были как родные,
И вот вы близки вновь, – они и ты![142]142
Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 352.
[Закрыть]
Существует множество свидетельств того, насколько глубоко пережил Брюсов трагическую гибель Коневского, насколько большие надежды он возлагал на дальнейший рост его творческой личности. В «Мире Искусства» Брюсов опубликовал некрологическую статью «Мудрое дитя (памяти И. Коневского)»,[143]143
Мир Искусства. 1901. № 8/9. С. 136–139.
[Закрыть] ставшую основой для его последующих очерков о поэте (наиболее развернутый был помещен в 1918 г. в 3-м томе «Русской литературы XX века» под редакцией С. А. Венгерова). По инициативе Брюсова было предпринято посмертное издание сочинений Коневского. Осуществлялось оно в сотрудничестве с генералом Ореусом и с помощью Н. М. Соколова, одного из близких друзей покойного, которому были предоставлены для работы над книгой творческие рукописи поэта. Предложение подготовить для издательства «Скорпион» посмертный сборник было сделано сразу же после получения известия о смерти Коневского (в неизвестном нам письме Брюсова к Ореусу-отцу, на которое тот откликнулся 29 августа 1901 г.[144]144
См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 534.
[Закрыть]). Работа над книгой затянулась на два года. По первоначальному замыслу Брюсова, который он изложил осенью 1901 г. в письме к Н. М. Соколову, она предполагалась более объемной и многосоставной, чем тот сборник, который увидел свет и вобрал в себя большинство стихотворений Коневского и лишь малую часть написанного им в прозе: «… не начнете ли Вы уже теперь розыски писем Ив<ана> Ив<ановича>, из которых многие непременно должны бы войти в сборник? ‹…› Далее, не пора ли уже составлять те “воспоминания” и “характеристики”, которые мы приложим к изданию? Кто именно предлагает их? Вы, Семенов, Конради – трое? или еще кто? Вот что мне кажется самым первым делом. Во всяком случае раньше осени 1902 года нельзя надеяться напечатать книгу, значит время есть. Хорошо бы весь матерьял собрать (хоть не переписанным) к середине декабря. Я буду в Петербурге, и мы могли бы устно и сообща распределить между собой работу. По моим представлениям книжка могла бы быть тогда составлена в рукописи к марту или апрелю».[145]145
ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 42.
[Закрыть] Ни по срокам, ни по составу задуманного издания воплотить этот план не удалось. 18 марта 1902 г. Брюсов писал тому же адресату: «Я видел Вашу работу над книгой Коневского. Кажется мне, это то самое, что нужно. Если Вам это дело по сердцу, – продолжайте его. Вам, вероятно, уже указали на замеченные мною (конечно, случайно) варианты, Вами не отмеченные, в длинненьком альбомчике у Ив. Ив. Ореуса-старшего. Этот альбомчик следовало бы использовать. Раньше лета приступать к печатанию не придется. Но соберем ли мы матерьялы к тому времени?»[146]146
Там же.
[Закрыть] Но и ровно год спустя дело существенно не продвинулось. В письме к Н. М. Минскому от 18 марта 1903 г. Брюсов сетовал на нерасторопность издательства «Скорпион»: «Друзьям Ореуса-Коневского обещали издать его посмертный сборник (кстати – это десятое обещание) два года назад, а тоже еще не начинали…»[147]147
Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 664–665 / Публикация Э. С. Литвин.
[Закрыть]
Выход в свет «Стихов и прозы» Ивана Коневского в последние дни декабря 1903 г. вызвал несколько печатных откликов. В изданиях, занимавших в целом негативную позицию по отношению к «новому» искусству, формулировка на титульном листе «Посмертное собрание сочинений» лишь в малой мере сумела приглушить негодующий пафос критиков-«традиционалистов». Более других готов был считаться с указанным обстоятельством анонимный рецензент в «Русской Мысли»; по его мнению, «книга эта не может иметь литературного значения», она – «только история исканий рано умершего человека, и только в этом смысле, в смысле документов, рисующих историю тяжелых душевных усилий, она интересна», в целом же «личность автора остается неясной и непонятной»: «Если вглядеться в отрывистые, угловатые стихи, в прозу, какую-то лихорадочную, тяжелую, видно только одно: мы, читатели, как бы присутствуем при ряде тяжелых, трудных опытов, которые производил над собой остро мыслящий человек с целью найти, определить самого себя и свой путь».[148]148
Русская Мысль. 1904. № 6. Отд. III. С. 172.
[Закрыть] Н. П. Ашешов, снисходительно отозвавшись о прозе Коневского («Тут хоть что-нибудь можно понять. И мы должны признать, что у молодого автора было несомненное критическое чутье и искренность»), в оценке его стихов беспощаден: «чепуха, в которой разобраться может только модернист, освободившийся от законов восприятия, мышления, умственных понятий и т. д.»[149]149
Образование. 1904. № 3. Отд. III. С. 137.
[Закрыть] Наконец, поэт и консервативный публицист Николай Матвеевич Соколов в своем отзыве счел необходимым отмежеваться от составителя посмертного сборника, Н. М. (Николая Михайловича) Соколова, а при аттестации стихов Коневского не пожалел бранных слов («глупая белиберда», «предел глупости», «вымученная и кривляющаяся изломанность»): «Какими идиотами надо считать читателей, чтобы издавать и пускать в продажу эту неутомимую и ожесточенную чепуху!»[150]150
Русский Вестник. 1904. № 6. С. 740, 742.
[Закрыть]
Наряду с этими вердиктами появились, однако, и аналитические характеристики творчества Коневского, продиктованные стремлением понять и беспристрастно оценить его своеобразие и художественную значимость. А. А. Смирнов, в 1900-е гг. начинающий поэт и критик из круга петербургских модернистов, а впоследствии видный филолог, историк западноевропейских литератур, в статье «Поэт бесплотия» отметил «редкий, исключительный талант», проявляющийся «в острой сознательности, разумности» его поэзии: «Но эта сознательность – не обыкновенный, будничный рационализм. Принимая безудержный, стихийный характер, она достигает у него сверхчеловеческой силы. Природа, жизнь совершенно преображаются в его творчестве. Это – какая-то новая, мистическая натурфилософия, с ее своеобразным, поражающим “разумом” гор, моря, городов…»[151]151
Мир Искусства. 1904. № 4. С. 81–82.
[Закрыть] Вместе с тем Смирнов осознает внутреннюю недостаточность, ущербность такого всеобъемлющего разума: «Этот холодный, мертвенный разум, эта попытка диалектики разрешить живой разлад едва ли кого удовлетворит» – и идет от такого осознания к предположению о том, что у Коневского не было внутренних потенций для разрешения противоречий, заложенных в его мировоззрении и творчестве (среди которых важнейшее – противоречие между глубокой любовью к жизни и «отречением от плоти»), что его индивидуальность окончательно сформировалась и воплотилась: «…ясно видно, как он все более замыкался в своем кругу. Какой-то рок, казалось, завладел им, и неожиданно ранняя смерть его не удивляет, не возмущает. Заметно, как творчество Коневского слабеет в последние два года его жизни. Он совершил свой малый круг, и совершить другой, более великий, ему не было дано».[152]152
Там же. С. 83.
[Закрыть]








