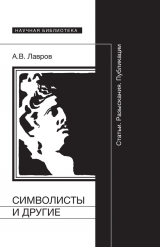
Текст книги "Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации"
Автор книги: Александр Лавров
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Уже в этом фрагменте сказывается характерная особенность мировидения Коневского – отсутствие локализованных, дискретных описаний и впечатлений (от отдельных зданий, улиц, памятников и т. п.) и обобщенный характер наблюдений и размышлений; все частности и конкретные детали, фиксируемые воспринимающим сознанием, суммируются в некий единый образ, который воссоздается посредством дефиниций, позволяющих сквозь совокупность внешних обликов уловить и осязать некую абстрактную историко-культурную модель. От непосредственных восприятий мысль Коневского неизменно устремляется к наблюдениям историософского характера, к размышлениям, уводящим в сферы этнического, национального и культурного генезиса. Несколько таких фрагментов, в значительной части извлеченных из записных книжек, составили в посмертном издании сочинений Коневского разделы «Русь (Из летописи странствий)» и «Мысли и замечания».[203]203
См.: Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. 190–195, 220–232.
[Закрыть] Целый ряд путевых заметок, содержащихся в записных книжках, Коневской включил в «Видения странствий» и «Умозрения странствий», иногда лишь с небольшими стилевыми и смысловыми изменениями и дополнениями, иногда в переработанном и более развернутом виде. Некоторые весьма содержательные фрагменты, однако, не были им доведены до печати. Так, записи, относящиеся к летнему путешествию 1897 г. («Летопись странствия. I. 4 – 28 июня»[204]204
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 2 об.
[Закрыть]) и имеющие поначалу отрывочный регистрационный характер («Переезд Петроград – Варшава», «Луга», «Псков», «Вильна», «Гродно»), включают фрагмент, суммирующий первые впечатления от впервые увиденных краев, которые служат в то же время своего рода трамплином для сугубо умозрительных построений:[205]205
Там же. Л. 8 об. – 11.
[Закрыть]
Варшава. Западной Европой пахнуло, буквально – пахнуло; на улицах почувствовался европейский запах, составленный из неуловимых оттенков. Дома тоже слажены и отделаны так, что чувствуется – здесь народ, у которого природная стихия – строительство, мастерство, рукомесленничество; в то время как даже в Петербурге дома лишь в единичных случаях не отличаются[206]206
Надписан вариант: отдают
[Закрыть] хоть чуть-чуть чем-то неуклюжим и аляповатым. ‹…›Польша – страна зеленовато-белая, страна бледно-зеленых ив и тополей, свесившихся над мутно-белыми реками.
Висла – река желтая – бело-желтая.
Литва – страна темно-зеленая и желтая, страна свежих, приветливых дубов, кленов, вязов, кудрявых лиственных лесов ‹…› С ними хорошо гармонируют сочные и пушистые звери – медведи, куницы. Она вольно и тихо переливается в угрюмое, серовато-бурое Полесье, страну мутей, гатей, тощих и длинных сосен.
Варшава – город грациозный, добродушно-щегольской, игривый, влюбчивый и легкомысленный,[207]207
Далее в автографе пробел (предполагалось вписать дополнительные характеристики).
[Закрыть] цвета побуревшего золота. Удаль поляка – его щегольство; великорусской неистовой удали в нем гораздо меньше, или, по крайней мере, нет у него в ней той сиволапости, которая сказалась у нас в кулачных боях с рукавицами среди снеговых сугробов или охоте на медведей с рогатиной. Польская натура готова скорее усвоить себе тонкое рыцарское копье и шпагу, ловкость и отвагу, славянская же беззаветная удаль сказалась у ней преимущественно в залихватских танцах, как мазурка. У нас гусарский пошиб воплотил в себе черты польской, очень родственной ей венгерской, и великорусской удали. В поляках также бесконечно меньше также (sic! – А. Л.) русской тоски и недоумевающего, растерянного искания, кроткого и равнодушно-грустного русского скептицизма, столь отличного от французского – мальчишески-задорного и самотешащегося скептицизма.
В «Видения странствий» и «Умозрения странствий» Коневской включил те описания и рассуждения, которые или были индифферентны в оценках по отношению к объектам восприятия, или выражали приподнятое эмоциональное настроение путешественника, восхищавшегося и вдохновлявшегося увиденным. Эмоции и аттестации критического и порой негативного толка не были допущены автором в его «Мечты и Думы». Тем не менее они возникали в ходе путешествий по Европе и нашли свое отражение в записных книжках. Безусловно, Коневской считался с тем, что определяется современным словечком «политкорректность», когда решил воздержаться от включения в книгу, например, записи, сделанной в Базеле в июне 1898 г.:[208]208
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 5 об. – 6.
[Закрыть]
Дух зодчества базельских зданий – какой-то попугайно пестрый оттенок в обычной затейливой орнаментировке строений средневековья и века реформации. Пестрота эта придает почти шутовской характер варварским мещанским узорам, разводам и лепным украшениям по стенам зданий. В этом сказывается особенная черточка швейцарского племени – его грузность и неуклюжесть, доходящая до мешковатой иронии над собой. Швейцарские немцы являют до некотор<ой> степ<ени> живую карикатуру германской нации, и эта карикатура сама же себя осмеивает. В крайней вычурности базельских построек узнаешь ту крупицу, которая запала в дух великого базельца Бёклина и не без участия оказалась в создании его великолепно-цветистой в своем роде живописи. В нее же вошло нечто и из базельской goguenardise,[209]209
От франц. goguenard (насмешливый, зубоскал).
[Закрыть] цветистой мясистости, сознательно доводящей себя до крайности и тем хохочущей сама над собой.
Самое развернутое из высказываний подобного рода – запись (19 июля 1897 г.) о Берлине, где Коневской оказался на завершающей стадии своих летних странствий по Германии. Коневской и в ней верен самому себе: он не отмечает ничего конкретного; образ, порожденный созерцанием германской столицы и, безусловно, вобравший в себя размышления и оценки, к тому моменту уже прочно отложившиеся в сознании, – предельно обобщенный, но определившийся в сознании «чувствительного путешественника» совершенно однозначно:[210]210
РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1–4.
[Закрыть]
Берлин – город, в котором осела на иноплеменной славянской почве все отребье – грубое, но здоровое (sic! – А. Л.), деятельная предприимчивая животность германской расы. С этими чертами в теснейшей связи и казарменный, бурбонский дух, проникающий его правительство и население. Дух, создавший Берлин и всосавшийся в жилы его населения, это есть именно дух всяких бродячих подонков общества, пополнявших в XVI в. и во времена тридцатилетней войны ряды ландскнехтов, дух кордегардии и солдатской харчевни, оторванный от всякой племенной почвы и исторических преданий, знающий только алчность на грабеж и удовлетворение животных похотей, и чтущий на свете, как святыню, лишь личность своего вождя: последняя душевная черта была вызвана главным образом, конечно, перешедшим в инстинкт сцеплением чисто корыстных соображений, побудивших их группировать свои мелкие позывы вокруг позывов одного сильного человека – вождя, частью же – естественным удивлением первобытного бродячего дикаря перед всякого рода проявлением физической силы, практического лукавства, настойчивости и выдержки. В сущности, и до сих пор душа Берлина, а через это – увы! – мало-помалу и всей Германии есть лишь стихийное преклонение перед преемниками власти этих диких вождей – прусскими монархами. Только это преклонение и ложится в основу современного берлинского патриотизма, и не имеет никакой органической связи с глубоким самосознанием германского народа, как не имел ее, конечно, и гонор ландскнехтов XVI и XVII вв. В среде того же разноплеменного сброда воинственных авантюристов вскормлен и тот своеобразный берлинский юмор или то, чтó хорошо выражается французским словом goguenardise, мало свойственный вообще германскому народу, но являющийся вполне естественным порождением бесшабашной походной жизни наемных орд.
Пагуба современной Германии, вырывающая ее из благороднейших устоев ее народного прошлого, это – то, что в ней задает тон бездушный Берлин, город мелкодушной и в глубочайшем смысле слова растленной внутренно наемной солдатчины; а понятие о наемности, продажности, всякой – стало быть – бесшабашности и беспринципности, заложено ведь уже в самом слове: солдат, происходящем от Sold – жалованье, харчи.[211]211
Слово «солдат» (нем. Soldat) восходит к итальянскому soldato от soldare – «нанимать» (Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1987. Т. 3. С. 709).
[Закрыть]В глубочайшем родстве с очерченным только что духом Берлина, растлевающим и всю современную Германию, стоит увлечение ее вообще и «молодого Берлина» в особенности нравственной проповедью Ницше. Та ведь мечтает о водворении в целом мире того же бесшабашного военного авантюризма – кулачного права, которое является закваской берлинского населения. Она ставит себе идеалом величайшего в истории изверга-кондотьера, атамана наемных дружин, Цезаря Борджиа, и это вполне естественно приходится по нутру сыновьям поклонников «юнкерского» величия Бисмарков и Вильгельмов I, еще маскировавших свои грубые ландскнехтские души под разными изречениями: «Sprüche» лютеранского благочестия вроде «für Gott, Kaiser u
Vaterland».[212]212
«За Бога, Царя и Отечество» (нем.).
[Закрыть] Да, нравственная проповедь Ницше – самое яркое проявление дикого атавизма, военной одичалости, воцарившейся в современной Германии после военных торжеств 1870 года. И пусть не удивляются многим резким контрастам между безответной, механической дисциплиной прусской солдатчины и необузданным своеволием, обуевающим дух Ницше: ведь от казарменной муштровки, лишь капральской палкой и обаянием предводительского имени связывающей буйного зверя в человеке, один шаг до бесшабашного кондотьерства, ландскнехтства или казачества.Замечательно, что и все почти лирики – провозвестники ницшеанства: Демель, Гауптман, Пржибышевский, Гальбе – порождения того же края, населенного помесью осадков германского племени со славянскими (Шпрэвальд, Лузиция, Силезия, Познань).
Уравнивание в заключительной части приведенного фрагмента германского «ландскнехтства» с отечественным казачеством лишает возможности увидеть в инвективах Коневского проявление специфически российских националистических эмоций. Русской «патриотической» германофобии поэт оставался чужд, – что не мешало ему распознавать среди многообразных ликов, увиденных им в Германии и вызвавших у него подлинное и безусловное преклонение, и тот «ландскнехтский» лик, наглядные проявления которого ему, погибшему в 1901 г., уже не суждено было воспринять.
Иван коневской – полемист
Альманах «Северные цветы на 1901 год» был первым коллективным детищем московского символистского издательства «Скорпион», призванным заявить о «новом» искусстве как сформировавшемся и внутренне консолидированном направлении. Главным инициатором этого и последующих альманахов того же заглавия был Валерий Брюсов. По словам вдовы поэта, И. М. Брюсовой, вспоминавшей в 1948 г. о работе над альманахом, руководителя «Скорпиона», С. А. Полякова, в этом деле занимали в основном вопросы оформления «Северных цветов», «в сборе же материалов, подборе сотрудников и т. д. большую роль играл В. Я. Брюсов ‹…› первый альманах создавался фактически за чайным столом в доме поэта».[213]213
Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала XX века // Книга. Исследования и материалы. Сб. III. М., 1960. С. 308–309.
[Закрыть]
В «Северных цветах» Брюсов стремился сплотить все, с его тогдашней точки зрения, жизнеспособные силы русской литературы, противостоявшие эстетическому и идейному консерватизму. Помимо своего ближайшего московского, «скорпионовского» литературного круга, он намеревался привлечь в альманах петербургских модернистов, поэтов старшего поколения, связанных с традицией «чистого» искусства, и «предсимволистов» (К. К. Случевский, К. М. Фофанов и др.), а также наиболее крупных и талантливых писателей, работавших в реалистической традиции, но многими своими особенностями противостоявших идейному «утилитаризму», «направленчеству» и натуралистической бытописательности (Чехов, М. Горький, Бунин). Объединительный лозунг «Северных цветов» был предельно общим и широким: «Мы желали бы стать вне существующих литературных партий, принимая в свой сборник все, где есть поэзия, к какой бы школе ни принадлежал их автор»,[214]214
Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1901. С. .
[Закрыть] – поэтому и по составу участников первый альманах был довольно пестрым: в нем встретились уже признанные символисты (Бальмонт, З. Гиппиус, Ф. Сологуб) и поэты, не принадлежавшие к школе «нового» искусства, хотя до известной степени и смыкавшиеся с нею (Случевский, Фофанов, М. А. Лохвицкая), а также Чехов и Бунин; начинающие модернисты и такие случайные авторы, как Л. Г. Жданов и А. М. Федоров.
Используя при формировании «Северных цветов» объединительную тактику, Брюсов вовсе не добивался того, чтобы авторский коллектив альманаха воспринимался как некое монолитное единство. Элементы несходства в идейных и эстетических позициях участников, сосуществование различных взглядов на тот или иной предмет он воспринимал как показатель подлинной силы той литературной группы, которая была движущей силой этого начинания, как гарантию ее живых творческих возможностей. Критика, и порой весьма резкая, в адрес представителей «своего» литературного лагеря не исключалась Брюсовым, а даже предполагалась его стратегическими планами: внутренняя полемика могла послужить стимулом к развитию и обогащению духовно-эстетического базиса «нового» искусства. Позднее он шутливо отмечал, что «бранить своих сотрудников ‹…› – давняя привилегия “Скорпиона” (см. “Северные Цветы”)».[215]215
Письмо к К. И. Чуковскому от 16 октября 1906 г. // Чуковский Корней. Из воспоминаний. М., 1959. С. 437; Переписка В. Я. Брюсова и К. И. Чуковского / Вступ. заметка, публикация и комментарии А. В. Лаврова // Контекст – 2008. Историко-литературные и теоретические исследования. М., 2009. С. 303.
[Закрыть] «Искренно высказанное мнение, новое и сознательное, имеет право быть выслушанным», – отмечалось в редакционном предисловии ко второму выпуску «Северных цветов».[216]216
Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902. С. .
[Закрыть]
Уже в первом альманахе Брюсов рискнул напечатать отзыв, вполне согласовавшийся с впечатлениями от «декадентской» литературы тогдашнего подавляющего читательского большинства, – письмо князя А. И. Урусова (1900), в котором книга Бальмонта «Горящие здания» расценивалась крайне отрицательно («Mania grandiosa, кровожадные гримасы ‹…› Книга производит впечатление психиатрического документа»), а об Александре Добролюбове и Брюсове было замечено, что «это уж – начистоту! из клиники душевнобольных».[217]217
Северные цветы на 1901 год. С. 168.
[Закрыть] Там же появилась и полемическая статья И. Коневского «Об отпевании новой русской поэзии», содержавшая возражения на критическое выступление З. Гиппиус в «Мире Искусства».
Иван Коневской, по силе и яркости своих творческих задатков выдерживавший сравнение с самыми крупными мастерами русского символизма, был к тому времени автором книги стихов и медитативной прозы «Мечты и Думы» (1900), изданной незначительным тиражом и не вызвавшей заметного читательского резонанса, и участником коллективного сборника «Книга раздумий» (1900), включавшего подборки стихотворений четырех авторов (кроме Коневского, также Бальмонта, Брюсова и Модеста Дурнова). Стихи Коневского получили к тому времени признание в узком кругу ценителей, среди которых едва ли не самым убежденным и последовательным был Брюсов, всячески содействовавший ему на пути в литературную жизнь.[218]218
См.: Переписка <В. Я. Брюсова> с Ив. Коневским (1898–1901) / Вступ. статья А. В. Лаврова. Публикация и комментарии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 424–532.
[Закрыть] Публикация в «Северных цветах» статьи «Об отпевании новой русской поэзии» стала первым печатным выступлением Коневского в роли критика-полемиста.
Удивительно раннее духовное и творческое самоопределение, редкая в юношеском возрасте эрудиция и глубина познаний рождали в Коневском непререкаемую убежденность в правильности и адекватности своих восприятий и оценок, которая ни в малой мере не корректировалась отсутствием опыта «внешней» литературной деятельности и сколько-нибудь определившейся индивидуальной писательской репутации. Подмеченная Брюсовым «излишняя докторальность, учительность речи – но это от юности»[219]219
Брюсов Валерий. Дневники. 1891–1910. <М.>, 1927. С. 76.
[Закрыть] – парадоксальным образом сочеталась у Коневского с отсутствием навыков общения с людьми. Как утверждает П. П. Перцов, «Коневской был в равной степени застенчив и безмерно самоуверен».[220]220
Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М., 2002. С. 188.
[Закрыть] Эта самоуверенность, которая, возможно, в какой-то мере служила компенсацией поведенческих психологических синдромов, отличает и высказывания Коневского по вопросам, касающимся текущей русской литературы. «Симпатии и антипатии самого Коневского, – продолжает Перцов, – распределялись как-то своеобразно и по мало понятным мотивам. Так, он вдруг возненавидел З. Н. Гиппиус, и в такой степени, что доходил до странных и даже не совсем нормальных поступков: прокрадывался по вечерам (вероятно, отчаянно борясь со своей застенчивостью) на лестницу дома, где жили Мережковские, и подбрасывал к их двери бранные памфлеты на Зинаиду Николаевну ‹…› Трудно решить, чем объяснялась такая идиосинкразия. Правда, Зинаида Николаевна тогда нападала на страницах “Мира Искусства” на “декадентов”, под которыми она разумела всех молодых авторов символической школы, кроме себя. Это разделение на агнцев-символистов и козлищ-декадентов, неясное никому, кроме нее самой, составляло всегда слабую струнку Зинаиды Николаевны ‹…›. Но никто, кроме Коневского, не впечатлялся так этими нападками».[221]221
Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. С. 189.
[Закрыть]
Статья Коневского «Об отпевании новой русской поэзии (Общие суждения З. Гиппиус в №№ 17–18 Мира Искусства 1900 г.)» – единственное доведенное до печати свидетельство этого полемического противостояния. Написана она была по поводу статьи Гиппиус «“Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского», но основного ее содержания – критического анализа пьесы Минского, вышедшей в свет отдельным изданием в марте 1900 г., – не затрагивала. Предметом отповеди Коневского стала данная Гиппиус суммарная оценка современного русского «декадентства». «Я даже не знаю, – писала Гиппиус, касаясь в самой общей форме состояния отечественной литературы, – есть ли у нас “чистые” декаденты и где они. Едва ли может иметь значение поэзия Брюсова, Добролюбова или Бальмонта. ‹…› Но вообще у декадентов, индивидуалистов и эстетов не только нет нового, но даже полное забвение старого, старой, бессознательной мудрости. Они убили мысль совершенно откровенно, без стыда, но не заменили ее “вопросами”, как либералы, а остались так, ни с чем. Это – нездоровые дети, которые даже играть не любят и не ищут игрушек. Их наслаждения, их эстетика не дает им никакой отрады, ибо они не знают ни прошлого, ни будущего, а только более чем – несуществующий – настоящий момент. И все им скучно, бедным, недолговечным детям, все им противно, все не по ним».[222]222
Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 87.
[Закрыть]
Коневской решительно выступил в защиту «нездоровых детей». В новейшей литературе, которую общественное мнение считает «декадентской», он видит «богатые, стремительные и стройные силы», а наиболее красноречивое воплощение наблюдаемых Гиппиус негативных тенденций обнаруживает в ее собственном поэтическом творчестве: «С улыбкой поживем, и увидим, кто кого переживет – печальная ли пестунья, которой совсем нет мочи и тошно тянуть жизнь, ‹…› или балующиеся и беснующиеся ребятишки, которые раздражают ее своими козлиными прыжками».[223]223
Северные цветы на 1901 год. С. 181, 188. Статья переиздана в кн.: Коневской (Ореус) Иван. Мечты и думы. Стихотворения и проза / Предисловие, составление, комментарии Е. И. Нечепорука. Томск, 2000. С. 295–301.
[Закрыть] Развернутая система аргументации, выдвинутая Коневским, произвела впечатление не только на автора «Торжества в честь смерти». Во второй половине февраля 1901 г. Брюсов информировал Коневского: «Перцов пишет мне: “Прочел статью Ореуса “Отпевание”; он сам прислал ее с “добавлением” неистово-яростных “поносных слов” (его терминология, м<ожет> б<ыть>, чрезмерно физиологического характера). Но статья замечательна. И Мережковские и я равно ею пленены (при всем несогласии). Язык косноязычен, мысль – безумна, но сила и меткость исключительна. Я всегда надеялся на Ореуса, не как на поэта”».[224]224
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 525. Брюсов неточно процитировал письмо Перцова от 17 февраля 1901 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 7).
[Закрыть] И далее следовало предложение Коневскому – безусловно, стимулированное отзывом из цитированного письма: «Не предпочтете ли Вы напечатать в “Сев<ерных> цвет<ах>” это “Отпевание” вместо статьи о Лафорге? так как статья о Лафорге может быть напечатана и позже, через год, а “Отпевание” имеет и значение для минуты, надо, чтобы ответ был сказан, когда не замолкла речь, на которую он отвечает».[225]225
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 525. Статья «Предводящий протест новых поэтических движений (Стихи Лафорга)» была впервые опубликована в кн.: Коневской Иван. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904. С. 170–189.
[Закрыть]
Коневской согласился на это предложение. «Мы получили “Отпевание”, – сообщал ему Брюсов в недатированном письме. – Но где же прибавленные “поносные слова”? где то, что прибавлено после статьи ее о А. М. Д<обролюбове>? Если это есть, пожалуйста, пришлите скорей». 3 марта Коневской отвечал: «Дополнение pro domo sua печатать лишнее: оно было написано, чтоб отвести себе душу»,[226]226
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 527.
[Закрыть] – но в следующем письме все же привел «Дополнительную заметку», пояснив, что «это – краткое извлечение и развитие мыслей, касающихся собственно А. М. Д. Все остальное, как сказано, pro domo sua».[227]227
Там же. С. 529.
[Закрыть] Эту заметку Брюсов в «Северных цветах» не опубликовал: помимо критики в адрес Гиппиус, она содержала также негативную оценку «Мира Искусства» в целом (литературный отдел которого «давно являет зрелище пустыни») и его ближайших сотрудников, и столь однозначно резкие выпады были сочтены, по всей видимости, для печати непригодными.
«Дополнительная заметка» в основной своей части представляла собой краткую версию сравнительно пространного текста под заглавием «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua», над которым сделана помета: «Дополнение» (подразумевается – дополнение к статье «Об отпевании новой русской поэзии»). Написано было это «дополнение» по выходе в свет январского номера «Мира Искусства» за 1901 г., в котором была помещена статья Гиппиус «Критика любви. Декаденты-поэты»: лаконичная критика «декадентства», данная в статье об «Альме» Минского, в новой статье была продолжена критикой развернутой, предпринятой главным образом на материале «Собрания стихов» Александра Добролюбова (1900), изданного «Скорпионом» с предисловиями Коневского и Брюсова. В статье было впервые рассказано о Добролюбове – самом «крайнем» и убежденном «декаденте» и «самом неприятном, досадном, комичном стихотворце последнего десятилетия»[228]228
Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30.
[Закрыть] – на основе впечатлений от личного знакомства и с сообщением сведений о его жизни и об уходе из петербургской образованной среды. При всем сочувствии, с которым осмыслялся в статье страннический путь Добролюбова в плане религиозного искания, общая оценка поэта в его «декадентской» ипостаси была однозначно негативной: «Стихи его, конечно, – не стихи, не литература, они и отношения к литературе, к искусству, никакого не имеют. Было бы смешно критиковать их, судить, – хвалить или бранить. Это просто крики человеческой души ‹…›».[229]229
Там же. С. 31.
[Закрыть] Аналогичную характеристику получило и предисловие Коневского: в его сочинителе Гиппиус увидела «духовного брата» Добролюбова. Думается, что именно уничижительная тональность, в которой формулировала Гиппиус свои доводы и приговоры, вызвала у Коневского наибольшее возмущение. Поэт не мог простить высокомерного тона и дистанцированного подхода автора статьи по отношению к «декадентству»; в ответ на отрицание творческих способностей у одного из самых ярких и радикальных выразителей новейших эстетических исканий он обвиняет Гиппиус в неспособности к внятной, логически выстроенной и доказательной критической аргументации.
Полемические ноты в адрес Гиппиус содержит и заметка Коневского «Альма, трагедия Минского». В характере героини этой «трагедии из современной жизни», идущей путями духовного самосовершенствования и стремящейся к абсолютной, неземной свободе, не без оснований распознавали черты духовно-психологического облика Гиппиус.[230]230
См.: Сапожков С. В. Поэзия и судьба Николая Минского // Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 61–62 («Новая Библиотека поэта»).
[Закрыть] Пьеса Минского вызвала у Коневского и Брюсова сходные оценки. «“Альму” если судить судом праведным, должно осудить, – писал Брюсов Коневскому во второй половине апреля 1900 г. – Какой-то свод общих мест из новой поэзии, заранее все наизусть знаешь, каждое предложение словно краденое», – на что его корреспондент отвечал (3 мая): «“Альма” производит, точно, очень неприятное впечатление своей программностью, рекламностью, блеском и лоском в отделке речей и вообще глубоким техническим опытом и навыком в подделке под целый строй чувств, сущность которых тем не менее ни на одну минуту не проходит в душу писателя».[231]231
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 489, 491.
[Закрыть]
Высказаться в более развернутой форме об «Альме» Коневского побудил, опять же, Брюсов, предложивший ему написать рецензию об этой пьесе для критического отдела будущих «Северных цветов»,[232]232
См. письмо Брюсова к Коневскому (середина октября 1900 г.) // Там же. С. 514.
[Закрыть] а вышедшая к тому времени пространная статья Гиппиус «“Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского» дала дополнительный стимул к развертыванию собственных суждений в полемическом противостоянии с формулировками, содержащимися в ней. Как и Гиппиус, Коневской находил в «Альме» определенную заданность и схематизм (Гиппиус отмечала, что герои трагедии – полупризраки: «Минский не умеет рисовать “типы” ‹…›; он только умеет рассказывать о своей душе»[233]233
Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 91.
[Закрыть]), но, в отличие от Гиппиус, противополагавшей «смерти без воскресения» у Минского свой искомый религиозный идеал, признавал самодостаточность писателя в исповедании собственного кредо, «декадентская» субстанция которого оставалась непреодоленной. Заметка Коневского об «Альме» была передана Брюсову (вероятно, во время пребывания последнего в Петербурге с 3 по 6 ноября 1900 г., куда он приезжал с целью сбора материалов для «Северных цветов» и встреч с их предполагаемыми участниками), но опубликована в альманахе не была. К такому решению редакции Коневской был готов: «Предвижу, что мои рецензии вылетят в трубу из соображений “этикета”», – писал он Брюсову 20 ноября 1900 г.[234]234
Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 519.
[Закрыть] (помимо рецензии на «Альму», Коневской представил «краткую эпиграмму» на «Горящие здания» Бальмонта, еще более резкую по своим оценкам и в «Северных цветах» также не напечатанную[235]235
Впервые опубликована в примечаниях к цитированному письму (Там же. С. 520).
[Закрыть]).
Ниже печатаются две полемические заметки Ивана Коневского: «Альма, трагедия Минского» – по автографу, сохранившемуся в архиве Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 97. Ед. хр. 10); «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua» – по автографу, сохранившемуся в архиве Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2. Ед. хр. 2).
АЛЬМА, ТРАГЕДИЯ МИНСКОГО
Лучшее, что можно сказать об этой трагедии, это – что она в высшей степени остроумна: все лица в ней говорят «как по писанному», разрабатывая с математической последовательностью целые гаммы систем, какие теперь в ходу и в мысли, и в поэзии; разрабатывают они их как в теории, так и на практике, в «общественных отношениях». Но еще важнее отметить, что это – книга, которая может занять самое фальшивое положение в современной литературе, потому что она такого охвата, как будто представляет памятник целого века настроений и мировоззрений, и в сущности, вся она и состоит ни из чего, как из разных Schlagwörter,[236]236
Меткие слова; лозунговые выражения (нем.).
[Закрыть] поговорок, которые будут подхвачены всякими «публицистами» и припрятаны в том запасе ярлычков, который им необходим для того, чтоб «клеймить» явления духовной жизни. Между тем, на выражение этих присловий можно любоваться за их умную меткость, но, конечно, все направления новой мысли и новых сердец нашли в них себе только схематические формулы, и ни одно из них не пережито недрами и кровью. Это – вроде «новых стихотворений» Мережковского[237]237
«Новые стихотворения. 1891–1895» (СПб., 1896) – книга Д. С. Мережковского.
[Закрыть] – карманный указатель модных «тезисов». Ни речи Альмы, ни речи Веты, ни речи Будаевского – даже не лирика автора, не излияние его души; он здесь даже не говорит о своей «Психее», как думает З. Гиппиус в своей критике на эту драму в № 17–18 «Мира Искусства».[238]238
В статье «“Торжество в честь смерти”. “Альма”, трагедия Минского» З. Гиппиус пишет: «Альма, – героиня, – не живая еще, не живет сама для себя, – потому что она только душа, Психея Минского. Она и живет, как душа, с ним, в нем, а не одна, потому что у нее нет своего тела. ‹…› И если мы будем требовать от Альмы жизни и трепета – мы дальше не пойдем и не узнаем, как живет Психея автора, его по-своему живая душа, которую он ведет по мытарствам» (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 88).
[Закрыть] Но, жаждя слов «о важном и вечном»,[239]239
В той же статье Гиппиус утверждает, что в «Альме» Минский пишет «о важном и вечном»: «Минский думает и говорит о самом важном, единственном, о чем следует думать и говорить, – то есть о человеке и о Боге, о жизни внутренней и внешней в их возможном (или невозможном) соединении, о воплощении духа, об одухотворении плоти, – о смысле и цели жизни ‹…›» (Там же).
[Закрыть] жаждя всякой догматики и правил на знаменитую тему – «чтό делать», она не могла не увлечься этим новым уложением жизни, признала его даже каким-то одиноким столпом в нашей литературе, в которой, по ее мнению, оказывается, «хоть шаром покати».[240]240
Статья Гиппиус открывается общими ламентациями относительно современного состояния русской литературы: «…теперешняя “как бы” литература, в которой не могут родиться ни гении, ни таланты, потому что малое не может родить великое, – разве случайно, – и потому что ни гении, ни таланты такой литературе совсем не нужны», и т. д. (Там же. С. 85).
[Закрыть] Прискорбное увлечение, лишний раз доказывающее пагубу искания поучений для задач искусства! Итак, по нашему мнению, чувства и поступки лиц в частных случаях этой драмы не коснулись души поэта. Но тот, по крайней мере, идеал, за который бьется Альма, это – давнишний идеал его, вновь обстоятельно и широко формулированный. Это – идеал безусловной бесконечности, которая, отрицая все известное, частное, не может совместить с бесконечностью даже бытия, и таким образом отрицает и самое себя, и выдыхается в пустоту. В этом идеале отрицательной «свободы», во имя которой Альма срывает с себя всякую любовь, и боязнь, и вражду, ко всему, у чего есть концы, решается на все и отрешается от всего, в нем, конечно, все тот же «мир несуществующий и вечный»,[241]241
Образ из программного стихотворения Минского «Как сон, пройдут дела и помыслы людей…» (1887): «…всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли // Какой-то новый мир мерещился вдали – // Несуществующий и вечный». См.: Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 153 («Новая Библиотека поэта»).
[Закрыть] ради которого мир «возникает» и обрекается «стремлению вечному к жертве».[242]242
Образы из стихотворения Минского «Песня песен» («Нет многих песен, – есть одна…», 1896): «Под эту песню мир возник // И возникает каждый миг, ‹…› Неиссякаем и велик // Стремленьем вечным к жертве» (Там же. С. 188). Коневской цитирует и интерпретирует это стихотворение в статье «Стихотворная лирика в современной России» (1897). См.: Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 95.
[Закрыть] В нем – свобода, потому что нет личностей и предметов, нет представлений, нет понятий, значит, нет пределов, ни положения в точке, ни передвижения из точки в точку. Значит, о нем нельзя ничего сказать разумным словом, потому что всякое понятие есть предел, положение только в этой точке, а не в той, всякое умозаключение есть движение, ход, который если попал в эту точку, уже не есть в той. Разум, слово тождественны с концами и пределами, с пространством и с временем, и потому о том мире, которого жаждет поэт Альмы, ни сказать, ни помыслить нельзя просто ровно ничего. Это – то самое, «чего не бывает», «чего нет на свете»,[243]243
Формулы из стихотворения З. Н. Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею…», 1893; первая публикация: Северный Вестник. 1895. № 12. С. 206): «О, пусть будет то, чего не бывает»; «Мне нужно то, чего нет на свете». См.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 75 («Новая Библиотека поэта»). В статье «Об отпевании новой русской поэзии» Коневской писал о Гиппиус: «Нет более страшных памятников этого чистого отрицания в нашей поэзии, чем ее Песня: “Мне нужно то, чего я не знаю… чего не бывает… чего нет на свете”» (Северные цветы на 1901 год. С. 185).
[Закрыть] как еще прямее и безраздумнее воскликнула нынешняя строгая наставница этого поэта, в той же критике противополагающая ему свой «догмат».[244]244
Подразумевается утверждение Гиппиус в заключительной части статьи об «Альме»: «…мы знаем, что нужны новые формы жизни, нужна обновленная религия нашему обновленному сознанию, и ищем новых форм, новой смерти и нового воскресения. Нам нужна и свобода перед Богом, – но не как стояние перед Ним, а как вечное движение к Нему. А движение к Нему может быть только если мы примем и поймем жизнь, полюбим ее так же, совершенно так же, как смерть. Мы любим явления, потому что это в природе человека, как и любовь к Богу. Но мы не знаем и не можем познать своей прямой любви к Богу. Мы только можем любить явления и знать, что любим их для Бога. И только любя формы, воплощения, – можно их возвышать и обновлять. Смерть не для смерти, а для воскресения… как воскресение для новой смерти и нового воскресения» (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 94). // ХЛЕСТКИЙ И ЗАПАЛЬЧИВЫЙ ОТВЕТ // PRO DOMO SUA (Букв.: в защиту моего дома (лат.) – в смысле: в свою защиту. – Ред.) // З. Н. Гиппиус не унимается. На страницах того же «Мира Искусства», который показывает себя через то уже совсем отпевающим себя и отпетым замыслом, она затеяла, видимо, целую экспедицию поносных выходок против тех литературных явлений, которых, по ее же словам, – нет, но которые все-таки оказываются тут как тут, и жужжат под носом. Никак отрицанием их бытия не возьмешь; неотступно дают о себе знать, и вот по-прежнему критик старается удушить их зловонием того скверного слова, которым смердят уста всех обозначенных им же прозвищем: «люди-цветы» и «люди-звери». (В статье «Критика любви. Декаденты-поэты» З. Гиппиус пишет: «Есть, конечно, люди до такой степени бессознательные, что они и не начали быть недовольными и как будто ничего не ищут. Люди-цветы, люди-звери. Их душа еще спит. Но она проснется, не в них – так в их детях, а дорога одна, все та же» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 29).) Сквернословие это – «декадентство», а «люди-цветы» и «люди-звери» – это название не менее кощунственное для зверей и цветов, когда оно применяется к тем «людям-куклам», «людям-болванчикам» и вообще «людишкам» (что гораздо хуже «зверей» и «цветов»), из которых составляется поголовно состав нынешней русской журнальной литературы, с Бурениным, Михайловским и Андреевичем во главе. Между тем, пусть вспомнит З. Н., что «декадентов» все-таки нет. (Остроумно тоже, нечего сказать, словопроизводство «декадент», измышленное мудролюбцем Вашего же почтенного журнала, г. Философовым. (Имеется в виду фрагмент из статьи критика и публициста Дмитрия Владимировича Философова (1872–1940) «Национализм и декадентство»: «Публика считает слово “декадент” бранным, вроде того, как прежде бранились “нигилистом”, и производит это слово от испорченного латинского глагола “decadere”, что значит ниспадать. Словопроизводство довольно сомнительное. Пожалуй, правильнее было бы переводить decadere не “ниспадать”, а “отпадать”» (Мир Искусства. 1900. Т. IV. Отд. II. С. 209).) Не мешало бы ему посидеть еще на гимназической парте. А он, «зная довольно по латыне, чтобы эпиграфы разбирать», (Обыгрываются строки из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа VI).) указывает на латинский глагол «decadere» (падать от и ниспадать), какового в словаре не имеется: есть же в этом смысле глагол «decidere». Да и существительного «decadentia» по латыне не существует: все это очевидно позднейшие французские образования.) Этот тезис торжественно повторяется с ее стороны даже курсивом. (Подразумевается утверждение в статье «Критика любви»: «Скажем лучше для многих уже ясную правду: никаких декадентов нет. Есть только люди, менее других сильные, менее способные высказать себя ‹…›» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30).) Чего же более для убеждения, что почтенный критик сражается не то что даже с ветряными мельницами, а просто – с ветром, иными словами – с «видимым» миром, который по Платону – «и есть и не есть», а то, если верить З. Н., так, пожалуй, и с самой божественной сущностью, которая тоже, как оказывается из ее критики на «Альму», есть и Все, и Ничто. Ergo декаденты = видимому миру = божественной сущности. Вот какие с первых же слов получаются чудеса при исследовании тезисов у З. Н. Гиппиус. К этому надо прибавить, что лучшее, самое милое в затеянном г-жою Гиппиус предприятии есть его заглавие, доводящее иронию до пределов возможности: «Критика любви»! Оно очевидно проистекает из древнего изречения: Кого люблю, того и бью! – а то, быть может, ради богатейшей рифмы, и «гублю». Что ж, это известная форма любодеяния, которая у пошлецов давно слывет первым признаком «декадентства»!
[Закрыть] Таков, рассмотренный до крайних своих следствий «Бог», исчезнувший «Бог» его. Повторяем, что все происходящие среди людей и живых предметов борьбы Альмы за этого Бога, конечно, не более как мастерской логический и драматический механизм. Но анализ связей этого механизма занимателен, и зрелище его отправлений изящно.
Иван Коневской.
В первой вылазке этой любви достается Александру Добролюбову, из которого извлекаются и сберегаются критиком немногие крохи, не то чтобы наиболее ценные или характерные для автора, но наиболее характерные для критика, как всегда бывает у исследователей, не умеющих перевоплощаться, но прочно застрявших в своей коре. Все прочее, в чем выражается весь Добролюбов, весь мозг его костей, это – как водится, в глазах критика бредни, «темна вода во облацех». А выдернутые клочки из его стихов обнаруживают разительное и неслучайное сходство с терминами из учебников г. Мережковского, ибо, как известно, это – единственная колейка, в которой пробирается проницательность З. Н. Гиппиус, та «печка», от которой она только и может «танцевать». «Царство неизменное… царство плоти и крови… Я освятить хочу и мелочь…»[245]245
Цитаты из стихотворений А. М. Добролюбова «Всем» («В вечности счастья течет творенье…») и «На вечеринку уединенную…», входящих в его «Собрание стихов» (М., 1900). См.: Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. С. 502. Гиппиус приводит эти цитаты в «Критике любви»; по поводу первой из них она замечает: «Что это за странные слова! Кто может это понять? А между тем о крови и плоти говорилось людям много веков назад. Дан был завет освящать ее в глубоком любовном общении»; по поводу второй: «Вот именно то, чего мы все хотим, теперь, как всегда, теперь более сознательно, чем всегда: освятить и мелочь» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 33).
[Закрыть] – все это, как известно, «общие места» мысли г. Мережковского, азы философии, из которых тот блистательно складывает мозаику художественных личностей, но которые его супруга выставляет в виде голых, убогих камешков, мертвых условных значков на заповедных межах ее мысли. Намеки Добролюбова сопровождаются глубокомысленными комментариями г-жи Гиппиус, по всем правилам догматики Мережковского, только в виде, приноровленном к «начальному обучению», и пересыпаются нескромными личными наблюдениями и частными сведениями о curriculum vitae поэта. Не намерен высказывать здесь моих понятий об этом писателе, которого г-жа Гиппиус так обдирает и продергивает: они выражены мною в предисловии к последнему сборнику его писаний,[246]246
Это предисловие Коневского («К исследованию личности Александра Добролюбова») открывает «Собрание стихов» Александра Добролюбова.
[Закрыть] в котором, кстати сказать, помещена лишь ничтожная доля из всех его сочинений за последние пять лет, и, собственно говоря, без всякого иного смысла кроме того, что эти писания случайно облечены в полуметрическую форму, а не вошедшие в сборник – в более выдержанной прозе, хотя отчасти тоже ритмической. Об оскорбительной неблаговидности анекдотов и сплетен про поэта, быть может, будет замечено критику со стороны лиц, лично знавших и ценивших Добролюбова:[247]247
У меня не было с ним никогда личного знакомства.
[Закрыть] ими же будут уличены некоторые крупные передержки в фактических данных, как, напр<имер>, указание на стих Брюсова: «О закрой…», приписанный разбираемому автору.[248]248
«О, закрой свои бледные ноги» – однострочное стихотворение Брюсова, впервые опубликованное в сборнике «Русские символисты» (Вып. 3. М., 1895). В «Критике любви» Гиппиус пишет о Добролюбове: «Фраза этого “доморощенного декадента” – “закрой мои белые нози” – известна была одно время всем, кому было известно слово “декадент”» (Мир Искусства. 1901. Т. V. № 1. С. 30).
[Закрыть] Отвечу теперь лишь на те два слова, которыми щелкается то же упомянутое мое предисловие.








