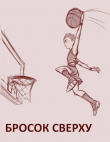Текст книги "Отравленная совесть"
Автор книги: Александр Амфитеатров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Она почти не спала. "Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце". Целые ночи пролеживала она навзничь, с широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что, проснись Степан Ильич и спроси жену: "Отчего ты не спишь"? – Людмила Александровна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу да советовал лечиться.
Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски простым в сравнении с ними, и все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу – и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют.
Елена Львовна, в бытность Людмилы Александровны в деревне, заметила своим материнским оком, что с племянницею творится что-то недоброе. Замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то – словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное.
– Перессорились они там, что ли, все? да из-за чего им? – недоумевала старуха. – Или, сохрани Бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?
Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась – кстати, надо было и по делам – в Москву.
Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве – точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпечаток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную, болезнь.
– И давно, Лидочка, началось это? – пытала Елена Львовна старшую дочку Верховской.
– С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома: мы с Лелей были в гимназии, Митя тоже, папа на службе, в банке. Приходим, – обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить, и она тоже рада, целует нас, а потом бух!.. упала на ковер: истерика! хохочет, плачет, говорит бессвязно... Больше двух часов не приходила в себя.... Раньше этого никогда не было.
– В детстве случалось, – задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала: так мало было это в характере Верховской. Ей случалось много раз видать Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни: когда опасно болели дети, когда, после одного колебания бумаг на бирже, Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы.
– Ты, Людмила, прелесть, когда беда над головою, – говорила она Верховской, – молодец-женщина. У тебя не нервы, а веревки! Жаль, что женщинам не дают орденов, а то уж выхлопотала бы я тебе "Георгия" за храбрость.
Лида продолжала:
– Вот с этого дня и нашло на маму. Ничем не можем угодить на нее: такая стала непостоянная. Приласкаешься к ней – недовольна: оставь, не надоедай; ты меня утомляешь! Оставишь ее в покое – обижается: ты меня не любишь, ты неблагодарная!.. Вы все неблагодарные! Если бы вы понимали все, что я для вас делаю... Неблагодарностью она всего чаще нас попрекает, – а разве мы неблагодарные? Мы на маму только что не молимся... Истерики у мамы каждый день... Но уж вчера было хуже всех дней: досталось от мамы и нам, и папе... И ведь из-за каких пустяков! Митя без спросу ушел в гости к Петру Дмитриевичу. Ах! разлюбила мама, совсем разлюбила Петра Дмитриевича! И в чем только он мог провиниться – не понимаю!.. Встречает его холодно, молчит при нем, едва отвечает на вопросы. А нам без него скучно: он веселый, смешной, добрый... Митя жаловался:
– Намедни, на именины, Петр Дмитриевич подарил мне револьвер, – тоже что было шума!
Елена Львовна улыбнулась:
– Ну, револьвер-то тебе и в самом деле лишний. Еще застрелишь себя нечаянно.
– Помилуйте, бабушка! Маленький я, что ли? Да я в тире пулю на пулю сажаю... Весь класс спросите. И маме известно. Совсем не потому!
– Раньше мама сама обещала ему подарить, – вставила Лида.
Митя подхватил:
– А тут рассердилась, что от Петра Дмитриевича, и отняла.
– В стол к себе заперла, – пояснила Лида. – Тоже говорит, что он себя застрелит.
– А я пулю на пулю... Вы, бабушка, попросите, чтобы отдала. А то я всему классу рассказал, что у меня револьвер... дразнить станут, что хвастаю. Да наконец не век мне быть гимназистом... Какой же я буду студент, если без револьвера?
XXV
Антипатия Людмилы Александровны к Синеву развилась с того дня, как умер следователь по особо важным делам, который первоначально вел дело об убийстве Ревизанова, и оно перешло к веселому родственнику Верховских. Он взялся за следствие горячо и рьяно, но вскоре – бесполезно прогулявшись по нескольким ложным следам – впал в уныние.
– Иссушило меня это проклятое следствие! – жаловался он у Верховских. – Скажу вам: просто фантастическое дело! Ничего с ним не поделаешь: глупо, просто и, именно благодаря простоте и глупости, непроницаемо. Когда убийца хитрит и мудрит, он хоть какие-нибудь следы оставит, хоть в чем-нибудь прорвется. А тут – ничего! какая-то mademoiselle X. Y. Z. пришла, переночевала, воткнула человеку нож между ребер и затем преспокойно ушла. Не только не пряталась, но еще остановилась – дала рубль серебра швейцару. Нашли извозчика, с которым она уехала из гостиницы. И швейцар, и извозчик одинаково описывают ее наружность: Леони, вылитая Леони... И, однако, это была не она! Кто же? Черт знает что такое! Какой-то сатана в юбке или – чтобы быть вежливым с дамами, так как она хоть и прирезала Ревизанова, а все же дама, – скажем: Азраил, ангел смерти, в модной шляпке под вуалем...
– И вы точно потеряли всякую надежду открыть убийцу?
– Решительно. А славный бы случай отличиться. Выслужился бы!
Слова эти больно укололи Людмилу Александровну.
– Выслужиться чужою гибелью, чужим позором! Я считала вас добрее, Петр Дмитриевич! – сказала она, а думала про себя: "Не чужою – моею гибелью, не чужим – моим позором собираешься ты выслуживаться, мальчишка!"
Синев оправдывался:
– Что же мне прикажете делать, если мое рукомесло такое – чтобы "ташшить и не пушшать"... Да где там? не выслужишься! это дело – такая путаница, что сам Вельзевул ногу сломит. Вы поймите: ушла она из гостиницы...
Людмила Александровна гневно остановила его:
– Петр Дмитриевич! вы уже двадцать раз терзали мои нервы этою трагедией... пощадите от двадцать первого...
– Вот! слышите, тетушка, как она меня пиявит? – пожаловался следователь Елене Львовне, сконфуженно разводя руками.
Старуха вступилась за Петра Дмитриевича:
– Милочка! потерпи, сделай милость: пусть расскажет... я-то ведь еще ничего не слыхала, мне интересно.
Синев весело вскочил с места:
– Людмила Александровна! высшая инстанция разрешает: я начинаю. Итак, mesdames, сообразите: ушла она из гостиницы...
Но Людмила Александровна с гневом встала с места.
– Как вы скучны! – И, резко двинув стулом, порывисто вышла из комнаты.
– Теперь уж, тетушка, не я, а вы виноваты... – пробормотал, смущенный этою выходкою, следователь.
Но Елена Львовна заставила его продолжать рассказ.
– Да!.. Ну-с, так вот: ушла она из гостиницы, – точно стакан воды выпила, села в сани – и поминай как звали! Извозчика мы замучили допросами, а толку нет. Довез, говорит, барышню до дома Лазарика на Петровке. Вошла в ворота – и как в воду канула! Двор-то проходной, в нем тысячи три народа живет, и народ все неважный: пролетарии, проститутки. Извозчик так и объясняет. Мы его спрашивали: не показалась ли, мол, тебе эта барышня странною – испуганною, взволнованною, что ли? "Нет, говорит, ничего, я – как дело было по-раннему то есть времени – так полагал, что гулящая... домой от полюбовника едет". Черт знает! иной раз мне становится досадно, что мы так легко отпустили эту Леони. Положим, она-то лично невиновна, но, может быть, есть за нею все-таки хоть какая-нибудь ниточка прикосновенности – малюсенькая, малюсенькая... А мне только бы за что-нибудь уцепиться.
– Леони... Вы часто поминаете это имя... это кто же такая?
– Француженка, содержанка покойного. Он сам говорил мне в тот вечер, что ждет ее ужинать t?te-?-t?te... "Мы, говорит, в ссоре, надо помириться"... Вот тебе и помирились!
– В чем же вы утрудняетесь? Ваши подозрения...
– Гроша медного не стоят. Леони, как дважды два – четыре, доказала свое alibi. Она и не думала быть у Ревизанова, – он тут наврал что-то. Леони кутила всю ночь напролет в Стрельне с развеселой компанией – пальмы рубили, зеркала били, лошадей шампанским поили – все, как водится. Потом... ну, да, одним словом, мне известен весь ее curriculum vitae {Жизненный путь (лат.),здесь – распорядок дня.} до двенадцати часов утра шестого октября, когда Ревизанова нашли... готовым...
– Шестого? Это когда Людмила ко мне приехала? – раздумчиво спросила Алимова.
Петр Дмитриевич поправил:
– Виноват: она приехала к вам накануне – пятого.
– Шестого, Петр Дмитриевич! я отлично помню.
– Уверяю вас: ошибаетесь! Я сам провожал Людмилу Александровну на вокзал, оттуда поехал в "Эрмитаж", встретил Ревизанова и запутался с ним на целый вечер... А ночью вся эта штука и случилась!
Елена Львовна долго молчала. Она отлично знала, что права, но природная осторожность, инстинктивно удержала ее от спора.
– Может быть... – согласилась она. – Да, да! конечно, вы правы. Память иногда мне изменяет. Старость не радость.
А сама думала:
"Никогда мне не изменяет память, и Людмила приехала ко мне шестого, а не пятого... Странно, странно! Надо выяснить, что это значит и где – если не у меня – могла она быть? Неужели у нее – бес вступил в ребро, и Людмила, моя Людмила, стала пошаливать от старого мужа? Не может быть... А впрочем – что мудреного? Женщина еще молодая, здоровая... Да еще Липка вечно при ней вертится... хороший пример для замужней женщины, нечего сказать. Ох, эта Липка! Много крови испортила она мне в моей жизни...
XXVI
Встречи с Синевым сделались для Людмилы Александровны тяжелою пыткою. Она и ненавидела его, и тянуло ее к разговорам с ним. Так тянет человека ходить по краю пропасти, хотя оборваться в нее для него страшнее всего на свете. И между ними лежала действительно пропасть, хотя знала о ее существовании одна Людмила Александровна, а Синеву и в голову не приходило ее подозревать. Уке при одном виде, при первом появлении Петра Дмитриевича в ее гостиной, бешенство загоралось где-то в глубине сердца Людмилы Александровны. Ей стоило больших усилий сдерживать себя и улыбаться Синеву, между тем как она вся пылала желанием броситься, вцепиться ногтями в его лицо и крикнуть:
– Выслуживайся, негодяй! Это я, я убила твоего Ревизанова.
И чем больше она замечала, что ненавидит Петра Дмитриевича несправедливо, чем больше стыдилась своей несправедливости, тем грознее разрасталось в ней, вопреки собственному ее желанию, чувство обиды и неприязни, инстинктивная антипатия преследуемой к преследующему, волка к гончей. Синев ничего не замечал. Честный малый по-прежнему дружески относился к кузине, и они не раз еще беседовали, в числе других эпизодов его службы, и о ревизановском деле. Верховская выслушивала предположения Синева, и все они представлялись ей нелепыми, натянутыми, потому что она слишком хорошо знала истину. Однажды ее охватила безумная дерзость. Она сказала Синеву:
– Вы, Петр Дмитриевич, говорите, будто это дело трудно именно потому, что просто и глупо. А вы попробуйте взглянуть на него, как не на вовсе дурацкое и случайное.
– То есть ввести в дело фантастического убийцу чуть не по профессии, bravo {Наемный убийца (фр.).} в юбке, Спарафучиле женского пола? Мой предшественник уже потерпел фиаско на этом предположении. Нет, нет. Вообще, я чем больше вглядываюсь в обстоятельства убийства, тем дальше отстраняю от себя предположение преднамеренности, которого держался раньше. Это убийство внезапное, случайное – из ревности, из мести, по самозащите... ведь – извините! – свинья был покойник, не тем будь помянут!.. – но не подготовленное. Не знаю, зачем шла эта дама к Ревизанову – для свидания или для разрыва, – но несомненно не с тем, чтобы убивать, и убила неожиданно для себя. Она и оружия-то с собою не принесла. Заколола его стилетом, который забыла в его спальне Леони.
– Я с вами согласна, – глухо отозвалась Людмила Александровна, потупив глаза, чтобы не выдать себя их диким блеском, – мне тоже кажется, что убийство это было делом, скорее, случая... может быть, необходимого, фатального, но все же случая, а не злого намерения... У вас, Петр Дмитриевич, нет твердой почвы под ногами, – вам все равно приходится бродить в тумане предположений. Хотите – вместе? Хотите, я расскажу вам, как я предполагаю это убийство?
– Сделайте одолжение... это очень интересно...
– Тогда слушайте. Вы знаете, что за человек был Ревизанов, – сами сейчас сказали. Знаете, как оскорблял и унижал он людей – и больше всех именно женщин... он относился к ним, как к рабыням, как к самкам, как укротитель к своему зверинцу, – опять же вы сами это говорите. Представьте теперь, что одна из его жертв бунтует. Она переутомлена изысканностью его издевательств, довольно их с нее. Но он неумолим, – именно потому, что она бунтует, что она смеет бороться против его власти. И он – не по любви... о нет! а просто по скверному чувству: ты моя раба, я твой царь и Бог, – гнет ее к земле, душит, отравляет ей каждую минуту жизни, держит ее под постоянным страхом... ну, хоть своих разоблачений, что ли. Представьте себе, что она – женщина семейная, уважаемая... и вот ей приходится при этом негодяе быть наложницею... хуже уличной женщины... ненавидеть и принадлежать... поймите, оцените это! И она хитрит с ним, покоряется ему, назначает свидание... и на свидании чаша ее терпения переполняется... и она убила его, а обстоятельства помогли ей скрыться. Что же, по-вашему, – когда вы знаете Ревизанова, – не могло так быть? не могла убить Ревизанова такая женщина? – женщина хотя бы вроде той несчастной, о которой когда-то вы сами рассказывали нам – при самом же Ревизанове – подобную же печальную историю?
Необычайно страстный тон Людмилы Александровны заинтересовал Синева.
"Что с нею? – подумал он и сам же себе ответил: – Эка развинтила себе нервы, барыня! Ни о чем не может говорить спокойно".
– Что же? – настаивала Людмила Александровна.
Синев пожал плечами:
– Это невозможно!
– Почему же?
– Да потому, что это французский роман... Какой же убийца – не профессиональный, конечно...
Верховская улыбнулась с сомнением:
– Как будто есть профессиональные убийцы!
– Есть, Людмила Александровна, в этом вы не сомневайтесь... Редко, но есть. Свет, голубушка, винегрет, составленный из весьма разнообразной гадости. Какой же убийца сумеет так хладнокровно рассуждать и действовать в виду своей окровавленной жертвы? Эх, Людмила Александровна! злодейства легки только у Ксавье де Монтепена, а на самом деле – вы понимаете: я могу быть судьей по этой части, у меня в переделке ух какие соколы бывали! – а на самом деле редкий злодей, свершив убийство, не теряется хоть на несколько мгновений до панического страха. Мне многие признавались, что первое побуждение после убийства – бежать. Бежать без оглядки, без смысла, без цели, лишь бы бежать! И с этим побуждением приходится серьезно считаться, даже бороться.
Верховская устремила на Петра Дмитриевича загадочный взгляд.
– Ну, а Раскольников? – сказала она. – Думаю, что Достоевский не хуже вас знал душу преступника... Что же? преступление Раскольникова, по-вашему, было дурно задумано и исполнено? и... и скрыто?
– А чем же хорошо-то, если человек в конце концов сам пришел с повинною и, заметьте, не по доброй воле, а загнанный, как волк, по пятам – хорошим следователем-психологом? Нет, Людмила Александровна! Русские интеллигентные убийцы еще умеют иногда обдумать и ловко исполнить преступление, но укрыватели они совсем плохие. Совестливы уж очень. Следствие их не съест – сами себя съедят.
Людмила Александровна уже не слушала его. Она думала:
"А я скрыла... ловко, рассудочно, расчетливо скрыла... и ни за что никогда себя не выдам... Ищи, ищи! за то тебе жалованье платят, чтобы ловить ветер в поле".
Но рядом с этою – торжествующею – ее томила другая, болезненная мысль:
"Да что же значит это мое проклятое или благословенное – уж сама не знаю – самообладание? Как? неужели он прав? неужели я холоднее – значит, хуже, безнравственнее, подлее всех убийц? Я? А!.."
И взгляд ее делался все острее и холоднее. И, презрительно усмехаясь, она прервала следователя язвительными словами:
– У вас мало фантазии; в вашем деле это большой порок. Вы никогда не выслужитесь, Петр Дмитриевич.
– Боюсь, что так, – печально сказал он.
XXVII
У Верховских были гости. В числе их Сердецкий. Писательским чутьем своим он угадал напряженную нервную атмосферу, сгустившуюся в их отравленном тайным ядом доме, и ему стало душно, как всегда душно здоровому, беспечальному человеку среди больных – жертв эпидемии, все равно: телесной или душевной. Он печально приглядывался своими орлиными глазами к хозяйке дома: давно знакомое, милое лицо Людмилы Александровны казалось ему новым, словно он впервые ее видел.
"Как ее перевернуло! – думал он, – что с нею? о, сколько в ней горя и обиды! И откуда взялось оно? кажется, все в порядке... а между тем – Боже мой, ведь это живая покойница. И это она, именно она – никто другой – очаг заразы уныния, которую я чувствую здесь в воздухе..."
– Здорова ли мама? – шепотом спросил он проходившего мимо Митю, притягивая его к себе за руку.
– Кажется, здорова... – возразил мальчик нерешительно.
– Да? А по-моему, дружок, нет и даже очень нет.
Митя замялся:
– Да и мы так думаем, Аркадий Николаевич, – шепнул он, – только ничего не можем поделать с мамою. Она и слышать не хочет, что больна. До того дошло, что – спросишь: здорова ты? – сердится, вся вспыхнет... Вчера даже прикрикнула на меня: "Нечего мною заниматься! умру – успеете похоронить"... Эх!.. меня так и перевернуло: второй день забыть не могу...
Сердецкий выпустил руку юноши и обратился к женскому обществу, привлеченный частым упоминанием его имени.
– Ты не читала последнего романа Аркадия Николаевича? – удивлялась Олимпиада Алексеевна. – О, чудное чудо! о, дивное диво! Как же это сделалось? Прежде ты знала все его произведения еще в корректуре... за полчаса до пожара, что называется. Уж на что я лентяйка, а как только увидала в газетах имя Аркадия Николаевича, сейчас же послала в библиотеку за журналом.
– Не успела, – защищалась Людмила Александровна, – я в последнее время почти ничего не читаю... времени нет.
– Помилуй! – уличила ее Ратасова. – В твоем будуаре целые горы книг. И знаешь ли? Я удивляюсь твоему вкусу. Дело Ласенера, дело Тропмана, Ландсберга, Сарры Беккер – что тебе за охота волновать свое воображение такими ужасами? Брр... брр... брр... меня бы все эти покойники по ночам кусать приходили!
– Вот начитаетесь всяких страстей, а потом и не спите по ночам, – нравоучительно вставил Синев.
Верховская резко обернулась к нему:
– Кто вам сказал, что я не сплю по ночам?
– Степан Ильич, конечно.
Людмила Александровна закусила губу; щеки ее разгорелись, глаза забегали...
– Степан Ильич сам не знает, что говорит. Ему нравится воображать меня больной и в своих заботах о моем здоровье он так скучен, так надоедлив...
– Но зачем же горячиться, Милочка? – остановила ее Елена Львовна.
Синев, который нахмурился было, расправил брови, махнул рукою и засмеялся.
– Вот-с, не угодно ли вам полюбоваться? – пожаловался он полушепотом Сердецкому. – Теперь она со мною всегда этак-то, в таком милом тоне.
Людмила Александровна услыхала и подошла к ним.
– Что вы сочиняете? – искусственно удивилась она.
Синев даже руками всплеснул:
– Сочиняю? Нет извините. Жаловаться так жаловаться. Мне от вас житья нет. Вы на меня смотрите, как строфокамил на мышь пустыни: ам! – и нет меня!.. Главное, ума не приложу: за что?.. Ведь я невинен, как новорожденный кролик! Думал сперва: за Митю. Каюсь, Аркадий Николаевич, – виноват: поддразнивал Вениамина Людмилы Александровны. Липочка вздумала, видите ли, строить ему глазки... ну, как же было мне не распустить язык по такому соблазнительному случаю?
Людмила Александровна обрадовалась, что он сам подсказывает ей путь, как выйти из затруднения.
– А мне было неприятно, – мальчик впечатлительный, с мягким сердцем, увлекающийся... – уже кротче заметила она. – Зачем портить его? волновать его воображение, вбивать в голову Бог знает что...
– Кузина! Вы имеете резон. Но я вам давным-давно принес публичное покаяние по этой части и вот уже два месяца, как держу свой язык на привязи. Больше того: сам же усовещивал Липу, чтобы она не совращала юношу с тропы классического благоразумия... Олимпиада Алексеевна! неувядаемая тетушка! – вскричал он, – пожалуйте сюда. Засвидетельствуйте, какими филиппиками громил я вас в последний раз, за завтраком...
– И сколько красного вина при этом выпил! ужас! – откликнулась Ратисова.
– Ага! Вы слышали, афиняне?! Помилуйте! До того ли мне теперь? Что мне Гекуба и что я Гекубе? Ревизановское дело поглотило меня целиком, как кит Иону.
Олимпиада Алексеевна зажала уши:
– Ах, ради Бога, не надо об этом деле... его слишком, слишком много в этом доме.
Людмила Александровна ответила ей мертвым, потерянным взглядом:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Олимпиада Алексеевна права, – вмешалась Елена Львовна. – Я вполне понимаю, что смерть человека, издавна знакомого, да еще такая внезапная – ведь кажется, он еще накануне обедал у вас, господа? – может на некоторое время выбить круг его друзей и знакомых из обычной колеи. Но всякому интересу бывает предел; иначе он переходит уже в болезненную нервность...
– И ее-то вы находите во мне? – засмеялась Верховская. – Успокойтесь: дело меня интересует, но не до такой степени, как вы воображаете.
– Ну, это – как тебе сказать? – усомнилась Ратисова. – Оглянись: твой дом полон этим делом; я видела твои газеты; ты отметила в них красным карандашом все, что касается ревизановского убийства. Знакомые приезжают к вам словно для того только, чтобы говорить о Ревизанове; о чем бы ни начался разговор, ты в конце концов сводишь его к этой ужасной теме.
Людмила Александровна спокойно возразила:
– Однако сейчас свела его ты, а не я. А интересом к этому делу меня заразил Петр Дмитриевич. Сам же он, на первых шагах, все советовался со мною.
– Что правда, то правда, – слегка смутился Синев.
"Эта толстая Олимпиада, в сущности, права, – размышлял Сердецкий, едучи от Верховских к себе на Девичье поле. – Ревизановского убийства слишком много в доме моих славных Верховских. Не знаю, какое отношение могут они иметь к этому грустному событию, но какое-то есть. Так подробно и постоянно не интересуются совершенно чужим делом. Людмила Александровна как будто что-то знает и скрывает... Что же, однако?"
И Сердецкий, наедине с самим собою, расхохотался:
– Уж не она ли, эта таинственная незнакомка, этот bravo в юбке, как пишут в газетах?.. Ха-ха-ха!.. Вот была бы история!.. и – главное – как это на нее, прелестную мою, похоже! Придет же в голову такая нелепость... хотя бы даже и в шутку. Но что-то она прячет в себе – прячет от всех, даже... даже от меня. И что-то тяжелое, скверное, ядовитое... Жаль ее, бедную, жаль!.. Эх, судьба, судьба!.. В подобные минуты мне как-то особенно грустно, что она развела нас с такою обидною бестолковостью. Как-то кажется: вот была бы Людмила моею, – ничего бы дурного и грустного и не было... А ведь – как знать? Может быть, и еще хуже было бы. Самоуверенничать-то нечего... Молчи, старик, притихни!.. Эх-эх-эх! когда же я, старый черт, любить-то ее перестану?
XXVIII
Дни бежали. Елена Львовна уехала обратно в деревню, не добившись толку от племянницы и простясь с нею за это довольно холодно. Людмила Александровна чувствовала за собою вину – видела, что тетка ждет от нее откровенности, но правды открыть, конечно, не могла, а солгать не умела.
– Что мне выдумать на себя? что ей сказать? – металась она. – Любовь, что ли, какую-нибудь сочинить... Да ведь не выйдет ничего: она всю жизнь читала в моей душе, как в книге, – сразу заметит, что я обманываю.
Провожая Елену Львовну на вокзал, Верховская все как будто порывалась заговорить с нею о чем-то, но всякий раз смущенно осекалась на первом же слове, так что старуха, утомленная ее нервною суетливостью, под конец прикрикнула на нее:
– Да будет тебе корчиться, как береста на огне! Ну – не удостоена твоим доверием, прячешь от меня что-то, и не надо мне твоих секретов. Молчи! и – главное – не терзайся, пожалуйста, из-за этого угрызениями совести... Этакая мнительная женщина: просто смотреть досадно!
– Да нет, я ничего, я ничего... – забормотала Верховская.
– Только смотри, Людмила! – строго продолжала Елена Львовна. – В тайны твои лезть я не хочу – секретничай, пожалуй. Но – раз ты прячешь их от меня, нехороши, должно быть, твои тайны! Так помни: если я, помимо тебя, узнаю что-нибудь темное, нехорошее – помни, не прощу. Ты что-то дуришь! Опомнись, возьми себя в руки, – не для себя ведь живешь... уже не молоденькая... уже у тебя муж, дети.
Верховская отвечала тетке какою-то жалкою улыбкою.
– Да, да... муж, дети... не беспокойтесь за меня, тетя: это я помню хорошо, всегда помню. А что вы думаете, будто я не откровенна с вами, – не стану спорить: может быть, сознаюсь, есть немножко... Но теперь еще рано, а когда будет можно, я вам все сама скажу – как в детстве... помните?
"Так и есть: любовник и собирается расходиться с мужем", – мелькнуло в голове Елены Львовны. Взгляд ее стал еще строже. Она пожевала губами и сухо сказала:
– Хорошо, я буду ждать. Что же? Ведь не в последний раз видимся...
"Нет, нет, – думала Людмила Александровна, возвращаясь домой. – Мы именно в последний раз виделись. Веревка лопнула – ее не связать без узла. Прощай, моя дорогая тетя! Я тебя потеряла... и так, человека за человеком, растеряю всех, всех..."
Когда Аркадию Николаевичу Сердецкому хотелось хорошо и много работать, он уезжал из Москвы к кому-либо из своих деревенских друзей и там – "вдали от шума городского и от вседневной суеты" – писал по целым дням, пока не сходил с него трудовой стих. Теперь ему оказывала гостеприимство старуха Алимова. Он жил в ее имении уже третью неделю. Первый вопрос его возвратившейся хозяйке был о Людмиле Александровне. Алимова только рукою махнула. Аркадий Николаевич омрачился:
– И по-прежнему этот неестественный интерес к ревизановскому делу?
– Представьте, да.
– Раздражение против Петра Дмитриевича, ссоры с детьми и мужем?
– Да, да, да.
– Гм...
Аркадий Николаевич долго ходил по комнате, теребя свои густые седины. А Елена Львовна говорила:
– Уж позвольте быть с вами откровенною. Покаюсь вам: никогда я не имела о Людмиле дурных мыслей, а сейчас начинаю подозревать, – не закружил ли ее какой-нибудь франт? Знаете: седина в голову – бес в ребро.
Сердецкий молчал.
– Только – при чем тут ревизановское дело? – продолжала Алимова. – Ума не приложу. А есть у нее какой-то осадок в душе от этой проклятой истории – это вы правы: есть. И много тут странностей. Представьте вы себе: когда она гостила у меня в деревне – хоть бы словом обмолвилась, что Ревизанов возобновил с ними знакомство, обедал у них и у Ратисовой... Затем... не следовало бы рассказывать, – ну, да вы свой человек, вы, после меня, любите Милочку больше всех... Так уж я вам все, как попу на духу... Синев Петя уверяет, будто Людмила выехала ко мне пятого числа, то есть накануне дня, как был убит тот несчастный; между тем у меня в календаре приезд ее записан под шестым... я отлично помню.
– Все врут календари! – насильственно улыбнулся Сердецкий.
Совпадение этого обстоятельства с его подозрениями озадачило его. Старуха энергично потрясла головою:
– Нет, мой не врет. Вы знаете, как я аккуратна.
– Но в таком случае... Людмила Александровна либо почему-то ехала к вам вместо четырех часов целые сутки, либо провела эти сутки неизвестно где?
– Выходит, что так....
– Вы не пробовали спрашивать ее об этом?
– Нет.
– Почему?
Елена Львовна опустила глаза:
– Страшно, Аркадий Николаевич, сказала же я вам. А вдруг она ответит что-нибудь такое... Каково будет слушать мне, старухе? Ведь она мне не чужая.
Сердецкий вздохнул и почесал себе переносье.
– В делах, подобных ревизановскому, – начал он, – мне всегда страшно одно: судебная ошибка... чтобы не пострадал невинный человек. Эта Леони... камелия эта, арестованная сначала... какой опасности она подвергалась!
Елена Львовна зорко смотрела на него.
– Но ведь ее выпустили, – сухо сказала она, – что же ее жалеть?
– Дело не кончено. Не Леони, так другую заподозрят...
– Аркадий Николаевич! Да ведь надо же найти наконец, кто виноват?!
Сердецкий долго молчал и наконец, глядя в другую сторону, отозвался глухим голосом:
– Да, Елена Львовна! надо найти, кто виноват! И меня изумляет и огорчает: зачем Людмила Александровна не хочет помочь этим поискам?
Елена Львовна шумно поднялась с места:
– Людмила?!
– Да, да, Людмила, десять, сто, тысячу раз Людмила, – раздраженно заторопился Сердецкий.
– Вы... вы думаете...
– Я ничего не думаю, – остановил ее литератор, – я только пробую разные предположения, строю хоть сколько-нибудь возможные системы... Ревизанов когда-то считался женихом Людмилы Александровны... Скажите, Елена Львовна, не обижаясь напрасно за нашу общую любимицу: вы не думаете, что старая любовь не ржавеет? и что... тьфу, черт! как трудно говорить о подобных вещах, когда дело касается близкого человека...
– Я понимаю вас, Аркадий Николаевич, – печально сказала Елена Львовна. – Но – нет! Ревизанов был слишком противен Людмиле, она его ненавидела...
– Вот именно, как вы изволили выразиться, он был ей уж как-то с_л_и_ш_к_о_м противен, точно напоказ... Под такою откровенною ненавистью очень часто таится скрытая влюбленность... А ведь покойный был – надо же признаться – мужчина обаятельный и, кроме того, нахал великий: обстоятельство весьма важное. Донжуаны его типа видят женщину насквозь и показных ненавистей не боятся. Они умеют ловить момент. Сейчас – негодяй! мерзавец! презренный! А через минуту – случится чувственный порыв да подвернулись своевременно мужские объятия, дерзкие, безудержные, – глядь, вот тебе на! и уже не негодяй, а милый, хороший, прекрасный...