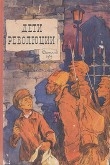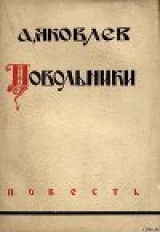
Текст книги "Повольники"
Автор книги: Александр Яковлев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
– Вот здесь я родилась. А это моя комната. Правда, хорошо? Смотри, какая яблоня под окном. Это папа посадил в день моего рождения. Видишь, она уже старенькая. А я? Я тоже старенькая? (И, смеясь, вздохнула)… А это моя няня. Няня, нянечка, как я люблю тебя. Это кто? А это мой муж. Герасим Максимович Боков, он все может сделать, что захочет. Венчались? Нам нельзя венчаться. Теперь закон не позволяет. У нас брак другой свадьбу мы справим на этой недели. Приходи, нянечка, я тебе материи на платье подарю. Правда, ведь, Гаря, мы подарим няне материи на платье? Ну, да, няня, он самый главный. Его знают самые, самые главные люди во всем нашем царстве.
А Боков бирюком оглядывался по сторонам и сесть не решался, смущался под пристальным взглядом старухи.
Спустя неделю в городе было событие: свадьба Бокова.
Хлопот было Ниночке – горы. Этого пригласи, с тем сговорись…
– Да помоги же мне, Гаря. Ах, какой ты, право, тюлень.
Боков открывал полусонные глаза.
– Ну, чего тебе, ну?
– Похлопочи, чтоб угощение было настоящее. Все я да я. А ты-то что же? Скажи, чтоб кур и гусей доставили из упродкома. Вот подпиши.
– Это что?
– Ах, пожалуйста, не рассуждай. Некогда мне…
Боков подписал.
И вот к вечеру же на плигинский двор приехали пять телег с гигантскими клетками, теми самыми, с которыми агенты упродкома ездили по уезду и собирали налог птицей.
А из клеток шум: гуси кричат, утки крякают. Базар птичий.
Ниночке еще больше хлопот…
– Гаря, подпиши.
– Что это?
– Пожалуйста, не рассуждай.
* * *
Старый плигинский дом был полон гостей в день свадьбы. Люди в куртках, гимнастерках, рубахах, фрэнчах, ситцевых платьях, с испитыми серыми лицами, на которых жизнь успела написать длинную повесть, – они толклись по всем комнатам.
«Совдеп» к этому дню уже был перенесен в другой дом, и здесь во всю ширь каталась Ниночка.
– Здесь спальня, здесь мой будуар, здесь моя приемная, здесь Гарина приемная, здесь Гарин кабинет…
Боков орал оглушительно: «пей!», обнимался со всеми и, спьянившись, потребовал гармонию, саратовскую, с колокольцами – и сам плясал под нее в присядку.
И снова орал:
– Контр-революция? Всех к стене! У меня вот они где, во!..
Он сжимал и разжимал кулак, стучал по столу, по стенам… А гости посмеивались, пили, славили в глаза Бокова и Ниночку, кричали ура, и «любимую» Бокова «Из-за острова на стрежень». Лунев распоряжался. В черном сюртуке, с красным цветком на груди, он носился по комнатам, угощал всех, называя себя отцом посаженным, и тенорком подтягивал нестройному пьяному хору. И за полночь далеко шумел пир.
Автомобили рыкали, светили глазасто, их рык в тихом городе слышался далеко – из края в край.
А город притаился – злой, как побитый зверь, – на улицу смотрели через щели чьи-то злые замечающие глаза.
– Советские гуляки, чтоб им…
Сам Боков пьяный, угрюмый, – ездил передом, в открытом автомобиле, и пьяненькая Ниночка за ним. Он слушал, как гости поют – радовался и гордился. И орал шофферу оглушительно:
– Лева, держи…
* * *
Веселым валом повалила Гараськина жизнь. Пестрая птица-щебетунья летает вокруг дубка, и дубку весело.
– Я тебя, Гаря, обожаю.
А Гараська обе руки протянет к птице – обнять или щипнуть, когда как. Э, да что там говорить. Все пошло, как в старинной русской песенке:
Много было попито, поедено,
Много было соболей поглажено.
Лунев окончательно стал в доме своим; как же, сват же. Все переговаривался с Ниночкой, тайно, наедине, показывал ей какие-то бумаги, внушал ей своим воркующим баском:
– Муж, конечно, голова, но жена – шея, и может повернуть эту голову, куда хочешь. Вы, Нина Федоровна, все, вы все можете. Дайте ему вот это подписать.
Ниночка давала. Боков хмурил лоб, читал важно и при этом шевелил губами.
– Это на счет чего же?
– А ты подписывай, пожалуйста.
И Гараська ставил внизу каракульки. А через день, через два, глядишь, у Ниночки новая брошь, новый кулон или новое платье.
Лунев ходит этакий таинственный, довольный, хитренько улыбается, белыми пухлыми пальцами расчесывает шелковую бороду.
И всем хорошо. В городе теперь знали, куда надо итти со своей докукой: к адвокату Луневу. А это главное – знать, куда пойти…
В городе же докуки росли. Все новые, одна острее другой. И злые разговоры пошли про Ниночку. Но не знала она про них.
Так-то вот.
Впрочем, и у ней была порой печаль – размолвки с Боковым. Чаще это бывало в дни похмельные.
– Гаря, вот Лунин говорит… надо ему устроить. Ты его слушайся, он образованный.
– Знаем мы этих образованных. К стенке их. Только контр-революцию они разводят.
– Ну, с тобой не сговоришь.
– А ты не говори. Чего ты, баба, понимаешь? Выпьем лучше.
– Ах, как ты выражаешься… «Баба»… Пожалуйста, я тебе не баба. Привык там с бабами возиться, и думает, что все бабы.
– Аль ты по другому устроена? Гляжу вот я, гляжу на тебя кажний день, ну, никакой отлички. Все у тебя, как у других баб сделано.
– Фу-фу-фу, какой ты грубый. Я и говорить с тобой не хочу.
И хлоп дверью. В будуар к себе… А Гараська:
– Хо-хо-хо…
Выпьет, посидит, еще выпьет и пойдет мириться.
Веселым валом, веселым валом валит Гараськина жизнь в плигинском доме.
* * *
Раз вечером на лодках поехали кататься. На передней – большой, восьмивесельной, реквизированной у купца Огольцова – сидел сам Боков с Ниночкой Белоклюцкой, пьяный, клюквенно красный. Нина приказала принести ковер, и улеглась на нем, довольная, как победительница. На других лодках ехали приятели Бокова.
Поднялись до цементного завода, выехали на середину и, бросив весла, поплыли по течению, мимо города. Пили, пели, орали. Самогон на этот раз попался плохой, кого-то стошнило.
– Товарищи, дуй мою любимую! – заорал Боков.
И все нестройно запели «Из-за острова на стрежень».
Боков сидел на ковре, опустив голову, потряхивая ею, и в такт песни постукивал ногой.
Нина обхватила его шею белой рукой, и тоже пела, немного пьяненькая.
Волга. Волга, мать родная…
Боков поднял голову и тупо посмотрел кругом – на товарищей, оравших песню, на пьяненькую Нину, на дальние берега, и вдруг поднялся большой, чернявый, вытянул руки в стороны, взмахнул и заорал громче всех, прадедовским оглушительным голосом:
Мощным взмахом поднимает
Он красавицу-княжну…
Он наклонился к Нине, схватил ее под руки и приподнял. Та испуганно глянула ему в глаза и… сразу поняла все. Как змея, она вывернулась и упала на дно лодки, возле скамьи. Боков схватил ее поперек туловища и попытался поднять. А сам орал:
И далеко прочь бросает…
Нина вцепилась как гвоздь в лавку, обвила руками и завизжала:
– Карау-ул!..
Песня здесь, на боковской лодке, сразу оборвалась. Орал только сам Боков. И на других лодках орали:
В набежавшую волну.
– Караул!.. Спасите!.. – визжала Ниночка.
Боков рвал на ней платье, подвинул к борту, но Нина теперь вся белая на солнышке, голенькая, держалась за скамью крепко. Лодка качалась, готовая перевернуться.
– Боков! Гараська! Что ты делаешь? – закричали испуганные голоса.
– Боков, брось!
– Ха-ха-хо-хо…
– Товарищ Боков, бросьте!
– Караул!.. Родимые, спасите!
– Утоплю!..
Кто-то навалился на Бокова, пытался удержать его. Началась борьба. Боков схватил Нину за косу.
– Пусти. Прочь!..
– Боков, опомнись!..
– Прочь!
Раздался выстрел.
– Карау-ул!..
Лодки сгрудились. Кто-то ударил Бокова веслом по шее. Ниночка в разорванной рубашечке, в кружевных панталончиках и черных шелковых чулках начала прыгать из лодки в лодку. У ней на голой груди поблескивал золотой медальон, а пониже под грудью и на животе краснела свежая царапина. Боков прыгнул за ней.
– Бейте ее, суку. Топите!.. А-а-а…
Ниночка визжала, вся обезумевшая.
– Боков, брось. Чорт, брось!.. Что ты? Очумел?!
– Убью!..
Догадались оттолкнуть лодку, в которую прыгнула Ниночка. Боков прыгнул и упал в воду. Его выволокли на большую «атаманскую» лодку, мокрого, ругающегося. Ниночка уже ехала поспешно к городу, на маленькой лодке.
– Стой, куда? – орал Боков. – Убью!
Он хотел стрелять из револьвера, ему не дали.
– Всех к стенке!.. Я вам покажу. Прочь! А ты… нынче же тебя удушу… – грозил он вслед уплывающей лодке.
– Вы… Греби за ней. Греби!.. Ну… А-а, та-ак!..
* * *
А кто-то считал грехи Бокова. День за днем так вот и вел бухгалтерские записи.
– Реквизировал в свою пользу. Убил. Пьянствовал. Дрался…
А кто-то считал его грехи, считал. Считал и Ниночкины грехи. Где-то далеко, в столицах, в советах, думали, почему мужики бунтуют. Крестьянская власть, а мужики: «долой эту власть».
И вот додумались, и подул новый ветер.
Однажды вечером прибежал к Бокову взволнованный Любович. Согнулся, угодливый и вместе наглый.
– Товарищ Боков, вы слышали? К нам выехала ревтройка.
А Боков в этот день был пьян. И вчера был пьян. И в субботу.
– Не жжелаю! – проворчал он и отмахнулся рукой.
– Но вы понимаете? Это же дело серьезное. Как вы не боитесь?
Боков повернулся и пьяными глазами посверлил лицо Любовича.
– Кто-о? Я-а? Бояться? Гараська Боков?.. Ни чорта, ни бога, ни царей, ни комиссаров не боится. Всех к…
– Но поймите, тройка ведь едет, тройка.
– Тройка?.. К чорту тройку. Я сам целый десяток.
– Покаетесь вы, товарищ Боков, поздно будет.
Боков стал, как клюква.
– Ты кто тут такой? А? П'шел вон, сволочь… А то – счас к стенке!
* * *
Да, тройка приехала. Но и не тройка даже, а целый отряд, готовый к борьбе и завоеваниям.
Пришли в плигинский дом люди властные, с какими-то бумажками, которые действовали, как талисман. Один – в казинетовом пиджаке, в ситцевой рубашке с грязноватым воротом, с рыжей бороденкой – лез везде. Обошел весь дом – плигинский-то, все пятнадцать комнат, открыл дверцы буфета, где Ниночка хранила припасы на случай чего. В будуар к ней зашел. В будуар!.. Все вынесла спокойно Ниночка. Даже, когда в буфет заглянули. Но в будуар…
– Не смейте, не смейте. Не имеете право заходить сюда.
И ножкой капризно топнула.
– Гаря, да скажи им. Это безобразие.
А рыжебородый смотрел на нее с любопытством, как на зверька какого.
– Вы не имеете права. А вы кто такие?
А рыжебородый нахмурился, покрутил бороденку пальцами.
– Это заня-ятно, сударыня.
Так и сказал:
– Сударыня.
И два других – во фрэнчах, холодно, оба со светлыми глазами, кривили в улыбке губы.
И знаете, ведь залезли в Ниночкины сундуки, все вывернули, перебрали, и все сложили в ящик и опечатали.
Тут только Ниночка поняла, что случилось необыкновенное. Она беспомощно оглянулась на Бокова. А тот – хмурый, полупьяный с похмелья – глаза в пол – молчит. У Ниночки нервно задрожали губы. Она вдруг рассмеялась.
* * *
Судили их на другой день. В том же плигинском доме, в зале, где справляли немного месяцев назад свадьбу.
Боков и Ниночка сидели в углу, чуть в тени. А свидетели – все на свету. Делегатки с заводов, те самые, что пели «во лузях», разъезжая по городу в автомобилях. Служащие совета, бородатые мещане. Они боязливо смотрели в тень на Бокова, на Ниночку и говорили:
– Забрал, отнял, убил.
Боков сидел, будто к стулу прирос, смотрел на них злыми угрюмыми глазами, и губы шевелились в угрозе:
– А, предатели. Ну-ж, я вам.
Судьи же ровненько вели дело, спокойно выспрашивали, как Боков пировал, отнимал, убивал. И ни у кого доброго слова не нашлось о Бокове. Увидели все! не жизнь – угар.
Потом рыжебородый позвал:
– Товарищ Лунев.
Оба – и Ниночка и Боков – переглянулись.
– Вот идет наша защита.
Лунев вошел все такой же: лицо благообразное, борода расчесана, волосок к волоску. Но в пиджаке потрепанном, чтоб походить на товарищей вот этих, что сидят за столом. Он не взглянул ни на Бокова, ни на Ниночку. Просто заговорил:
– Пил. Буянил. Грабил. Убивал. Срамил.
Боков вдруг вскочил, и не успели часовые опомниться, он уже подмял под себя Лунева, таская его за бороду, и колотил головой о пол.
Сразу всякий порядок нарушил…
Тем суд и кончился.
Рыжебородый прочитал приговор:
– Боков и Нина Белоклюцкая приговаривались к расстрелу за дис… дис… Этакое какое-то слово: дис… дис… и дальше – про Советскую власть что-то. И слова-то такого Боков прежде не слыхал. Да. Пошли слова разные…
* * *
Где-то на задах, за каменным забором плигинского дома, в третий раз протрубил вещий петух.
Из дома во двор вышли красноармейцы – трое – с двумя фонариками, но посмотрели на небо: на белые полосы, что протянулись с востока, из-за гор, – и потушили фонарики:
– Без них видно.
Не спеша завозились около автомобиля – грузового, похожего на открытый гроб.
Потом из дома вышли еще люди – и между ними рыжебородый – со сна потягивались, ходили деловито, говорили вполголоса, с хрипотцой.
Автомобиль зафыркал, вздрагивая. Тогда рыжебородый сказал:
– Ну, что же, ведите.
Красноармейцы – трое – вернулись в дом, а фонарики оставили у двери, были там долго, автомобиль фыркал нетерпеливо и рыжебородый сурово крикнул в раскрытую дверь:
– Ну, что же там, скоро? Светает уже.
Голос из двери – из темноты ответил лениво:
– Собираются.
– Поторопите.
Вышли – сперва красноармеец с винтовкой в руке, потом Боков – в сером фрэнче («Как он идет тебе!»), галифе, фуражка до самых бровей. Лицо крепкое, каляное.
Ниночка рядом – в черном пальто, из-под пальто – белое батистовое платье, тонкий, тоже белый шарфик на голове, из-под него – пряди волос. В глазах… глаза – копейки… Она не плакала.
По тихим, совсем тихим улицам – где ночные сторожа спали на углах, прислонившись к стене дома или к забору, – в начинающемся рассвете мчался автомобиль. По обоим углам четыреугольного ящика, прямо на заднем борту сидели два красноармейца с винтовками, а у их ног, прямо на полу Боков и Ниночка рядом, и ее черное пальто закрывало черный фрэнч Бокова, а голова прислонилась к его плечу. Впереди еще красноармейцы и рыжебородый с ними.
Цыганской улицей выехали на окраину. Вот крайний дом Вавиловых – во дворе высокая ветла. Боков встрепенулся, вытянул шею. Сейчас вот, сейчас… Вот… Вот… Двухоконный дом… Ставни закрыты. У стены два кривых потрескавшихся дубовых бревна.
Он вспомнил мать, ее встречу с ним и опять сел и будто ослаб весь.
У кладбища на углу, где лохматилась свежая яма, а неподалеку виднелись бугорки – целый ряд бугорков, – автомобиль остановился. Уже светало. Слева, на горе, кладбище – церковь виднеется из-за деревьев, справа – лысый холм, а за ним, далеко, лес. Красноармейцы живо соскочили с автомобиля. И рыжебородый с ними. Все они не смотрели один на другого, хмурились.
– Вылезайте, – каркнул рыжий.
Боков и Ниночка поднялись. Боков большой, как столб, и широкий, Ниночка возле него, кака девочка. Боков спрыгнул. Шагнул раз, два, три, остановился – глаза в землю, лицо каменное. Кто-то догадался, откинул борт автомобиля, и Ниночка тоже спрыгнула на землю. Она глядела на всех широко открытыми глазами, будто ничего не понимала, подошла к Бокову и взяла его под руку, просто, словно искала у него защиты и, взяв, опять поочередно оглянулась на всех: на красноармейцев, на рыжебородого. Вдруг Боков дрогнул и странный звук вырвался у него из горла – и будто стон, и будто крик. Ниночка испуганно поглядела момент молча прямо в лицо Бокову. И все будто поняла. Она сразу сломилась, лицом приникла к серому рукаву его фрэнча и заплакала в голос. А плач – будто сигнал. Рыжий нахмурился, задвигался нетерпеливо, что-то сказал красноармейцу со светлыми глазами. Тот подошел к Бокову и сказал жестко:
– Будет. Раздеться.
Боков разом умолк. Встряхнулся.
Красноармеец притронулся правой рукой к руке Ниночки и опять сказал раздельно и жестко:
– Будет. Раздеться и вам.
Подошел другой и, молча, сопя, стал грубо и вместе деловито, привычно стаскивать черное пальто с Ниночкиных плеч. Та перестала плакать и сама освободила руки из рукавов, потом сбросила шарфик с головы и в белом платье на момент стала, как невеста.
А другие красноармейцы раздевали Бокова…
Через минуту Ниночка в одном белье, с голыми круглыми руками и грудью стояла среди этих грубых тяжело суетливых людей. Она дрожала, прятала глаза.
– Марш к яме, – скомандовал старший.
Кругом щелкали затворы, и лица – как железо. Ниночка вдруг обняла голой рукой Бокова за шею, поцеловала в левую щеку, возле уса:
– Прощай.
И решительно побежала к яме, накалывая ноги на острые мелкие камешки.
И едва добежала до первых черных комочков выброшенной земли, за ней ахнул залп…
Боков закрыл лицо руками, согнулся и пошел к яме спотыкаясь…
* * *
В городе открыто служили благодарственные молебны:
– О избавлении.
Бабы, встречаясь с Митревной у бассейна, говорили ей напрямки и радостно:
– Слава Богу, пристрелили сынка-то твово. Наделал делов, ирод.
И от этих слов каменела Митревна на людях. Молчала. Молча наберет в ведрышко воды и, подпираясь палочкой, пойдет домой. Сгорбленная, старая. А бабы смотрят ей вслед – и злорадство, и жалость в глазах.
И только закрыв калитку, Митревна вдруг преображалась – шла к крыльцу качаясь, плача, порой вопила в голос – старушечьим слабым вопом.
А в тот, первый день она, узнав обо всем на улице, упала вот здесь за калиткой, на пустом широком дворе и лежала долго-долго, одна, теперь в целом свете одна.
Теперь ей некого было ждать.
Вечерами она привычно садилась у окна, смотрела, как за буграми, за пороховушкой – теперь сломанной, только столбы торчали, – садилось солнце, как из-за бугров, поднимая пыль, выползало стадо и пестрыми цветами рассыпалось по склону.
Тени густели, чернели. Надвигалась ночь. А Митревна все смотрела, упорно и вместе равнодушно.
И ждала чего-то… до глубокой ночи.