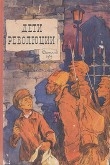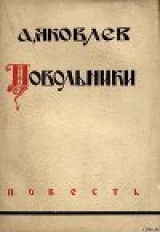
Текст книги "Повольники"
Автор книги: Александр Яковлев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
– Вода одна, а в ней картошка нелупаная. Это – суп Сандецкий.
И добавляли слова. Волосы от них дыбом:
– Быть беде. Сорвутся, достанется начальству.
Но не срывались. На цепях сидели невидимых, крепко прикованные.
Однако беда на самом деле пришла в тихий город. И пришла совсем не оттуда, откуда ее ждали. Раз как-то зимой, на втором году войны – трах! – гром:
– Убили Вавилиху с дочерью.
Была такая купчиха в городе – мучника Вавилова вдова.
– Голову отрезали, все перевернули, все унесли…
– Батюшки, ведь последние времена…
– Кто убил?
– Не иначе, солдатня. Кому больше? Вон их сколько.
Загрешили на солдат: они…
Недели не прошло, – трах, – еще:
– Кузнеца Скрипкина задушили…
На этот раз и свидетели появились: видали, как солдаты к дому подходили.
На пятнадцать запоров стали все запираться. И калитку, и ворота, и дверь в сени, и дверь в избу, и окна – и задвижками и кольями. Такие страхи пошли – волосы на голове столбом встают.
Бывали в Белом Яру убийства в драке, по пьяному делу, но чтобы из-за грабежа в таком тихом праведном городе? – забыли про это и думать.
А здесь, на-ка, пойди.
Двух месяцев не прошло, убили семью Потаповых в садах. Да как убили-то: с пытками, с муками… Привязали Потапова к скамье, жгли лицо, бороду выщипали: пытали, где спрятал деньги. И только после пыток убили.
А потом… э, да и не перечислить. Заговорили: шайка действует. Предводитель – большой чернобородый. Стали чернобородых бояться. Увидят какого:
– Не он ли?
Полиция с ног сбилась. Исправник Кузьма Дмитрич в отставку подал: невмоготу стало – в городе ворчат, из губернии нахлобучки. Тяжело на старости лет.
Приехали откуда-то сыщики – говорили в городе, будто гурьбой ходят.
А шайка, словно вызов: в одну ночь три семьи… При сыщиках. Дескать, вот вы искать приехали? На-те же вам.
– Вот она война-то. Зверюет народ.
Раз на базаре этакий юркий противный человечишко подошел к боковским саням и глядит на них, глядит. А Боков лошадьми торгует. Летом арбузы, зимой лошади… На том и держался. Его крик до самого Саратова слыхать. Человек руку под сено…
– Эй, миляк, тебе чего?
Отошел человек, как собака, ежели на нее крикнуть. Боков опять хайло западней. А человечек с другим человечком, с третьим. Поглядели на сани, поворошили сено. Ушли. Привели околоточного… И Бокова-то, Павла Бокова, известного каждому мальчишке – повели в полицию.
Весь базар недоумевал.
– Не иначе, как краденая лошадь попала.
А на санях-то кровь была. В полиции Боков миллион слов сказал: и свинью-то резал, и корову-то резал, и кур-то резал, и в пьяном виде дрался с приятелями, носы им разбивал…
Чем больше говорили, тем веселее становились человечки:
– Нашли…
Собрали детей каких-то: не всех грабители убивали.
Одна девочка – лет пяти – увидала Бокова – ревку!
– Этот дяденька маме голову отрезал.
Охнул Боков, закрутился.
– Что ты, Господь с тобой? Ты погляди на меня.
Та еще пуще.
– Вот и кричал-то этак.
У Бокова обыск, и на сеновале в углу: шубы, золотые вещи, три самовара, пятеро сапог… И Вавилихи, и кузнеца Скрипкина, и садовода Потапова…
* * *
Времена те были строгие. Полгода не прошло, раз в весенний погожий день собиралась Аграфена Бокова спозаранку в церковь. В черном сарафане, белые рукава, белый платок на голове – будто монашенка – соседки коров в табун только погнали.
– Куда, Митревна?
– В церкву…
– Аль кто именинник?
– Суд нынче. Пашеньку судят.
Соседки головами качают, вздыхают.
И, отойдя, промеж себя:
– Па-шень-ку. Этого бы Пашеньку из поганого ружья пристрелить.
Тихими предутренними улицами пошла Митревна к Покрову, – пусть двери пока заперты, – на паперти стала на колени, лбом к плитам каменным, и лежала так долго, долго, вздрагивая плечами – старческими, костлявыми. А когда подняла лицо и закрестилась, на каменных плитах осталась лужица слез, будто кто водой из чашки плеснул.
Двери же были заперты. Большие, железные. И замок на них – весом с полпуда…
На суде Павел Боков был все такой-же: суетливый, глаза круглые, голос с хрипотцой, клялся, кричал, будто продавал арбузы, говорил неуемно, так что солдаты-конвоиры порой дергали его за пиджак, унимали. И чем больше говорил он, тем увереннее становились лица судей.
В зале все было отчетливо – говорили прокурор, свидетели, адвокаты, плакали дети, показывая маленькими пальчиками на Павла Бокова.
– Вот этот дяденька.
Боков кричал:
– Вре-ет! Оно еще глупое. Оно коровы от гвоздя не отличит. Разве так можно, чтобы дети? Я жаловаться буду.
Будто арбузы продавал.
Другие подсудимые молчали; их было шестеро, – угрюмо глядели вокруг.
А в уголке, вытирая глаза концами головного платка, сидела Митревна и смотрела безмолвно то на Пашеньку, то на строгого седого судью, что сидел в середине за столом, то в угол на икону. И слезы бисером по щекам.
Ненадолго ушли судьи, – в зале была тишина, и Митревна подошла к Пашеньке, за руку взяла его, плакала.
– Сыночек, миленький.
Пашенька вырвал руку, сурово сказал:
– Ступай сядь, где сидела…
Вдруг – тишь. Только шаги: топ-топ-топ-топ… Судьи – трое, один за другим – прошли в тиши, у переднего, седого, бумага.
Все в зале столбами.
– По указу… бул-бул-бул-бул-бул… через повешение.
Пашенька дернулся. Кто-то сдавленно охнул.
И тут только поняла Митревна, захрипела, качнулась и упала в тьму.
* * *
Дни кубарем, как веселые мальчишки, один за другим, один за другим. Прыгнет, мелькнет и нет его. И нет.
Вечерами, когда солнце уходило за бугры, на которых четко чернела пороховушка, – Митревна садилась у окна и глядела туда, на пороховушку, на край красного неба, думала.
Поднимая пыль, из-за бугров выползало коровье стадо – сперва одна корова, потом разом две, три, – будто кучи подвижные – все темные на фоне красного неба, – потом выползало плотной подвижной массой и усыпали дорогу по склону.
Митревна думала о коровах, о солнце, о днях уходящих, думала о пережитом за день, но думы были отрывисты, коротки, словно изношенные лоскутки, из которых ничего не сошьешь. Только вот, когда Пашенька… И вздох, и слезы, и непривычная к думам голова – все, все подскажет, и сердцу станет больно.
– Господи, Господи…
А солнце уже за буграми, теперь черными, и стадо прошло, а Митревна все сидит. Одна. В доме одна, на улице одна (чуждаются ее), и в мире целом одна.
Герасим – вот ее подмога. Он где-то в окопах.
– Мамаша, вернусь. Мамаша, не сумлевайся.
Письма иной раз хорошие.
Если бы не Герасим, зачем бы жить?
И блюдет дом Митревна, бережет его Герасиму. И телеги бережет, и сани, хотя покупатели на все были – вороньем налетели, когда узнали про несчастье, что Павла повесили – устояла Митревна, ничего не продала. На почте почтальону, что за гривенник письма писал, говорила:
– А еще пропиши ты ему, жду, мол, его, берегу все. Придет с войны, женится, внуки будут… Ничего не транжирю.
Ночь тихой стопой идет. И не спится Митревне. Все думает, думает она. А думы – непривычно тяжкие, обрывистые.
Утром же рано, только-только петух пропоет в хлевушке возле амбара (того самого, в котором Павел прятал награбленные вещи), Митревна уже на ногах. Ходит, вздыхает, крестится, медленно почесывается, затопляет печь и варит в глиняном горшке щи – воду с капустой и щепоткой соли.
А там – тупая скука на целый день.
Только в праздники и под праздники – едва колокол позовет – тихой улицей пойдет она к Покрову, все одной, одной дорожкой, которой ходила и пять, и десять, и двадцать, и тридцать лет.
И жизнь ей кажется вот этой тихой и скучной улицей.
Впрочем изредка она мечтала:
– Придет Гараська… придет. Кончится же эта проклятущая война. Женится. И сани нужны будут, и телеги, и дом. Сноха будет. Дети будут у них. Поняньчить бы.
Больше всего она думала о внучатах. Хотела их.
* * *
Была зима – нудная, тяжкая – первая зима, когда Митревна осталась одна в дому. А зимой старый человек вдвое старее. Кости ломило, по ночам не спалось, тоска и скука глодали беспрерывно… Гараська не писал в эту зиму совсем. Каждый полдень, когда кругленькая низенькая почтальонша в черной запорошенной по подолу юбке с кожаной сумкой через плечо проходила мимо окон, Митревна глядела на нее пристально:
– Не завернет ли ко двору?
И провожала долгим взглядом…
Письма не было и не было.
И долгой казалась зима ей, и скучной.
Одна на свете белом, – умрешь, похоронить некому.
Но рано или поздно все кончается, – и зима кончилась. Вечерами солнышко уходило за бугры – большое, красное, улыбчивое, будто говорило:
– Не унывай. Завтра приду, дольше пробуду.
И правда, приходило, забиралось на небо выше, чем вчера. Капель звенела днями целыми, а утром выйдешь – за ночь сосульки наросли на поларшина. Петух ночью в хлеве и днем на дворе пел яростно и оглушительно, будто чуял себя полным хозяином жизни. И огневое поднималось отовсюду.
А там – пришел день, когда женщина с тонкими поджатыми губами, вся в красном, прошла из края в край и стукнула во все двери:
– Революция.
И каждый вздрогнул, и почти все обрадовались, понимая это слово, как кто хотел, но с пользой для себя.
Раз увидела в окно Митревна: бегут бабы по темной обмякшей дороге. И Катя Красная – шабренка, и Варвара Маркелова, и еще, и еще… Дома не успели по настоящему снарядиться на улице уже и бедуимы накидывают, и платки оправляют, бегут.
– Ай, батюшки, не пожар ли? – забеспокоилась Митревна.
Бедуим на плечи и – на улицу.
Там: бабы толпой по углам, все в одну сторону смотрят. Но дыма нет, и сплох не бьют; значит, не пожар.
– Чего глядят-то?
– Свобода пришла. Конец войне. Наших мужиков вернут…
– Конец? Значит, Гаранюшка-то…
Митревна так и села на обмякшую дорогу.
* * *
Революцию так вот и поняли: свобода, значит, – кончены муки, довольно нашим мужикам в грязных окопах сидеть да простужаться. Весна, – город засветился радостью. Летом – солдат попер с фронта, сперва реденько, потом гуще, гуще, а потом, после Покрова, что ни поезд, то целый полк припрет, так сплошь и засереет дорога от станции до города. Только Гараськи все не было. И не писал он. И еще тяжелее было Митревне от его молчания.
Шли с фронта решительные, крикливые, резкие, с винтовками и тугими мешками за плечами, с зелеными котелками у пояса, с сумраками в глазах, они гужем шли, но совсем не те, что немного лет назад уходили из города. Нет, теперь это были волки – угрюмые, злые.
А Митревна все искала, выспрашивала:
– Гаранюшку мово не видели ли?
– Милиены там народа, а ты – Га-ра-нюш-ка!
Но нашлись и такие, кто знал про Бокова.
– Воюет. По новому воюет, с нашими буржуями. И-й, герой! Большевиком стал. Командер теперь у них.
Не верила Митревна. Слыхала она про большевиков-то. Это те самые проклятики, что всю жизнь мутят.
– То Гаранюшка взаправду герой, три креста егорьевских, а то… да неужели? Врут поди.
И через немного дней еще весть:
– Воюет. Большевик.
Вот тут-то и заюжала Митревна.
– Да ведь этак-то он и совсем могет не притти?
– Могет.
– Господи батюшка!..
Ну, к гадалке ходила, молебны служила, просфору каждое воскресение подавала и свечу ставила – каждую службу – пятаковую свечу.
Днями ждала она и ночами. Похудела до черноты, и все лицо исхлостилось морщинками, стало на печеное яблоко похоже, – вот будто из-под корочки весь сок вытек.
Днем было хорошо ждать: кто-то по улице идет, – не он ли? – и подумать можно о прохожем, снять острую царапинку-думу с сердца. А ночью вот хуже. Тут одна с думами, одна с муками…
Раз весенней ночью (пароходы уже ходили) услыхала она, подъехал кто-то ко двору. Митревна встрепенулась, подняла голову с подушки:
– Не он ли?
А в ставню: бот-бот-бот…
Он!..
Босиком, в юбченке одной выбежала к воротам. И-и, что было! Сама ведь втащила в сени тяжелый Гараськин сундучишко. Аж хрустели в руках косточки, а тащила. Затурилась старуха, волчком забегала по дому: двадцать лет с костей.
А Гараська… Гараська-то был пьяный… Сразу заметила Митревна: нижняя губа у него чуть отвисла, точь в точь как бывало у старика, когда он лишку переложит. И глаза были круглые, очень серьезные, сумасшедшие, и сумрак в них, что твой темный лес.
– Ерой ты мой. Кресты-то где у тебя? Тут мне все уши проужжали. «Ерой Боков, ерой». А я тебя с крестами-то и не видала.
– Ну, кресты, – махнул Гараська рукой, – теперь крестов нет.
Митревна ничего не понимала, но просто, по-старушечьи плакала от умиления:
– Милый ты мой, ерой ты мой…
Только вот, когда куражливый Гараська раскрыл сундучек и начал вынимать из него золотые и серебряные часы (трое часов вынул), кольца, браслеты, брошки, какие-то круглые штуки из золота (Митревна никогда не видала таких), потом смятые офицерские брюки, тонкое белье, два револьвера, – Митревна похолодела: чем-то, как-то эти вещи напомнили ей те самовары, что Павел прятал на сушилах, в сене…
– Откуда у тебя это?
– Ты, мамаша, не можешь понимать, каких это денег стоит. Ведь это богатство.
– А взял-то ты где?
– У буржуев отнял.
И Гараська загнул словцо.
– А тебе ничего не будет за это? Ой, Гаранюшка, как бы… вот Павла-то…
– Меня-я? Одной минуты тот жив не будет, кто меня тронет. Я…
И еще словцо.
Здоровый, – в плечах косая сажень с четвертью, глаза черные, лицо смуглое, выразительное, брови насуплены, срослись над переносьем, а глотка, что труба…
Да, есть вот такой танец: «Метелица».
– Берись за руки, сколько ни есть.
И все берутся за руки, сколько ни есть. Девки, парни, девченки, мальчишки, глядишь, иной раз бородач прицепился – засмеется, все лицо как старый лоскут измятый станет, тетка порой – под пятьдесят ей, а она: «И я, девоньки, с вами»… Все, все – потому что «Метелица».
– Жарь!
Гармонист жарнет – эдакую плясовую, что ноги сами скачут; передовой дробно вдарит каблуками в пол, пустит звонкую, невозможную трель, – и «Метелица» началась.
По всему простору несется пестрая цепь. По всем углам и закоулкам проведет ее передовой – и змеей, и кольцами, и кругами, и палочкой. Ведет – и сам не знает, куда поведет через минуту. В кухню? Валяй в кухню. Вокруг печки? Вокруг печки. Под стол? И все лезут – под музыку, с выкриками и приплясом – все лезут под стол. Через лавку? Катай через лавку… Потому что «Метелица».
И никто не знает, куда он в ней – в какой угол-закоулок – попадет сейчас. Несется, не рассуждая, не раздумывая, не чувствуя почти.
А гармонист в «Метелице» злодей: увидит, все приноровились плясать под «барыню», он пустит «камаринского». Значит, меняй ногу, бей чаще каблучком. И смех, переполох, катавасия. Но вот справились все, – злодей к чорту «камаринского» – и – р-раз! – «во саду ли в огороде»…
Так скачет неровно пестрая цепь, не знает, куда попадет через минуту, не знает, под какую музыку плясать будет…
Потому что «Метелица».
На фронте еще, далеко от города родного, встал Гараська в цепь революционной метелицы.
– Жарь!
И запрыгал, заплясал, пошел в цепи с выкриками, и руками, и ногами, и всем телом плясал, – весь отдался бешеному плясу. Зажегся, как огонь бенгальский. Вниз головой в самую гущу кинулся. И не думал, не рассуждал. Да и не привык он к этому трудному делу. Просто:
– Жарь!
Этот революционный пляс стал сильнее его воли, потому что будил в нем подземное, прадедовское, повольное, и звал, и не давал покоя.
Недельку всего прожил Гараська дома. По гостям ходил, подарки дарил, все раздарил да прожил, что привез, только два револьвера себе оставил да брюки мятые, офицерские. Как-то услыхал в похмельный день, что в Саратове буржуи забунтовали, туда стегнул, Митревна опомниться не успела.
– Гаранюшка, Гаранюшка!
А Гаранюшки и след простыл. Женить хотела, внуков хотела; сохи, бороны, телеги берегла – ничегошеньки Гараське такого не надо. Помануло волка в лес.
Плясом крепким пошла революционная метелица по городам, селам и деревням. Гром, свист, выкрики, стрельба. Кто знает, где завтра будет: под столом или на столе?
Двух недель не прошло – слышь-послышь, про Герасима слух по Белоярью пошел:
– Такой храбрец, передом у них идет, нигде не дрефит.
Чудаки люди! Где же и перед чем Гараська сдрефит?
Это же в нашем Белоярье, городе буйном, песню-то поют во всю глотку:
Наша матушка Расея
Всему свету голова.
Пляши, товарищ! Гуляй!..
И когда эти бородатые кулугуры мещане – белоярские пупыри – забунтовали (каждый город на Руси бунтовал), их усмирять пришел Гараська с товарищами. Как же, здесь же ему ведомы все пути-переулочки, он как дома.
И прокляли его, и Митревну проклинали за то, что породила такого, дом сжечь хотели, не успели, потому что коршуньем налетел Гараська с товарищами на город родной, сразу в ста местах сражался, такого страха нагнал и на дьяволов бородатых, и на офицериков блестящих – все от него – кто по щелям, кто по полям. В той метелице, что через Белоярье прошла, через тихий угол этот – Гараська передовым был, заводилою.
– Жарь! Бей!
Двух месяцев не прошло, в Белоярье ревком появился, а в ревкоме – Гараська главный.
Но тут-то вот, когда метелица закружилась на одном месте, в ее цепь ввернулась Ниночка Белоклюцкая – закружилась вместе с Гараською, на Гараськину голову закружилась…
* * *
А Ниночка – вот она.
Был в уезде помещик Федор Белоклюцкий, деды его Белым Ключем владели, большим селом, с мужиками оборотистыми. У самого Федора Михайловича от прежних владений осталась только усадьба при селе и старинный дом в городе. Остальное все было прожито и пропито. Хорошо жил Федор Михайлович – со смаком: выезды, дамы, пиры, а когда война стукнула в дверь – глядь, от прежних богатств одни дудоры остались да дочка Ниночка – глупенькая немного, но хорошенькая, словно куколка. У Ниночки было одно очень ценное достоинство: она умела отлично одеваться и причесываться. И между уездными ленивыми воронами – она была как пава… Всю войну она с офицериками пробегала – летом в городском саду, а зимой на улице на Московской. Идет, бывало, по улице, каблучком четко постукивает, смеется, – колокольчик звенит, – а офицерье гужем за ней и смотрят на нее жадно, как коты на сметану. Лишь под утро возвращалась она в старый отцовский дом, пьяная и от вина и от угара любовного; прикрикивала на няньку ворчунью и ложилась спать вплоть до вечера, чтобы с вечера начать все снова… А отцу… Не дело было пьяному отцу смотреть за Ниночкой. Нянька бывало ему:
– Внуши ты ей, Федор Михайлович. Непорядки ведь, люди смеются.
А он:
– Цыц, хамка. Не твое дело.
Пойдет нянька – старая старуха (лет сорок у Белоклюцких жила), пойдет в свою комнату, станет перед иконой «Утоли моя печали» и начнет поклоны бить. Все выложит, все свои горести. Начнет просить и Богородицу, и Николу, и все святых – и гуртом и по одиночке – чтобы внушили они разум глупенькой девочке Ниночке…
Да нет уж, где уж…
Вся жизнь не только в городе одном, а в мире целом с панталыку сбилась, все стали с ума сходить, так где же тут Ниночке справиться – неустойчивой, листочку под ветром.
Стали поговаривать про Ниночку в городе – видали ее и на Песках на Волге ночью, будто она с офицериками… купалась будто…
Подруги от нее, как овечки от волка, смотрят испуганно и жалостливо и брезгливо, а пересудов-то, пересудов горы.
Но густым басом залаяла революция, и сразу смолкли пискливые голосишки. Встрепенулось все, закружилось, словно вихрь, и жизнь помчалась, будто молодая кобылица, – хвост трубой. Офицеры, солдаты, мещане, рабочие с заводов ходили гурьбами по улицам – под руку – угарно пьяные от радости и выкрикивали непривычными голосами непривычные песни:
– Вперед, вперед, вперед…
Ниночка уже в этой толпе, тоже под руку, грудь колесом, прямая, голову вверх, вся задор, горячая. Ох, умела она ходить! Вот есть такие: пройдет по улице, кто увидит, до другого года помнить будет.
И, поглядывая на нее, толпа серых солдат и истомленных рабочих задорнее и громче пела привычные песни.
Где-то по углам бабы толкали одна другую в бока и, показывая на Ниночку, говорили:
– Гляди-ка, она уже тут.
– Ах, чтоб ее.
Но в шуме радостном, в песнях задорных голоса эти проходили неслышным шопотом.
А дни – гужем, гужем непрерывным, и скоро унесли с собою радость первых дней. Все лето праздный город грыз семячки. И томился от праздности. Чего-то ждали люди, на что-то надеялись. А чего – никто не понимал. Ну, вот как есть никто.
Потом пришла осень, и задорным конем жизнь вздыбилась, заупрямилась, закружилась на месте.
Конечно, Ниночка была против этих, новых-то законодателей. Офицерики еще кружились возле нее, пристально посматривая, как колышатся ее бока при походке, но уже были они новые, порой испуганные, порой теряли свой блеск и неотразимость, и шипели часто, а Ниночка смотрела на них растерянно, и даже ей почему-то не хотелось в эти дни слышать о любви.
Потом через немного месяцев в городе – в тихом, благочестивом – была стрельба прямо на улицах, и люди убивали друг друга. Две недели Ниночка высидела в старом доме безвыходно, с пьяным отцом, одряхлевшим, словно заплесневатый пень.
И какой острой ненавистью пылала она к этой бунтующей солдатне… Вспомнит, как тогда, весной, она ходила под руку, и вся вспыхнет:
– Уф…
Но странными путями жизнь скачет по российским просторам.
Они, эти серые, резкие, крикливые – они стали у власти.
Пропали офицерики. Выйдет Ниночка на Московскую, а там, то-есть, ни одного приятного лица, ни одних закрученных душистых усов.
Но во все времена Ниночка – Ниночка. Она чувствовала, как со всех сторон жадно смотрели на нее эти серые, эти с резкими лицами – смотрели откровенно, как кривились толстогубые большие рты в улыбках. Взгляды впивались остро в каждую частицу ее тела. И крик порой:
– Э-эх, малина!..
А подземное, звериное уже бьется в сердце, привычно трепетом проходит и брызжет в смехе, глядит в улыбке, в походке… Ниночка-Ниночка.
* * *
Но дорога направо, дорога налево, дорога вперед. В этой кутерьме воистину никто не знает, где он будет завтра.
Дума. Старинное здание. Те же двери, окна, полы, надписи, сторожа. Но не дума это – совет. И новых барышень в нем тьма.
– Товарищ Ефимова, вы занесли в книгу эту повестку?
– Занесла, товарищ Высоцкая.
– Товарищ Белоклюцкая, вы куда?..
Здесь уже, здесь Ниночка. Шашки передвинулись. Служит, пишет что-то. Никому не нужное, в ненужных книгах. Ниночка, писавшая до этого только любовные записочки, да прежде задачи в тетрадках.
В этой массе новых служащих она, как канарейка среди воробьев, потому что у Ниночки было одно великое достоинство: она умела прекрасно со вкусом одеться и причесаться к лицу.
И всяк, кто войдет в совет, всяк глазами зирк на канарейку. Это же закон – к хорошему тянуться. Комиссары ли там, солдаты царапают взглядами Ниночку, воровскими, острыми…
И месяца не прошло, еще раз передвинулись шашки – Ниночка стала секретарем, знаете ли, секретарем у самого Бокова, о котором и в совете, и в городе, и в уезде говорили со странным смешанным чувством ненависти и страха.
* * *
День. Товарищ Боков – за большим резным столом, где прежде городской голова. Товарищ Белоклюцкая – сбоку, за столом маленьким. На лице – деловитость и важность. Боков толстыми негнущимися пальцами перебирает ворох бумаг.
– А это вот что?
Ниночка словно пружина.
– Это просят сообщить.
– А это?
– Это нам сообщают…
Все объяснит точно и понятно, повернется и пойдет к своему столику, а Боков воровским взглядом поверх вороха бумаг – трах! – так и пронизает Ниночку всю, всю…
В голове разом кавардак.
И через минуту опять.
– А здесь про что?
Ниночка к его столу.
От нее духами. Ноздри у Бокова ходенем ходят. Вот бы всю втянул ее…
Угрюмым взглядом он подолгу смотрел на нее, откровенно смотрел, как двигались ее круглые плечи, вздрагивала грудь, и вздыхал, и пыхтел, как запаленная лошадь, и лицо становилось шафранным…
* * *
Время было темное, полным-полно было тревоги кругом.
Горели восставшие села и деревни.
Боков ураганом носился по уезду, – там, здесь, везде.
Как острая игла в кисель, врезывался он в эту бунтующую, безалаберную, нестройную жизнь. С ним были люди, для которых было ясно все.
– Вот как надо, Боков.
И Боков делал быстро и решительно, потому что он был на самом деле человек храбрый и решительный. Прадедова кровь, старая повольная бурлила.
В город он возвращался победителем, будто уставший, как гончая собака после охоты, но готовый хоть сейчас в новый поход.
– А, контреволюция? Я-а им… Вот они у меня где.
И показывал широкую, будто доска, ладонь, и сгибал ее в кулак, похожий на арбуз.
А Ниночка – хи-хи-хи да ха-ха-ха, серебряным колокольчиком рассыпается.
– Ах, какой вы храбрый, Герасим Максимович!
Боков рад похвале.
А вокруг него закружились разные люди – ловкие да юркие – советники.
– Товарищ Боков, как вы думаете, не надо ли этого сделать?
Боков пыхтел минуту, морщил свой недумающий лоб и брякал:
– Обязательно. В двадцать четыре часа.
Что ж, у него – живо. Революция – все на парах, одним махом, в двадцать четыре часа.
Ниночка теперь – правая рука у него.
– А ну, прочтите, что вот здесь.
Ниночка читала. Боков на нее этак искоса – на ее тонкие руки, на вздрагивающую грудь, на… на… вообще так глазами и шпынял.
– Подписывать?
– Непременно.
И Боков подписывал:
– Г. Бокав.
Каракульками. Пыхтя. И губами помогал, подписывая.
Неделька прошла, другая, третья… В уезде тихо, в городе – тихо.
– А-а, поняли?..
Так-то.
Прежде вот от утра до вечера бумаги, бумаги, бумаги. Строгость во всем. Теперь нет. Ловкие советники пооткрыли отделы, все дело себе забрали. По реквизициям ли там, по контролю, по уплотнению… К Бокову только особо важные. И еще – по знакомству.
Раз пришла баба. Без бумаги. Ниночка ей:
– Изложите просьбу письменно.
А та:
– Неграмотна я. Да мне бы просто Гарасеньку повидать.
Ниночка сказала Бокову.
– Впустить.
Зашла баба в кабинет (теперь уже не в думе заседал, а в особняке купца Плигина), оглянулась на темные резные столы, этажерки, поискала глазами икону, не нашла и перекрестилась на гардину крайнего окна.
– Еще здрасте.
– Что надо?
– Аль не узнал, Герасим? Ведь это я, Варвара Губарева.
Боков осклабился.
– А-а, тетка Варвара; ты зачем же?
– Да вот говорят, будто ты все могешь. Леску бы мне на баньку ссудил. Все равно, лес-то вот со складов все зря тащут.
– У, это можно. Для тебя, тетка Варвара? Все можно.
И после этого попер свой народ к Бокову… Только вот мать… не приходила мать-то… Заговорят с ней соседи, Варвара та же:
– Вот он, Герасим-то какой. Вот банька-то – из его лесу.
А Митревна угрюмо:
– А ты молчи-ка, девага. Я про него и слышать не хочу. Бусурман.
– Да ты гляди…
– Нет, нет, не хочу.
Вот ведь – радоваться бы, что сын – герой, так она не-ет.
* * *
Будни. У ворот плигинского дома часовой с красной лентой на рукаве. Другой на углу, третий в саду, что по яру сбегает до самой Волги. Они всегда маячат – часовые – и оттого дом глядит жутко, как тюрьма или крепость. Но идут люди, хоть и мало, идут в дом, всяк за своим, скрываются в белых каменных воротах, кружатся. И в городе, и в уезде клянут Бокова, а в дому уже бродят улыбистые, угодливые люди, спрашивают почтительно:
– Принимает ли товарищ Боков?
И много их закружилось здесь.
Ходит по комнатам благообразный, волосатый с полупьяными наглыми глазами – Лунев, адвокат, тот самый, что защищал на суде Павла Бокова.
Этот знает и жизнь, и пути к людскому сердцу…
А за столом в зале, со странной надписью на дверях: «политотдел», сидит чернявый, суетливый, с очень серьезным лицом, деловитый такой – товарищ Любович. Это – чужой, не белоярский.
И в других комнатах: в пятой, десятой, пятнадцатой – велик-превелик купеческий дом, – в каждой люди: кто войдет, увидят деловитость, а дела-то нет – зевают, слушают, лущат семячки; ждут четырех часов, чтобы поскорее домой.
Только Ниночка – она вся деловитость. Каблучки тук-тук-тук. Платье на ней из креп-де-шина, все в волнах, черное, ярко оттеняет белизну шеи и рук.
Тяжелые Гараськины глаза, как магнитная стрелка – все на Ниночку, все на Ниночку. А Лунев жулик, – знает, чем раки дышат, – Ниночка за дверь он к Бокову:
– Хороша девица?
Улыбка блудливая.
– Целовал бы такую девку, целовал, да укусил бы напоследок, – брякнул Боков и рассмеялся скрипуче, с хрипотцой.
– Да дело-то за чем стало? Удивляюсь я.
– Чему?
– Раз, два и готово. Или вы женщин стали бояться?
Герасим лицом сунулся в бумаги. А Лунев на него с улыбкой так, из уголка, с дивана.
– У-ди-вля-юсь вам.
И замолчал.
И раз так, и два. Скажет вот такое, что у Герасима все печенки вздрогнут, и весь он, как струна станет. А Лунев только посмеивается в гладкую шелковую бороду.
А Боков за дверь, он Ниночке:
– Ну, знаете, убили вы бобра.
Глаза сделает Ниночка большие, а сама ведь знает, куда тянет адвокат.
Бокова-то. Обезумел он от вас. «Целовал бы ее, говорит, целовал, да на руках бы понес».
Ниночка – колокольчиком…
Как никого в кабинете, так и надо ей непременно отнести бумаги Бокову.
– Подпишите.
И одну за другой выкладывает. Низко нагнется, плечом заденет Гараськино плечо, волосами его ухо щекочет. Боков покраснеет, запыхтит, пот бисером на кончике носа выступит, ноздри, как меха. Вот бы, вот так и проглотил бы Ниночку со всеми ее бумагами… А та смотрит ему в глаза пристально, будто зовет, смеется глухо, в нос…
Кружилась голова у Бокова, а вот нет, смущается чем-то.
Лунев, конечно, все прознал. Ходит, улыбается, говорит:
– Не робейте.
Раз Ниночка с бумагами.
А Боков про себя:
– Э, была не была!..
Она к нему – плечо в плечо, волосы к щеке – самые, самые кончики, два волосика, три…
Боков как клещами ее охватил, будто в озеро вниз головою кинулся, красноватые большие руки на черном платье резкими пятнами…
– Ах, что вы, что вы, – встрепенулась Ниночка, – не надо…
– Все отдам. Все! Моя!..
И два дня после этого посетителям один ответ:
– Председатель болен…
– А секретарь?
– Тоже болен…
А когда посетители уходили, все хихикали, все, во всем плигинском доме.
* * *
Через три дня Боков и Ниночка при-ни-ма-ли. У Ниночки под глазами широкие – в палец – синие круги, она зябко куталась в шубку, позевывала устало, и локоны над висками, всегда завитые задорным штопором, теперь развились и висели печально, как паруса без ветра.
Боков тоже смотрел устало, со всем соглашался:
– А ну, хорошо, пусть будет так.
И никому в этот день не отказал в просьбе.
Лунев пришел к нему, улыбаясь, кланялся и говорил:
– Поздравляю, поздравляю, поздравляю.
И Ниночку поздравлял.
– Теперь бы свадебку гражданскую сыграть. Да поторжественней.
И долго говорил что-то Бокову и все на ухо, с улыбочкой. А Боков только головой качал.
После он побывал в других комнатах, шептал что-то своим приятелям (у него уже много их было) и во всем плигинском доме смеялись в этот день этаким мелким ехидным смешком.
В этот день Ниночка, перед вечером, в автомобиле ездила вместе с Боковым домой – в старый дом дворян Белоклюцких. Дом теперь был пустой, и жила в нем только нянька. Боков – храбрый, буйный Боков – немного оробел, когда проходил за Ниночкой по гулким пустым комнатам, со стен которых на него смотрели старые портреты крашеных офицеров. А Ниночка щебетала: