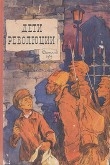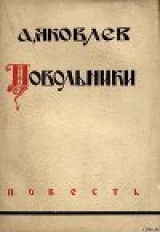
Текст книги "Повольники"
Автор книги: Александр Яковлев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Александр Яковлев
Повольники
Как раз там, где речка Малыковка впадает в Волгу – на самом яру – лет двести назад стоял кабак «Разувай».
По Волге суденышки ходили – вниз сплавом или на веслах, а вверх – бечевою, что тащили бурлаки, или, при попутном ветре, шли Христовыми столешниками – парусами. А на суденышках каждый бурлак знал про «Разувай». Вниз ли судно идет, вверх ли – все равно: как завиднеется из-за белых гор зеленый лесок малыковский, так бурлаки в один голос:
– Чаль к «Разуваю»!
А уж как причалят, дорвутся:
– Гуляй!..
И здесь спускали все: серебро и медь из кисетов, шапки, рубахи, бахилы – все шло кабатчику. За вино хмельное, за брагу сычену, за девок за угодливых, за жратву сытную… Пропивались вдрызг, до штанов.
И, пропившись, с хмельным туманом в голове, с горькой сивушьей отрыжкой в горле шли бечевником дальше, тащили косоушки, баржи, прорези… Или веслами помахивали лениво.
Потом до самой Самары или до самого Саратова вспоминали:
– Вот так погуляли! Вот это каба-ак!
Так добрая слава ходила про «Разувай» по матушке-Волге.
А держал этот кабак Ванька Боков – верховой волжанин, ругатель, сам пьяница, роста богатырского – в плечах косая сажень с четвертью, глаза черные, лицо выразительное, смуглое, точь-в-точь как у святого Николая, как его рисуют на древних новгородских иконах.
Откуда он пришел – этот Ванька Боков, – никто не мог бы сказать. А сам он загадочно молчал. Лишь по-пьянке, разгулявшись с гостями, крутнет головой бывало, махнет широко рукою и гаркнет:
– Где ты, мое времячко!..
А Ванькины гости – бурлаки, пьяницы, голытьба, пропойцы, – по ястребиному глянут на него и:
– Аль лучше прежде-то было?
Боков глаза в землю и, не отвечая, вдруг оглушительно, как труба, запоет старую разбойную песню.
Гости разом почувствуют, что здесь что-то свое говорит, родное, таинственное, разбойное, – растрогаются и спустят у кабатчика-певуна остатние гроши.
А вот купцы и купеческие приказчики, господа приказные да их соглядатаи – те косо поглядывали на кабак. Дурная слава между ними ходила и про кабак, и про самого Ваньку Бокова. Говорили, будто у Ваньки были товарищи, что жили в лесах, в оврагах, вверх по Малыковке, куда пройти – надо тропки знать, через болота, через трясь. И с этими товарищами Ванька ночами, а иногда и днем грабил купецкие суда. Будто умел Ванька хорошо крикнуть:
– Сарынь на кичку!..
Да ведь на чужой роток не накинешь платок.
Правда, не всегда суда благополучно проплывали мимо «Разувая», – случалось, что на песках, пониже Малыковки, подолгу валялись человечьи трупы, выброшенные волжскими волнами, распухшие, синие, с разбитыми кистенем головами.
Да кто же знает, откуда они?
А приедут приказные, – Ванька без шапки им навстречу выйдет, умильный да нагибистый, в три погибели гнется:
– Милости просим, гости дорогие, пейте – кушайте.
Сам угодливый, – глаза постель мягкую стелят.
И пили приказные, и ели, и серебро у Ваньки брали, уже не справляясь, награбил он его или честным путем добыл.
И все сходило Бокову с рук.
До старости Боков дожил – черная длинная борода белыми нитями засеребрилась, погнулся он, ссыхаться стал, уже не пил с гостями – голытьбой, не пел старых разбойных песен – чаще молился перед черной старой иконой новгородского письма, перед ликом святителя Николая, который чем-то, как-то напоминал самого Ваньку…
А на смену Ваньке шли молодые Боковы: Петька, Микишка, да Степка.
Такие же дубы, как тятяша, отцову тяжелую кубышку разделили они по-братски…
А злая слава и тогда Боковых не оставляла.
– Боков? Который же это Боков? Ванька?
– Да нет же. Ванька помер. Теперь сынки его народ глушат…
Ездили Микиша со Степкой долго по Волге; слух ходил, богатели. А потом осели где-то в больших городах – не то в Казани, не то в Нижнем, тоже народ грабить да глушить, только по-новому, по-купецкому.
А в старом отцовском «Разувае» остался один Петька.
Вокруг «Разувая», тоже на яру, келий понастроил, баб завел (бурлакам да купцам для утешенья), растолстел, как сазан в озере, умильный такой, ласковый.
Лишь изредка он соскакивал с зарубки: напивался вдрызг, и оглушительно, по-отцовски, пел старые разбойные песни, что слышал в детстве.
* * *
Время же волжской водой – без останову. Глядь-поглядь, вокруг «Разувая» избы начали строиться, пришлый люд попер сюда: место удобное для селитьбы нашел, лес повырубил.
И выросло село: Ма-лы-ков-ка. С церковью, с улицами. И первый богатей в Малыковке был Петруха Боков.
И не только деньгами богат был, и детьми: семь сыновей у него было…
Все такие же богатыри, как тятяша их или покойный дедушка: в плечах косая сажень с четвертью, чернобородые, с выразительными глазами – словно святые со старых икон новгородского письма…
Торговали, хапали, со всех сторон грабили – о боковских богатствах заговорили по всему Поволжью от Казани до Астрахани.
Крупным щукам стало тесно в озере: стало тесно братьям Боковым в маленькой Малыковке – пошли одни вверх по Волге жить в Самару да в Казань, а другие вниз – в Царицын с Астраханью. Остался в Малыковке меньшой брат Михайло, женился на богатой кулугурке, сам в кулугуры перешел – богачеством загремел пуще прежнего.
Да вот незадача: Забунтовала голытьба – Пугач пошел по Волге, всем волю обещал.
Воля?! Не был бы Михайло Боков русским человеком, ежели бы слово это не взяло его голой рукой за сердце за самое… Услышал он про волю, будто бес ему в ребро: потянул за Пугача. Даром, что богач был, в кисете золота пуд.
– Братцы! Поддержим! Бей приказных!
Пугач в Сызрани еще, а Малыковка уже вся на ногах, – вспомнила старинку вольную, когда отцы-то и деды по Волге плавали, грабили да гуляли – кровь закипела – пошли за Михайлой Боковым…
В Малыковке слободской управитель был, с приказными. Всех их повязали бунтари, заперли в избу приказную, и живьем сожгли. Михайло Боков главный зачинщик был. С тестем со своим с кулугуром Сапожниковым. То-то потом попили, попировали, когда от приказных избавились!..
Но года не прошло – в зимнее утро на малыковской площади, у Предтеченской церкви, заиграли солдатские трубы. А по улицам ходили солдаты в зеленых мундирах, с косицами, сгоняли народ на площадь.
На площади крутился на лошади молодой офицерик Гавриил Романович Державин.[1]1
Факт исторический. Г. Р. Державин – знаменитый поэт.
[Закрыть]
Собрались малыковцы, Державин к ним:
– Кто зачинщик?
Молчит толпа.
– Кто зачинщик, вас спрашиваю? Всех перестреляю, если не скажете.
Солдаты с косицами взяли ружья на руку. Толпа на колени. И выдала Михайлу Бокова.
– Вот кто зачинщик… А еще Сапожников… Да кривой портной; да Тимофей Андронов – они подбивали бунтовать.
Решительный был молодой поручик Гавриил Романович Державин.
– Повесить их!..
Подхватили солдаты с косицами Михайлу Бокова, повели на окраину Малыковки, и там на кладбищенских воротах повесили. А с ним – его тестя Сапожникова, Тимошку Андронова и кривого булгу – портного…
Зеленые солдаты с косицами разграбили до тла боковский дом, жену Бокова прочь выгнали с малым сынишкой, а дом сожгли…
Была зима, лютый мороз. Во весь голос вопила Бочиха – и мужа жалко, а еще больше – дома жалко, житья привольного жалко…
Много лет спустя, на том месте, где было первое кладбище села Малыковки и где, на воротах, по приказу поручика Державина, был повешен Боков и Сапожников с товарищами, родной брат Сапожникова построил храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
И когда покровский колокол созывает теперь людей на молитву, он чуть плачет. И знают все, почему плачет колокол. Знают: на крови стоит церковь Божия, Покрова Пресвятой Богородицы.
* * *
А время неуемно растит одних, старит других.
Лет через двадцать пять на берегу Волги появился молодой мужик – бурлак, грузчик – с черной бородой, выразительными глазами, горластый.
Крикнет:
– Гей-ей-ей… Двигайся!..
Аж в ушах запищит… И мужики смачно засмеются, заругаются…
– Кто?
– Боков.
– А, это тот, у которого отца?..
– Тот самый.
Оборотистый, крепкий мужик вышел. Побурлачил лет с десяток – свою прорезь завел, сам в дело пошел…
Да нет уж. Проклятая казнь, проклятие привела к дому – не оправился Боков. Так захудал, запил. Вот-вот соберет добро – и – р-раз! – пропьется до штанов.
А годам к сорока, когда у него ребятишек куча была, за что-то посадили его в тюрьму, там он и сгиб.
Но зацепка боковская в жизни была: дети.
Выходили такими же мужиками крепкими, в плечах – косая сажень с четвертью, чернобородые, глаза ястребиные, круглые. И пили здорово. И голосино несли по наследству. И буйны были в пьяном виде.
Малыковка росла, росла, росла – и в целый город выросла – Белый Яр. Там, где было мшистое болото, улицы теперь прошли – Караванная, Моховая, Приютинская.
Народ крепкий в городе засел – бородатые мужики старообрядцы, настроили молелен на укромных местах по Малыковке, скитов по Иргизу, что против города в Волгу впадает, стал город пристанью волжским староверам и сектантам.
Новиковцы, спасовцы, перекрещеванцы, духоносцы, лазаревцы, сопуны, прыгуны, сионцы, дырники, дунькиной веры, австрийского согласу, левяки… Как рыбы в Волге.
Занимались сплавом леса, мукой торговали, кожами, обдирали мужиков саратовских и заволжских, строили мельницы, заводы, дороги, раздвигали город и в ширь и в глубь, несли культуру в глухой разбойничий край, а между делом, особенно по зимам, в трактирах и на базаре, толковали о Боге, о крестном знамении, о том, на какое плечо надо сперва крест нести: на правое или на левое – спорили, – и в спорах порой дрались свирепо, по ушкуйнически, вцеплялись друг другу в бороды, – ибо считали такую драку делом святым: побить еретика – сто грехов простится. Ведь святитель Николай, угодничек Божий, самый любимый, самый наш, самый русский, он же дрался с еретиками, бил их своими кулаками святыми по окаянным еретическим шеям.
А в праздники по зимам – с Николы зимнего – у кузниц во Львовской роще собирались мужики и ребята со всего города и устраивали драки стена на стену. И здесь-то на воле гуляла старая разбойная кровь.
Бились до полусмерти, ломали ребра и груди, сворачивали скулы, выбивали глаза. Безумели в драках.
И на побоище, как на праздник, съезжались именитые купцы посмотреть, на санях. Поднявшись на облучек, смотрели через головы толпы в самую гущу. И случалось – сами ввязывались. Когда темнело, приходил странный боец – широкобородый, в большой шапке, привязанной шарфом, чтобы в драке она не спала с головы, в рукавицах, в полушубке. И все знали, что это пришел драться отец Никита – поп из старого собора, – большой любитель драк…
А еще приходил молодой мужик – чернявый, с выразительными глазами, высокого роста, в плечах – косая сажень с четвертью.
Он молча становился в самую середину той стены, в которой бились кузнецы, и бросался на «квартальских».
И смутный гул пробегал по толпе:
– Боков пришел, Боков. Держись!
«Квартальские» бросались на Бокова гурьбой, а он чикрыжил их кулаками, словно гирями, – щепки летели.
И, разгорячившись, вдруг орал оглушительно, как ушкуйник:
– Держи!.. Бей!..
Враг бежал за овраг.
– Ай, да Боков. Вот это богатырь. Вот это боец.
– Подождите, мы вашему Бокову намнем бока.
– Что же сейчас-то не намяли?
– Го-го-га-га…
– Боков, вот тебе трешница на водку… Милый ты человек… Иди ко мне в кучера.
И Злобин – богатей, заводчик – обнимал Бокова при всей толпе, целовал его, растроганный.
И все стояли улыбаючись, довольные…
На другой день разговоров по городу – горы.
Так не переводилась в городе слава боковского рода, буйного, повольного, и так докатилась она до дней наших…
* * *
Гром, рев звериный, свист.
Скоро, скоро нас забреют.
Скоро, скоро заберут.
Гармоника саратовская – визгливая, с колокольцами, – растягивается на целый аршин, взвизгивает, – в ухо будто шилом острым.
Ти-ли мони, ти-ли-мони, ти-ли-мони та-а-а…
А певцы – в полпьянку, – идут середкой улицы, вдоль грязной дороги, молодцы, как на подбор, картузы на затылках, в теплых пиджаках, в высоких сапогах. Форсяки. И поют неистово, каждый старается перекрикнуть каждого, перепеть. Глаза – круглые, ястребиные, хищные, а рты, как западки.
Шинель серую наденут
И в казарму поведут.
Бабы, девки, ребятишки – мухами к окнам, смотрят жадно на грязную осеннюю улицу, на поющую толпу, провожают ее долгим взглядом. Прошли уже, а в окна все бьет дикая песня.
– Некрутье гуляет, волюшку пропивает.
– Никак, и Гараська Боков с ними?
– А как же? Он тоже в этом годе лобовой.
– Слава тебе, Царица Небесная, хоть бы убрали его от нас.
– Уберут. Здоровый он, ровно бык. И задеристый. Таким в солдатах самое место.
– Житья от него не стало.
– Вот теперь-то делов накрутит.
– Да-а, уж теперь держись. Набедокурит.
– Придется мужикам ночи не спать. А то, матушки, и окна выбьют и ворота унесут…
– Вот братец Пашка-то тоже такой был, когда молодой-то. И-и, беда.
– Ну, этот еще хлеще брата.
И начали бабы Гараську Бокова по косточкам разбирать. И шалыган-то он, и непочетчик, и разбойник.
– Кто у Петуховых-то забор поперек дороги ночью поставил? Он. Кто трубы у Свистуновых с крыши снял? Он. Кому же больше? Самый отпетый.
– Дай, Господи, чтоб не забраковали…
– Не забракуют.
А Гарасько – ему что? – он передом в толпе, орет во все горло, оглушительно:
Мы по улице пройдем,
Рамы хлещем, стекла бьем,
Рамы хлещем, стекла бьем,
На ворота деготь льем.
Гармоника саратовская, с колокольцами:
Ти-ли-мони, ти-ли-мони, ти-ли-мони-та-а-а…
Идет Гараська дубком, не гнется. В плечах косая сажень. Боковы все широкая кость.
Гармонист Егорка рядом, русый вихорь из-под картуза – рогом, Ванька Лукин, Петька Грязнов, Санька Мокшанов.
– Молодяк. Двадцать первый повалил. Самые в соку… Некрутье – отпеты головы.
А некрутье на перекрестке. Четыре квартала крестом отсюда.
– Ну, ребя, прощайся, – командует Боков.
И все двенадцать комом сжались, бок к боку.
– Дев-ки-и-и!.. Про-щай-те-е…
А дальше такое слово, что ай да ну.
Это называется: некрутье с девками прощается. С подружками, с лапушками, с гулеными. На три года солдатчины, в чужу дальню неизвестну сторонушку…
Повернулись лицами к другому кварталу и опять:
– Дев-ки-и-и!.. Про-щай-те-е…
А дальше такое слово…
И так во все четыре квартала. У окон бабы мухами, а где не видно из окна, шубейку на плечо и к калиткам.
– Глянуть, как прощаются.
Копошатся пятнами у калиток, вдоль всей улицы – грязной, унылой, осенней. А некрутью – будто весна. Грязь – она будто лучше: по пьянке упадешь, не ушибешься.
– Дев-ки-и… Прощайте…
Откричали на этом перекрестке, на другой двинули. И опять взвизгнула гармоника, и неистово заорали песни парни.
Так днями целыми, две недели, от Покрова до призыва ходили они, орали песни, прощались, дрались. Ночами мужики не спали: караулили, как бы у них окна не вылетели, или ворота не ушили. Сговарились с соседями, чтобы в случае чего, помогать друг другу.
– А то разя с ними сладишь?..
Особливо приходилось плохо тем, у кого девки-невесты. Тут уж на прощанье некрутье выкинет какое-нибудь коленце.
– Мы в солдаты, а ты останешься, другому достанешься. На же тебе!..
И вот: иль ворота измажут дегтем, иль в окна лаптем запустят. – А Писаревой Польке – этакой задорной девченке – под самой крышей налепили аршинную афишу:
– Здесь продаются живые раки.
На утро весь курмыш покатом катался от хохота.
– Ха-ха-ха. А, батюшки!.. Польке-то Писаревой… Продаются живые раки… Хо-хо-хо…
– Вот выдумали, вот наклеили.
– Да, уж теперь долго не отдерешь.
– Кто придумал-то? Неужели Гараська?
– Ну, где ему, тупорылому. Это Санька Мокшанов, не иначе.
– Гараська сам не выдумает. Его подзудят, он и лезет на рожон.
– Ах, проломна голова.
– Берегитесь, бабоньки, как бы вам чего не сделал…
* * *
И сторожили. До самого того дня сторожили, как пошел Гараська с товарищами на призыв.
Ну, тут уже дело сразу другой стороной обернулось.
День вовсе наране, а все курмыши на ногах: вроде как праздник – парни идут на призыв, а соседи с ними поглядеть. Все в праздничных пальто с барашковыми черными воротниками, а бабы – в шубах, крытых сукном, в ковровых шалях. Эти пальто, эти шубы круглый год лежали в сундуках, пересыпанные нафталином. Раза четыре за зиму только и надеваются: к обедне на Рождество, на Крещение (на Ярдань), да на масленицу в прощеный день. И вот еще в этот день, призывной, когда наши ребята идут царю-отечеству служить. И степенно идут. Вчера еще эти самые мужики с кольями ждали вот этих самых парней за воротами, чтобы в случае чего… А ныне – парни впереди, как герои, а все остальные за ними – рядками, говорят приглушенно, будто в церкви.
Аграфена Бокова вслед за Гараськой. Глаз не спускает – так он люб ей, этот разбойник… И все здороваются с нею приветно:
– Аграфена Митревна, мое вам почтение.
Как же, сына снарядила на службу на царскую – честь матери.
Около присутствия – все черно от народа. Весь город сошелся. Всякому лестно поглядеть, как призываются. На лестницах – в оба этажа народ вереницами – все больше мужики. На крыльце – не протиснешься, и вся площадь битком.
Щетинистый выскочил на крыльцо, с медалью на груди, с бумагой в руках.
– Игнатий Андрюхин!
И стоном по толпе – из уст в уста:
– Игнатий Андрюхин!
Где-то взвизгнул бабий голос.
– Есть, что ли?
– Есть. Вот он. Идет. Игонюшка, прощай…
– Давай его сюда…
– Да вот он идет. Вот…
И все – сколько есть глаз на площади – все смотрят на спину Игнатия Андрюхина.
А щетинистый опять на крыльце.
– Иван Артюшин, Герасим Боков…
И опять буря криков. Бабы на цыпочках поднимаются, чтобы глядеть через голову на Гараську, а тот без шапки лезет через толпу. Смущенный, красный.
– А, милый ты мой, Гаранюшка.
Это Митревна. Это ее тонкий, пронзающий уши вой… И когда Гараська скрывается за дверями, все смотрят на Митревну, хлопочут – утешают.
– Ну, что там, не плачь, мать, чать, гляди сколько народу идет. Нюбивайся.
А на крыльце уже волнуются. Парень вышел. Пиджак на нет растрепан, застегнут на одну пуговицу. Лицо красное.
– Приняли.
Он махнул рукой и криво усмехнулся. А толпа вмиг подхватывает его на руки, бросает вверх.
– Качать…
А чей-то голос заплакал рядом.
И другой парень на крыльце. Весь радостный. Но его толкают и по шее, по шее, по шее. И бабы кулачишками стараются под бока толкнуть.
– Не взяли. Не приняли. Эх, дармоед.
И через всю толпу провожают с боем.
Вот и Гараська. Вышел на крыльцо, вытянулся, руки крестом и гаркнул на всю площадь:
– Приняли. В гвардию!..
– О-о-а-а, урра!.. Качать!
И Гараську на руках понесли, подбрасывая в воздух, до матери, до Митревны, а та так сразу сомлела и на снег бы упала, да молодой чернобородый мужик ее держит, в охапку взял, не дает падать. А Гараську только поставили на ноги, он как гаркнет:
– Наша матушка Расея всему свету га-ла-ва!
Толпа грузным хохотом:
– Го-го-го…
– Э, мать, будет тебе плакать-то. Вот он я. Живой еще.
Та к его плечу приникла, а Гараська все глазами шнырь-шнырь, куда-то по подзаборью, где нарядные девки с тревогой в глазах смотрят и в толпу и на крыльцо, ищут тайно кого-то. А черный мужик гудит:
– Брательник, Герасим, ты вот гляди, как перед Богом, не дам мамашу в обиду. Сказал и готово. И говорить больше не надо. Выпьем…
И мелькнула бутылка. А пестрая толпа кипит… великое, именитое уездное мещанство…
И мал-мале по-малу, с площади идут в разные концы города медленно, довольные: как же, побывали на торжестве таком: наши ребятушки царю-отечеству идут служить.
А в Курмыше радость:
– Гараську-то забрали.
– Слава тебе, Господи.
Но вечером опять вой, свист, рев на улицах.
Шинель серую наденут…
И гармоника саратовская, с колокольцами, визгливая:
Ти-ли-мони, ти-ли-мони, тили-мони-та-а-а…
– Затыкай уши, Мати Пречистая…
* * *
День зимний. Рань. А колокол звонит тревожно и призывно. И гужом по улицам народ. Все в собор, в собор. Прощальный день, некрутский день.
И опять Митревна идет за Гаранюшкой; в черном платке она, до земли согнутая, вся трепетно печальная. Рядом с нею все тот же чернобородый Павел, старшой. Гараська передом, грудь бомбой.
– Гвардия идет, дорогу…
А бабий плач в печальном звоне большого соборного колокола горяч и трепетен и берет рукой за самое сердце.
Тот же день. Вечер. Станция. Тысячи народа. Плач. Обрывки песен. Свист паровоза. Еще плач. А Гараська пьяный.
– А-а, пращай, девки-и…
Один он только и куражится.
– У, дурья голова. В остатний-то день не могет удержаться.
– Ну, такому что, ему наша Волга по колено.
– Пущай там похрабрится, дурь-то выбьют…
Еще свист паровоза, как сигнал. Вой источный, полный тоски.
– Прощай!
* * *
Вот какой палец ни укуси, все больно. Уже давно суровая зима залегла, давно бы Митревне утихомириться надо. А она вечерами, когда солнце уходило за дальние бугры, она садилась у окна, глядела на пустую степь перед окнами, на пороховушку, что чернела на буграх, на самом краю степи, думала о Гараське, и слезы капали на руки.
Свекровь злилась, ворчала.
– Ну, опять зарюмила. Ну ш… ненаглядный Гаранюшка… Все вон хоть молебны служить, рады избавились. А ты, мамынька, все…
И Павел с ней.
– А, брось ты, мать. Каково тебе еще рожна. Сыта – одета? Ну, и брось. А Гараська придет. Ты это обмозгуй: надо же кому-нибудь служить. Не он, так я…
– Всех жалко.
– Жалко. Чего ему сделается? Не война же теперь. Послужит, вернется.
– А ежели война?
– Ну, это, чай, Бог не попустит.
А вечер длинный. И тихонько солнце уходит за бугры, и свет кроткий кругом, как умирающий…
Так день за днем идет, – какой палец ни укуси, все больно.
Потом письмо: «Хорошо служу, пришлите мне пять рублей», потом надежда – вот пройдет три года, он вернется. «Господь даст»… И острая материнская тоска, умягчилась временем, в тихую грусть преобразилась.
Лишь вечерами, когда за буграми умирало солнце, Митревна глядела на пустырь перед окнами, и плакала украдкой.
– Вернется же он, вернется.
Какой палец ни укуси…
* * *
Но пришел день, и по всей великой стране, из края в край – прошла высокая костлявая женщина с сумрачными глазами, женщина, одетая во все черное; она постучала во все окна всей страны – и сказала короткое слово:
– Война.
И все задрожали, как листья под ветром. И всюду зазвучали песни, полные печали. Если бы взвиться к небу, глянуть вниз…
Все мужики великой и малой Руси, суровые олончане и архангельцы, крепкие сибиряки, пылкие кавказцы, расчетливая Литва и упорные латыши, волжские татары и мордва, киргизы, калмыки, черемисы, поляки – все запели свои самые грустные песни: прощай, дом родной.
Война. Война.
Из города поскакали во все волости верховые – с бумагами – приказами. И день скакали, и ночь. И суток не исполнилось, все села и деревни разом поднялись. Утром – до света – мужики и бабы в поле на жнитве. Жнитво шло, урожай в тот год загляденье был. И прямо с поля – с серпами, с косами, в рубашках потных, трудовых, в лаптях разбитых, без шапки иной прямо так – на телегу и в город. И у всех мысль одна, приказ один:
– Скорей, скорей, скорей.
Заскрипели дороги и проселки, бабьим воем огласились.
– А, батюшки…
И все чуяли: черная костлявая высокая женщина с сумрачными глазами прошла по недожатым полям. И везде умерла радость.
– Война.
А город зашумел, переполнился, как закипающий горшок. В каждом дворе подводы, подводы, подводы. На улицах российское мужичье – лапотное, крепкое, с крепким запахом, с корявыми тяжелыми руками, с пытливостью в серых глазах… Оно – непобедимое, вечно выносливое мужичье, сердце и грудь и вся сила России – оно заполонило все улицы тысячами, десятками тысяч грудилось у воинского присутствия – запрудило много кварталов кругом.
– Война.
– Война, братцы…
– Немец наступает. Бей немца.
– Эх, чтоб этому немцу. Погодить бы надо недельки три. Пшаница поспела бы, рожь, работать во как надо, а он здесь…
– Просить надо воинского, чтобы отложили войну ну хошь на месяц. Нам теперь некогда. Надо хлеб убирать.
– Нельзя отложить. Аль вы не понимаете, дураки?..
– Эх…
– А, милый ты мой, Овдонюшка.
– Не плачь, баба, все идем…
– Сердца не надрывай.
– Братцы, да как же это теперь, я и ружья-то десять лет не видал.
– Научат.
– Эх, выпить бы что-л: теперь!
– И казенки-то закрыли.
– По какому случаю?
– Священная война, а ты тут с пьяной мордой.
– Да я бы для задеру.
– А, ненаглядный ты мой, Никитушка.
– Баба, иди к черту. Не тревожь душу.
– Сынок, Тимоша… Подь сюда. Я погляжу на тебя в остатний раз.
– Выпить бы теперь.
– Случай такой, а они закрыли казенки.
– Царь приказал.
– Ну, это, чай, зря говорят. Царь и не знает про это.
– А вон гляди, городовые… Что-ж и городовых берут на войну?
– Городовых не берут.
– Не беру-ут? Ах, они черти проклятые.
– Бей полицию!
– Брось ты шебутиться-то. Тут война, а ты – черт те знает…
– Вот я те ерболызну по харе.
– А, ну, ерболызни. А-ну…
– Разойдись!..
– Эт-то на-ас?.. Полиция?!.
– Бей полицию!
Раз-раз-раз!.. Рррр… – засвистал полицейский свисток. Толпа зявкнула и за городовыми. Те едва спаслись от мужичьих кулаков. Начальство прятаться. А воинский – храбрый.
– У меня с полицией, как хотите, а на войну итти надо.
– Да, ваше благородие, да разе мы не понимаем? Сами запасные, сами служили. Война – дело царское.
– Урр-ра!..
– Выпить бы.
– А, ненаглядный ты мой, Петюшечка.
– Не вой, дьявол.
– Выпить бы.
– Ребя, в Клейменом конце казенку громят.
– Бей казенки!..
– Ар-ря! Ва-а! Бей!
И потоками в разные концы – к казенкам, к пивным, к трактирам.
– Водки, пива!..
Казенки – вдрызг, кабаки – настежь, и пошла гульба.
Четверти, бутылки, полбутылки, шкалики, мерзавчики… В руках, карманах, шапках, в мешках.
– Пей!..
Против воинского присутствия – архиерейский сад за забором – большой, тенистый. У архиерея высокая беседка там, все на балконе он виднелся, издали благословлял шумящую толпу мужичья. Но кто-то забрался на забор, глянул: дорожки, лавочки, желтый песочек на дорожках…
– Ребя, вот где водку-то пить…
Раз-раз-раз! – забор в сторону – новый забор – саженный и гужом в проломы, под деревья уселись в кружок.
– Пей!
Архиерей в испуге в дом убежал – и не видал, как пьяное непобедимое российское мужичье пиры пировало и в бесчувствии валялось на тех самых местах, где архиерей молитвы читал…
А полиция – ни гу-гу. Носа ее не видать. Сами хозяева – все пьяные, все плачущие, все печальные и все воинственные.
– Немца? Немцу пить дадим.
– Урр-ра!
– Дело было под Полтавой…
– А, милый ты мой…
– Не зяви, тетка. Душу не тревожь.
– Ребята, не безобразь.
– Ваше благородие…
– Стой, офицер идет. Ваше благородие, вместе на войну?
– Вместе, ребята.
– Ур-ра!..
– Качать офицера!..
– Урра! Ур-ра!..
– Неси на руках.
– Вместе на войну. Бей немцев!
– Православный русский воин не боится ничего…
– Ур-ра!..
– А, милый ты мой.
– Да молчи ты, стерва, аль не видишь – все идем?..
– Пей, братцы…
Ка-ак за ре-ечкой, за Куба-анкой…
Там песня – мужичья, тягучая, там крик яростный, бессмысленный, там прямо в пыли валяется пьяный, здесь…
Весь город, как котел кипучий. Бьет все через край. Весь день бьет.
К вечеру – от города ленточками обозы:
– Через два дня уходят поезда.
В деревни, проститься с полями в последний раз, с избами прокопченными, родными…
А солдаты из казарм уже уходят. Медные трубы гремят грустный марш… и вой тяжкий виснет над толпой провожатых и слезы на всех лицах. Все, все застучало по новому.
А Боков Павел ходит пьяный – со всеми напился.
– Ты идешь?
– Не, я не иду. А у меня брат в Преображенском полку. Он, чай, уже бьет немца.
– Пей!..
– Ур-ра!..
И пьет, и поет, и плачет. А голос труба, рявкнет – всех перебьет, лошади пугаются, – вот какой голос у Павла Бокова. И полон двор у него дружков-приятелей и родных-знакомых. Всех собрал – пьют, поют, плачут.
В крутяге пошло все…
И дни за днями чередом, чередом безостановным, тянут, тянут, тянут…
Поезд за поездом с музыкой и плачем уходит из города куда-то в даль страшную…
И слез на вокзалах – моря и реки. И рев, и визг, и отчаяние.
А в церквах – и день и ночь молебны.
– Подай, Господи. Спаси, Господи.
Полиция носу на улицу не кажет, а все идет своим порядком – странным, как жизнь…
Двух недель не прошло, Боков приспособился: арбузы-то на его бакче как раз во-время поспели. Чуть утро – с возом к воинскому присутствию.
– Православные воины, вот арбузы красные.
И чередом идет православный воин за арбузами красными.
– Сколько?
– Пятак.
– Дорого.
– Да для тебя-то? Сколько дашь?
– Три копейки.
– Бери… Для воина, чтоб не уступить! Для защитничка?.. А будь ты…
– Го-го-го… Вот это наш.
– Бери. Уступлю. Бей немца…
– Ур-ра!
Крик, будто погром какой.
Деньга – самокатом в карман…
Стал город жить странной жизнью. Будто этап. Через него из уезда тысячи народа шли под немца, а немного после – под турку. Мобилизации одна за другой хлестали край и рвали сердца на части.
Идут, едут, плачут, поют, стонут; сеном и навозом мусорят улицы и дворы, будто это не город, а постоялый двор.
Сдвинулась жизнь со стержня, с тихого места сдвинулась, и пошло что-то непривычное, беспокойное.
К зиме весь город заполнился солдатней; заняли училища, заняли казармы, – чуждые, злые, жившие, как на вокзале, где вот-вот пожил и ушел; и, может быть, никогда не вернешься.
– Эх, где ты, спокойное старинное житье?!.
И отчаяние пошло потихоньку капелька за капелькой в каждое сердце, тревога в каждую душу. Пришло уныние, озлобленность, неуверенность в завтрашнем дне… Дела стали сокращаться:
– Кончится война, тогда…
Штукатуры, маляры, плотники, каменщики, печники – их пруд пруди в городе, а дела нет. Знамо, на войну ушли тучи, а все же… И ходили они по городу, как неприкаянные, в черных пиджаках среди серых шинелей.
И месяц за месяцем пошли, год за годом, как богомолки в поле, – темные, с печалью в глазах, придавленные скорбью, приниженные.
– Когда же конец? Когда?
Только Павел Боков будто расцвел в эти годы. Арбуз, аль, допустим, дыня… Проси за них двугривенный – и дадут. Потому, деньги объявились шалые…
Подойдет к боковскому возу солдат.
– Почем арбуз-то?
– Четвертачек.
– Да, что ты?..
– Ай дорого?.. Господи, да самому теперь дороже стоит. Теперь баба по рублю на день берет. Разве я с тебя лишку прошу?
– Дорого.
– А, ну, сколько даешь?..
– Пятиалтынный.
– Давай. Разоряться, так разоряться.
– А може он не красный?
– Кто? Он?!
Боков разом багровел. И – хроп! – с наклески арбуз прямо о мостовую. Вдребезги. Красные блестки во все стороны.
– Видал? Да разе Павел Боков обманет солдата? Гляди, народ честной, вот арбузы.
И народ честной – гужом к боковскому возу. Улыбки, шум, – а четвертаки вереницей лезут в боковскую мошну.
На утро же опять на всех стенах красные афиши: мобилизация. И плач в новых семьях, и новые чадные свечи в церквах, и еще слезы, и еще горе…
– Когда же, когда же конец?
И у солдат пошло недовольство: плохо кормят, заставляют много работать. На базарах, на улицах говор: