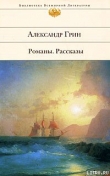Текст книги "Блистающий мир. Бегущая по волнам(изд.1958)"
Автор книги: Александр Грин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
На утро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул, вне себя, руки. Гром раздробил тюрьму.
– Погреб Ауэрбаха, – сказал, наконец, министр, – не будет веры тому; тюрьма и так – сказка для многих.
Он рассчитал верно: неожиданное не существует; невероятное, поведанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руну, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки.
Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди смелого движения улиц. С спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.
Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера с спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окружающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу и на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник – золотообрезанный том в рельефных крышках старого серебра – и, внимательно перелистав всё там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же, следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку:
«17-го мая 1887 – 23 июня 1911 г. – ничего не было».
Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь – от детского лепета до страшного дня в «Солейль» – ради первого ожидания.
День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению человек спокоен и уронил весла, но движется и в душе прибыл уже, куда плывет, и поворачивает течение; к цели несет оно.
Как смерклось, – после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином, – лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала «Просите», – без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.
Лакей ввел коменданта.
Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он, смотря в лицо Руны, остановясь шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отступил и сел против хозяйки. Всё это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.
– Я пришел, – начал он и продолжал громче, – принести безмерную благодарность. – Комендант помолчал. Всё вышло так странно. Но о том не берусь судить. – Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами – на мгновенье, после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой. – Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь, – моя и детей моих, – спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельство. Я допустил вас к свиданию без меня, согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.
– Но я не понимаю. – Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее. – Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко, – да, благодарю, вы навсегда обязали меня.
– Теперь положение изменилось. Я обязан вам, или, если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы – квиты.
Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов отсвет своегосчастья, что снова вдохновило его.
– Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел, – но, согласитесь, – какое же это объяснение? Верить сам происшествию не могу и, считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошель с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась записка, – вот она. – Комендант подал, дернув из обшлага небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло:
«Будьте свободны и вы».
Руна прочла, вернула; ее изумление стихло благодаря верной догадке. Комендант продолжал:
– Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч, плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.
– Это не я, – сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив. – Однако знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас всё.
Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.
– Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо в глаза. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен, – между нас не было тени.
Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.
– Тень была, – сказала она, – но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уже не сказать, чем сказано, – виной хорошему – вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянул тот, кто ушел так странно от вас.
Гость встал, поднес к губам нервную, душистую руку, повернулся и вышел, – как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьеру, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.
Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала, – знанием, доныне необъяснимым, что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.
Как странно лелеять что-либо, еще не наступившее, всей правдой души, видя и предвосхищая то – в книге, говорящей о постороннем. На тайном языке написана, в мгновения те – книга, какая бы то ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие – спят неподвижно. Своеплавает по строкам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне – неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшемуся для чести. Как то пропадает, то послышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски – откинуться, закрыв глаза, к близкому будущему, призывая его стоном сердцебиения.
Долог такой день, и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу, сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и другой; на половине же третьего, вверху, неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда всё вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум, и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась вверх.
Из дальней двери выбегал, в сумерки, на озаренный ковер, свет. Свет пересекал тень человека. Руна остановилась, забыв всё, что хотела сказать, но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.
Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем первый раз, чувствовала себя девушка, – хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях, нам доступных, есть спасительная, слепая черта, – ничего не видно за ней: туман; от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.
Друд сказал:
– Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.
Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза, – взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:
– Как я ждала, – я, не ждавшая никогда!
– И мы – вместе, – продолжал он, так как это хотела она прибавить. – Руна, я много думал о вас. Оставим не главное; о главномнадо говорить сразу или оно заснет, как волна, политая с корабля маслом. Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его, – с раздумьем повторил он, – потому, что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.
Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.
– Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.
И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ. В ней встало подлинное вдохновение власти – ненасытной, подобной обвалу. В забытье обратилась она к себе: «Руна! Руна!» – и, прошептав это, как богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.
– Я думал о вас много и хорошо, – сказал Друд.
Уже, по внешности, обычно спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбе, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда, во время, не большее, чем разрыв волоска, – все веяния и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа, – вдруг, с убедительностью близкого крика, глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями, – хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:
– Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет, – она рано или поздно появится; лучше – если теперь вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели, вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке – будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; исступленно завоет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут правилом бессонные ночи, а сумасшедшие, в заточении своем, начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть в вас.
Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительства не постеснялись бы раздавить вас, то после двух – трех месяцев всеобщего исступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдадут дань все люди странного уклона души, – во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.
Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение – центральную силу души. Я найду и дам деньги. Комендант знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полных светлых красок, – дворец, высокий, как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.
Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друд» будет звучать, как «воздух», «дыхание». Странники, искатели «смысла» жизни, мечтатели всех видов, скрытые натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы, неуравновешенные и полубезумные, нежные – с детской религией цветов и птичек добросовестные ученые, потерпевшие от всяческих бедствий, предприниматели и авантюристы, изобретатели и прожектеры, попрошайки и нищие, и женщины – легион женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.
Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы с слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречащие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты, в погоне за прибылью, будут печатать все, – и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров довольном, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших, – чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное.
После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишенной непрямого значения, вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая староенастроение.
Староенастроение говорит: «Игра и упорство». Новоенастроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Меж тем, в клубах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление; в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которой полны века.
Тогда без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог, – постоянное, ровное сознание разумного чуда – в лице вашем – сделает всякую власть столь шаткой, что при первом же ясно выраженном условии: «Я – или «они», – земля скажет: «Ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.
Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное, во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов, – выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренно отвернулся и что ее слова отброшены ей назад, с равной им силой. Ее нервы ломались. Еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:
– Нет.
Он продолжал:
– Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите – что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустясь ночью на пароход, сижу в кают-компании, вызывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю всё. Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор моегомира, – и я изъясню вам весь его сложный шифр. Смотрите: там тень; ее отбрасывают угол стола, кресло и перехват портьеры, – абрис условного существа, человеческих очертаний, но с складкой нездешнего выражения. Уже завтра, когда тень будет забыта, – однамысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно-малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяли нас, начинают распускать лепестки, – почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем, как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; схороните их. «Возьми меня на руки и покажи мне всё – сверху. С тобой мне будет не страшно, но хорошо».
Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.
– Клянусь, – сказал Друд, – что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.
– О! – произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное, – холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.
Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.
– Смотри же, – сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, всё повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна. – Смотри! – повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку – от этоготы уходишь!
Они были среди пышных кустов, – так показалось Руне; на деле же – среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.
– Дурочка! – сурово сказал он. – Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!
Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немногое.
– Если нет власти здесь, – я буду внизу. – С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислонясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступенькам террасы. Друд был внизу, смотря вслед.
– Итак? – сказал он. Девушка обернулась.
– Всё или ничего, – сказала она. – Я хочу власти.
– А я, – ответил Друд, – я хочу увидеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя.
Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где остановилась, сказав: «Всё». Но это «всё» было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.
Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача с неподвижным лицом – медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке, – девушка написала министру несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радушия. И там значилось, в последней строке:
«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это – мечтатель».
Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились, – меж ними была целая жизнь.
Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы. Внизу, среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспыхивая зеленой пеной, текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады, с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.
Если есть боль, – зрелище, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулась и ныла, как спина носильщика под еле посильным грузом; он страдал; поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.
Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.
– А! – сказал он. – Вы встали!
Друд обернулся, встретив грустные глаза своего товарища детских игр.
– Ты печален; болен, быть может? – сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой. – Ну, потолкуем, как раньше.
– Как раньше? – повторил Стеббс с горестным ударением. – Раньшея садился и слушал, удивлялся и хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, расписанной после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать. – Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.
Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.
– Стеббс, – сказал он, – с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуту. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.
Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волоса веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира, разорванные штаны, из-под которых едва виднелись рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол.
Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы; тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале, – из тех, что подвели к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.
– Итак, «трубку мира»…
– Где она? – Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения. – Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?
– Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом… Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже с счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.
– Приходил прокурор, – сказал Друд, смотря в огонь. – Он волновался; задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была… – Друд выпустил сложный клуб дыма, – в общем маяк все-таки хорош, Стеббс, но я завтра уйду.
– Опять, – печально заметил сторож.
– Есть причины, почему я должен развлечься. Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.
– Воображаю! – сказал Стеббс. – Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но, как вспомню, кто вы, – подо мной словно загорится стул.
Друд сдвинул брови, улыбку спрятав в усы.
– Солнце не удивляет тебя? – спросил он очень серьезно. – А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я», – прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря, – тогда ты глупо и самодовольно спокоен?
– Ну ладно, – возразил Стеббс, – а вот что скажите: не полюбили ли вы?
Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его проницательность.
– Едва ли… – пробормотал он, толкая ногой полено. – Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?
– Всё! – с ужасом прошептал Стеббс. – Кофе готов.
– Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?
– Нет, – сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чугунного памятника, простирающим вещую руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так, град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо по бочке. – Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче; есть прямо, не скажу – гениальные, но замечательные строки.
Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по нескольку раз в день) с уверенностью, что Друд дразнит его – так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства, – как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.
– Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?
– Представь, да, – смеясь кивнул Друд, – да, и как можно скорее.
С довольным видом Стеббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал: «Ну… это не отделано…», «в первоначальной редакции»; «здесь – недурно», – и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец он остановился на рукописи, пестрой от клякс.
– Слушайте! – сказал Стеббс.
– Слушаю! – сказал Друд.
Сторож заголосил нараспев:
В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.
Там – Ад. Там горят свечи
Из человечьего жира;
Живуча там память о встрече
С существом из другого мира.
На моей рыдающей лире
Депешу с берегов Стикса
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Икса.
Гремя подземным раскатом,
Демон…

– Теперь, – сказал Друд, – почитай другое. Стеббс послушно остановился.
– Знаю, – кротко заметил он, – вам эта форма не нравится, а только теперь все пишут так. Какое же ваше впечатление?
– Никакого.
– Как? Совсем никакого впечатления?
– Да, то есть – в том смысле, какого ты жаждешь. Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить – это ведь разделять, вводя своев массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не выну Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал всёмоей души, подобноеэтому стремительному гордому образу, хотя бы это всёзаключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзажа, настроении или сне, – лишь бы подобноебыло цыганке Кармен качеством впечатление. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь мраморные – другие – сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет, потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни, в рассеянной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем.
Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла, – для тебя, Стеббс; если бумага – не живой, нежный и чистый друг, – тоже для тебя, Стеббс; если нет мысли, что всё задуманное и исполненное могло быть еще стократ совершеннее, чем теперь, – ты можешь заснуть, и сном твоим будет простаяжизнь.
Довольно мне сечь тебя. Запомни: «Депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писари прачкам. «Живуча», – говорят о кошках. Кроме того, – всё, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.
Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.
Друд поинтересовался, – не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на пылкое сердце поэта.
– Вы угадали, – сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз, – я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.
– Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня; когда здесь, в этом скворечнике появится улыбающееся женское лицо, – оно с полным пренебрежением к гениальности отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы; и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло. Вот чего хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.
Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.
– Женщина губит творчество, – пробормотал он. – Эти создания – они вас заберут в руки и слопают. – Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорил о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы; затем простер руку. – Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом справляет свое новоселье. О, если бы…
– Стой! – сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу; фыркнули листы огромной тетради Стеббса и что-то, подобное звуку стихающего камертона, пропело в углу.
– Что так нежно и тонко звенит там? – спросил Друд. – Не арфу ли потерял Эол?
Стеббс сказал:
– Сначала я объясню, потом скажу. В долгие ночные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот зрите: се – рояль Стеббса.
Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволоках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, старик черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот средний, меж смехом и завыванием, звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать. «Что же вам сыграть? – сказал Стеббс, выделывая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-до-дон». Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка. – Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати – двадцати вещей; мои любимые мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например вальс «Душистый цветок».
– Попробуем «Фанданго», – сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом, с трубкой в зубах. – Начинай, я же буду насвистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.
Перебрасывая палочку среди запевших бутылок неутомимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.
– Попробуем что-либо другое. – Друд стал свистать тихо, прислушиваясь. – Вот это… – и оно также звенит в оркестре.
– Посвистите еще. – Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив. – Ага! На средний регистр.