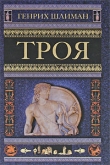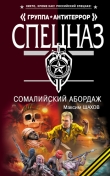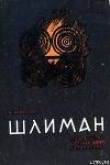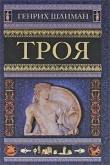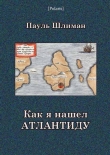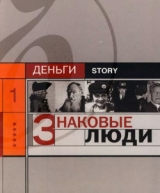
Текст книги "Знаковые люди"
Автор книги: Александр Соловьев
Жанр:
Деловая литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Узник замка Монте-Кристо
В 1845 году после успеха «Трех мушкетеров» и вышедшего сразу за ними «Графа Монте-Кристо» писатель начал строительство собственного дома в пригороде Парижа Сен-Жермен.
Замок, названный хозяином Монте-Кристо, представлял собой воплощенную мечту голодного мальчишки из провинции, написавшего впоследствии роман про фантастически разбогатевшего простого моряка из Марселя. Готические башенки, фигурные балконы, итальянские скульптуры на фронтоне, витражи, искусственные водопады, собственный театр, птичий двор и конюшни – все это должно было затмить расположенные по соседству виллы банкиров-миллионеров. Архитектор, познакомившись с проектом, попытался урезонить безумного заказчика: преобладающая в этих местах глинистая почва не выдержит вес здания. «Тогда ройте до скальных пород, – невозмутимо предложил Дюма, – а в образовавшейся полости фундамента можно будет разместить просторные винные подвалы». «Но это обойдется вам в сотню тысяч франков!» – предпринял последнюю попытку архитектор. «Надеюсь, что не меньше», – довольно ответил писатель. Фундамент действительно потянул на сотню тысяч, а целиком замок обошелся Дюма в 1,5 млн.
Писатель не скрывал свою любовь к роскоши, легко зарабатывал миллионы и еще легче их тратил. Он мог месяцами судиться с издателями за каждый су и одновременно раздавал тысячи франков всем нуждающимся. О щедрости хозяина замка Монте-Кристо ходили легенды, и в нахлебниках у него состояло пол-Парижа.
Застолья и балы в замке, напоминавшие сказки «Тысячи и одной ночи», не прекращались неделями. Случалось, что гостеприимный хозяин, убедившись, что столы ломятся от угощения, музыканты при деле и фейерверки освещают ночное небо, тихонько сбегал в свой рабочий кабинет и там несколько часов проводил за рукописями новых романов, а затем как ни в чем не бывало возвращался к гостям, многие из которых задерживались в Монте-Кристо на дни, недели и месяцы.
Кроме того, Дюма затеял в Париже строительство собственного Исторического театра, репертуар которого должен был состоять исключительно из его пьес. Он также начал издавать сразу два литературных журнала, названных без затей «Монте-Кристо» и «Мушкетер», но быстро выдохся и ушел из издательского бизнеса.
Все это приносило не только удовлетворение его не знавшей покоя натуре, но и очевидные долги. В долговых путах Дюма провел большую часть жизни, даже женился из-за них. Опекун его возлюбленной, отчаявшись дождаться предложения своей воспитаннице, просто скупил все долги ее ухажера и поставил того перед выбором: либо под венец, либо в долговую тюрьму.
Дюма ненавидел кредиторов, но с упорством, достойным лучшего применения, постоянно залезал в новые долги. При этом он не считал зазорным шиковать и за счет казны. Когда депутаты подали запрос в правительство по поводу неумеренных трат писателя, посланного в зарубежное турне за государственный счет, Дюма счел себя оскорбленным и вызвал на дуэль весь парламент в полном составе. Депутаты отказались принять вызов, сославшись на парламентскую неприкосновенность.
Спасение от кредиторов писатель находил не только в творчестве, но ив политике. В 1848 году во Франции вспыхнула очередная революция (на сей раз народ сверг бывшего покровителя Дюма короля Луи-Филиппа), и всемирно известный романист счел, что такое событие не может пройти без него. Дюма командовал национальной гвардией Сен-Жерменского предместья, а затем выставил свою кандидатуру на выборах в национальное собрание, но провалился.
Он был другом Гарибальди, поддержал его революционеров материально и, несмотря на солидный возраст, сам принял участие в нескольких походах легендарной гарибальдийской «тысячи». А в 1866 году, когда началась война между Пруссией и Австрией, 64-летний писатель настоял, чтобы одна из парижских газет отправила его в зону боевых действий военным корреспондентом.
В последние годы жизни Дюма много путешествовал. В 1858—1859 годах он посетил Россию, несмотря на запрет там своего «русского» романа «Учитель фехтования» (1840), посвященного декабристам и их женам. Результатом его вояжей стали путевые дневники, которыми французы зачитывались не меньше, чем романами писателя.
И все же дела его шли хуже и хуже. Как писатель Дюма вышел из моды: в циничной и апатичной Второй империи романтические истории про мушкетеров оказались не ко двору. И хотя писатель смог возобновить генеральный контракт на новую серию романов (за каждый издатель платил Дюма аванс 1000 франков против 10 % роялти), литературная машина начала давать сбои. Дюма принимался за очередную книгу и на полпути бросал ее, не в силах справиться с сюжетом, а его прежде безотказные «литературные негры» уже успели разбежаться по другим, более энергичным и перспективным авторам. Если бы не сын, к тому времени прославленный автор «Дамы с камелиями», и не дочь, тоже писательница, Дюма-отцу грозила бы долговая тюрьма.
В доме сына великий романист и умер. Это случилось 5 декабря 1870 года, когда прусские войска взяли город Дьеп, открывавший им путь на Париж. Он успел уйти из жизни до того, как его страна испытала национальный позор.
9 story. Кирилл Гуленков. ДЕНЬГИ № 5 (258) от 09.02.2000
Генрих Шлиман. Троянский конь из бакалейной лавки
Его имя стало символом непоколебимой настойчивости, целеустремленности, а также циничного делячества и варварства. Согласно мифу, который он сам создал, еще в раннем детстве маленький Генрих поставил перед собой фантастическую цель – найти гомеровскую Трою и обессмертить собственное имя. Для этого он заработал целое состояние и превратил свою жизнь в одну из самых занятных сказок в мировой истории. У этой сказки назидательный финал: Троя была найдена и стерта с лица земли.

Суровое детство
Генрих Шлиман родился в 1822 году в семье протестантского пастора в немецком городе Нойбуков. Его отец Эрнст Шлиман, несмотря на свою благочестивую профессию и почтенный возраст – 42 года, был человеком буйным, любящим выпить, транжирой и большим дамским угодником.
Мать Генриха, Луиза, покорно сносила неприятности, которые достались на ее долю. Но однажды и ее терпению пришел конец – когда муж привел в дом новую служанку, свою любовницу. Жизнь втроем длилась недолго. Луиза скончалась от нервного истощения, сделав перед смертью сыну подарок, который, по версии Генриха, стал для него толчком на дорогу к мифической Трое. Вот как это случилось. Помня о тяге сына к знаниям, мать на Рождество подарила Генриху книгу историка Йеррера «Всеобщая история для детей».
Позже Шлиман в своей автобиографии напишет, что, увидев картинки с изображением Трои, города, воспетого слепым Гомером в бессмертной «Илиаде», он, будучи семи лет от роду, раз и навсегда решил найти этот город. Впоследствии не одно поколение сентиментальных романтиков прослезилось, читая эти строки, написанные великим первооткрывателем, мемуаристом и мистификатором.
На деле все было совершенно иначе. Опустив некрасивые подробности о поступках отца – что делает ему честь, – Шлиман сочинил историю о подарке матери – равно как и всю свою биографию. Знаменитый фолиант до сих пор хранится как реликвия в семье потомков Шлимана, но, как явствует из штемпеля, куплен он в букинистическом магазине Санкт-Петербурга много лет спустя после описанного рождественского вечера.
Полиглот
Археология, наука о поисках и раскопках исчезнувших городов и цивилизаций, в 1820-е годы еще практически не существовала. А идея Шлимана опираться в такого рода поисках на литературное произведение как на факт выглядела, согласитесь, просто бредовой: ну мало ли что может придумать поэт, пусть и великий?
После смерти матери Генрих вынужден был переехать жить к дяде, тоже пастору. Дядя принял в судьбе племянника самое живое участие. Сначала он выделил деньги на обучение Генриха в гимназии, а после ее окончания отправил в лавку бакалейных товаров. Бакалейщик, у которого почти пять лет проработал Шлиман, практически ничего не платил ему, считая, что расплачивается с ним знаниями, которые Генрих получает, торгуя в магазинчике. «Бедность не позорна, она только обременительна. Позорна глупость», – любил повторять он.
Не видя для себя дальнейшей перспективы, Шлиман ушел из бакалейной лавки. Он завербовался на работу в Латинскую Америку. Но тут его постигает неудача: корабль, на котором он плывет, терпит крушение. Генриха спасают рыбаки, и будущий археолог вдруг оказывается в Голландии. Такая ли это неудача? Амстердам, в те времена деловой центр Европы, очаровывает молодого Шлимана, он наконец-то находит место своим хорошо организованным мозгам.
Надежды Генриха начинают понемногу сбываться. В Амстердаме он находит работу посыльного, за которую ему, в отличие от бакалейной лавки, неплохо платят. Но вскоре новое поприще начинает раздражать Шлимана. «Если так будет продолжаться и дальше, я сойду с ума! Надо придумать какое-то полезное занятие!» – пишет Шлиман в дневнике.
«Человек, говорящий на двух языках, стоит двоих», – говорил в свое время Наполеон. Желая проверить истинность этого высказывания, Генрих решает учить иностранные языки. Причем начинает с родного, немецкого, шлифуя произношение. Это был достойный способ занять время. В приемной коменданта порта – там говорили преимущественно на английском – он запоминает иностранные слова и по дороге в район «красных фонарей», куда ему надо отнести образцы носовых платков, повторяет выученное. Денег на учителя у него почти нет, зато есть свой собственный метод обучения. Надо очень много читать вслух на иностранном языке, чтобы научиться не только произносить слова с правильной интонацией, но и постоянно их слышать. Упражнения в переводе, имеющие своей целью лишь усвоение грамматических правил, вовсе не нужны. Вместо них – вольные сочинения на какую-нибудь интересную тему или же вымышленные диалоги. Эти сочинения ежедневно проверяет репетитор. Вечером исправленное сочинение заучивается наизусть, а на следующий день читается по памяти преподавателю, чтобы он поправлял ошибки в произношении.
Пользуясь таким методом, Шлиман за три месяца выучил английский, за следующие три – французский. И принялся за итальянский. Однако его штудии вызывают удивление и даже осуждение окружающих. Чудака увольняют с одного места за другим. Но он не унывает, а смело идет в самую богатую фирму Амстердама «Шредер и К» и предлагает себя в качестве торгового агента для работы с иностранными партнерами. «Сумасшедших не берем!» – с порога разворачивает его управляющий. Мыслимое ли дело – в 22 года знать три языка! Однако Шлиман так настойчив, что его – лишь бы отделаться – экзаменуют и по результатам тестирования тут же берут на работу.
Фирма «Шредер и К» вела свои торговые дела практически по всему миру, поэтому обладала обширным штатом переводчиков. Шлиман не только знал языки, но и умел торговать, то есть работал за двоих, получая одно жалованье. Для «Шредер и К» он оказался находкой, тем более что не стал почивать на лаврах, а продолжал совершенствовать свои умения. За год упорного труда новый сотрудник добился больших успехов – директор фирмы сделал его своим личным помощником.
В то время наиболее выгодной для фирмы представлялась торговля с Россией – рынок огромный и ненасыщенный, конкуренции почти нет. Техническая сложность его освоения состояла в том, что представители русских торговых компаний, как правило, не владели никакими языками, кроме родного. Проводить переговоры было затруднительно. Шлиман берется исправить ситуацию и начинает учить русский язык. Неожиданно он сталкивается с большой проблемой – в Европе нет ни одного учителя русского языка. «Какая дикость в наш просвещенный XIX век!» – с горечью восклицает Шлиман и разрабатывает еще один метод изучения языка. Он покупает у букиниста русские книги и начинает их заучивать. Основой ему служит русско-французский разговорник.
После трех месяцев каторжного труда Генрих предстает перед русскими купцами и пробует им что-то сказать. В ответ, к своему изумлению, полиглот слышит неудержимый хохот. Дело в том, что среди купленных им книг оказалось запрещенное в России издание неприличных стихов Баркова. Их поэтическую лексику он и усвоил.
Но речь Шлимана так поразила представителей русского купечества, что они немедленно предложили ему создать совместное предприятие на паях – их капитал и его голова. Шлиман не привык откладывать решения в долгий ящик и уже на следующий день отправился в почтовой карете в Санкт-Петербург.
Русское чудо
Россия встречает Шлимана нестерпимыми морозами. Как бы ни было далеко отсюда до обласканной солнцем Трои, но другой дороги туда нет. Путь лежит через бесконечные снега, которые еще надо умудриться превратить в золото.
Пока русские компаньоны собирают деньги на общее предприятие, Генрих знакомится со страной. Всего за несколько дней он объезжает весь Санкт-Петербург, узнает цены на интересующие товары, разведывает обходные пути строгого императорского торгового законодательства – в общем, делает всю подготовительную работу. Его беспокойный ум требует нового занятия, и случай предоставляет его.
Из окон гостиницы, где поселился Шлиман, прекрасно видны портовые строения, заброшенные до начала навигации. Пока Шлиман, по вечерам любуясь портом, рассчитывает возможную оплату аренды складов, они сгорают. Немедленно, этой же ночью, Шлиман арендует за бесценок практически выгоревшие строения. А на следующий день нанимает рабочих и, несмотря на морозы, начинает строить все заново, ориентируясь на план амстердамского порта, который хорошо помнит. Чтобы заставить русских рабочих работать на европейский лад, Шлиман вынужден сам руководить строительством. Вот где ему действительно пригодились вызубренные выражения из Баркова!
Весна принесла Шлиману баснословные барыши. Отстроенной к началу навигации и оживлению торговли оказалась лишь его часть порта, поэтому и аренда складских помещений стоила, как никогда, дорого. Заработанные в порту деньги позволили Шлиману отказаться от компаньонов и открыть свою фирму. В течение последующих нескольких лет Шлиман создает целую торговую империю, специализирующуюся на закупке европейских товаров в Амстердаме и продаже их в России. Но отлаженный бизнес – не для беспокойного Генриха. Он передает дело в руки приказчиков, а сам с частью свободного капитала отправляется в Америку.
Первым, к кому с визитом направляется Шлиман в этой совершенно незнакомой ему стране, оказывается президент страны Филмор. Имя Шлимана, бывшее уже в то время очень громким в России и Европе, видимо, что-то говорило советникам президента. И Филмор сразу же принял Шлимана, даже познакомил со своим отцом, крупным коммерсантом, желающим наладить в России свой бизнес. Знакомство с президентом дало Шлиману широкие возможности – он незамедлительно и без труда получил льготную лицензию на право открыть в Америке свою компанию по скупке золотого песка у старателей Сан-Франциско и его вывозу.
Дела со спекуляциями золотом шли так успешно, что Шли-ман даже начал подумывать, не остаться ли ему в США. Но мечта о Трое снова отправила его в путь. Начавшаяся в России Крымская война 1854 года открывала перед компанией Шлимана новые горизонты.
Используя свои обширные связи в торговых кругах, Шлиман добился, чтобы его фирма стала генеральным подрядчиком русской армии. Шлиман начал беспрецедентную по своим масштабам аферу. Специально для армии были разработаны сапоги с картонной подошвой, мундиры из некачественной ткани, ремни, провисающие под тяжестью амуниции, фляги, пропускающие воду, и т. д. Разумеется, все это представлялось как товар наивысшего качества и продавалось по наивысшей цене.
Сложно сказать, насколько такое снабжение русской армии повлияло на поражение России, но в любом случае Шлиман вел себя как преступник. Много лет спустя, по утверждению современников, Шлиман обратился к российскому императору Александру II с просьбой о въезде в Россию, чтобы раскопать скифские курганы. На прошении император написал кратко: «Пусть приезжает, повесим!»
Взятие Трои
Имя Шлимана по-прежнему гремело, но теперь как имя афериста. Не только в России, но и в любой другой стране никто не хотел иметь дело с откровенным жуликом. Не зная, чем себя занять, Шлиман начинает много читать и, случайно наткнувшись на пресловутую «Всемирную историю для детей», решает заняться археологией. Заранее уверенный в успехе, он готовит почву для новой славы – издает автобиографию, в которой утверждает, что вся его предыдущая деятельность была лишь подготовкой к осуществлению заветной мечты детства – найти Трою. В книге он рассказывает о своей второй жизни, которая была полностью посвящена науке, написанию научных статей, вышедших под псевдонимами, субсидированию раскопок в Месопотамии, изучению древних языков, и тому подобную чушь.
Парадоксально, но в эту мистификацию верили вплоть до недавнего времени, когда увидели свет подлинные дневники Шлимана, хранившиеся у его наследников.
«Господь Бог создал Трою, господин Шлиман раскопал ее для человечества», – гласит надпись у входа в Музей Трои. В этих словах, несмотря на внешний пафос, есть и грустная ирония. Любые археологические раскопки сопровождаются частичным уничтожением памятника, а такие, какие провел Шлиман, были полным уничтожением.
Полный дилетант, Шлиман действовал по собственному усмотрению, больше полагаясь на интуицию, чем на существующие в то время методики. Шлимана интересовала исключительно Троя Гомера. Все, что существовало на этом месте позже, безжалостно им уничтожалось. Более того, слепо доверяя тексту «Илиады», Шлиман искал мощные стены и поэтому принял за Трою более раннее поселение, тем самым стерев с лица земли лежавшую выше истинную Трою.
Шлиман умер 4 января 1891 года. В зал его афинского дома, где стоял гроб, отдать последние почести пришел весь цвет тогдашнего общества: придворные, министры, дипломатический корпус, представители академий и университетов Европы, членом которых являлся Шлиман. Было произнесено много речей. Каждый из ораторов считал усопшего принадлежащим своей стране: немцы претендовали на него как на земляка, англичане – как на доктора Оксфордского университета, американцы – как на человека, воплотившего подлинный дух американских пионеров, греки – как на глашатая их древней истории.
То, что один из самых богатых бизнесменов Америки и Европы, археолог-самоучка Генрих Шлиман уничтожил подлинную Трою, стало известно лишь много лет спустя.
10 story. Нина Никитина. ДЕНЬГИ № 36 (391) от 17.09.2000
Лев Толстой. Тройная бухгалтерия зеркала русской революции
18 сентября 1852 года увидел свет номер выходившего под редакцией Николая Некрасова и Ивана Панаева журнала «Современник», в котором ДЕБЮТИРОВАЛ МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ, скрывшийся за инициалами Л. Н. Повесть называлась «Детство».
Теперь Льва Толстого изучают в школе. Только что не анатомируют – где родился, где учился, какое первое слово сказал. А уж что касается того, что написал, – так чуть не наизусть учат. Но оно того стоит. А ВОТ ЧЕГО НЕТ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ – ТАК ЭТО САМОЙ ЛИЧНОСТИ ПИСАТЕЛЯ. Множество фотографий, где граф Толстой – седой старик, в простой, белой рубахе и босиком. Отчего-то именно такое представление о нем полюбилось и прижилось более всего. Ну а если заглянуть чуточку за угол? НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ У ГРАФА ЖИЗНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ. Его называли «бессребреником, презирающим деньги» – но и «расчетливым скопидомом». Деньги были для него то «гадкой вещью», то мерой семейного благополучия, а то и великим грехом.

В молодости Лев Толстой кутил и в пух и прах проигрывался в карты, не забывая, однако, при этом вести «Журнал для слабостей», в котором ругательски ругал себя за молодечество и пустую жизнь. После чего отправлялся на очередную партию в штос.
Остепенившись, стал расчетливым помещиком, владельцем 8 тыс. десятин земли, с которым отчаянно соревновался помещик Шеншин (Афанасий Фет) и которому отчаянно завидовал горожанин Достоевский, лишь в канун смерти выбравшийся из долгов покойного брата Михаила и кабалы собственных издателей.
К концу жизни Лев Толстой стал равнодушен к благам земным; стремление к обогащению считал ничтожным, а гонорары свои отдавал духоборам, собиравшимся эмигрировать от преследований правительства в Канаду.
Культ предков
Люди, хорошо знавшие Льва Николаевича и его семью, его предков, считали, что важнее всякой наследственности и наследства для него был самый настоящий культ предков. Недаром писатель считал себя «произведением предшествующих людей», среди которых выделялись дед по отцовской и дед по материнской линиям. И в самом деле, в молодости, до женитьбы, Лев Толстой вел себя так, будто стремился подражать деду по отцу – Илье Андреевичу Толстому. Илья Андреевич был человеком довольно ограниченным, но веселым и мягким. Владел 1,2 тыс. крепостных, 4 тыс. десятин земли, 3 винокуренными заводами, поставлявшими вина на российский рынок. Этот легендарный сибарит и мот запросто посылал слуг на юг Франции за свежими фиалками, а за настоящей стерлядью – в Астрахань. Белье свое отсылал стирать в Голландию (впрочем, как веком позже и князья Куракины, убедившиеся на горьком опыте, что русские прачки так и не научились тонкой работе с дорогой тканью). Промотав полумиллионное состояние, Илья Андреевич Толстой на исходе жизни стал губернатором в Казани. Молодого Толстого поражала естественная способность и всегдашняя готовность деда жить en grand (на всю катушку), и похоже, именно Илья Андреевич стал прототипом старого графа Ростова в романе «Война и мир».
Став же человеком семейным, солидным и знаменитым писателем, Лев Толстой, по всеобщему убеждению, больше всего напоминал деда по материнской линии – князя Николая Сергеевича Волконского, для которого подлинным богом был порядок (в романе «Война и мир» он стал прообразом старого князя Болконского). Вспоминали и прадеда Льва Николаевича, Николая Ивановича Горчакова, обладателя огромного состояния, человека чрезвычайно скупого. Любимым его занятием, которому старик Горчаков мог предаваться целыми днями, было пересчитывание денег, хранившихся в заветной шкатулке. Слепой старец перебирал мятые бумажки, даже не подозревая о том, что слуга, прощелыга и вор, давно половину их подменил газетной бумагой.