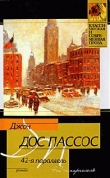Текст книги "Сигналы точного времени"
Автор книги: Александр Шантаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
22.
Напротив окна в комнате за столом смотрю книжку с картинками. Сказка вслух прочитана не раз мамой и сестрами, хорошо её знаю, рассматриваю по картинкам, их много подробных, цветных. Уже прочитанная сказка произошла и не может повторится. Новое чтение будет другим и всякий раз разным. Сейчас изучаю, что на картинках: людей, здания, деревья, животных, оружие, одежду, цветы, ночь, день, луну, звёзды… Как почувствуется и своображается с ответвлениями вновь усмотренных подробностей, так сыграется и проживётся знакомая история. В действительности она никогда заранее не известна. И конец всегда под вопросом, особенно, если вызывает непонимание или неприятие, как в «Красной Шапочке», где, на мой взгляд, он жесток и несправедлив. Когда охотники расправляются с волком, все живы, кроме него. Персонаж волка, полностью человечный, ведет себя, говорит и поступает как человек: притворяется, переодевается, обманывает и сам обманываем, но в конце происходит жестокое убийство этого человека в обличье волка. Причём бабушка-то вовсе не съедена, вполне себе жива-здорова, гостит где-то у волка в животе (в какой-то тёмной пещере), кажется, так и не догадываясь, что это волк и её съел. На свой манер мне это понятно. Наша бабушка Василиса, приехавшая из своих далёких мест под Волгоградом, живёт с нами в Джамбейте, совершенно не различая, что папа не русский, а казах. Зовёт папу не его казахским именем – Зупай, а Василий, так к нему обращаются наши русские родственники и отцовы военные и фронтовые друзья.
Одно дело, история, представляемая голосом мамы, или сестры Вали на слух, другое – показанная и сыгранная в картинках. Конечно, в свои четыре я не понимаю, что рисунок, прежде всего, плод мастерства, манеры и вкуса художника. Для меня изображение – абсолютная данность, настоящая, как и всё вообще, что можно видеть. Не плоская, двумерная, но огромная коробка игрушек, которыми можно сыграть бессчётное количество игр, почти бесконечный объём возможностей! У хороших, настоящих картинок правильное густое небо, особенно ночное, и, поневоле, задумываешься, – кто живет в том далёком здании на самой вершине утеса; как падает на половицы лунный свет; видна ли из окошка оттуда ярко-красная шапка? У меня туманное представление о взаимосвязях, нарисованное не сковывает властью целого, а состоит из свободных деталей, которых не пожалел художник для своей картинки. Крупные, средние и мельчайшие, присваиваются в охапку и расставляются на полу или на подоконнике воображения. Не имеет значения, что какие-то были главные, а иные будто совсем ничего не значат; одни на переднем плане, другие на втором, третьем, совсем вдали и больше мерещатся, чем есть. То, что представляет собой рисунок – игра равноценных элементов, собираемых при каждом подходе в свежую не повторяющуюся сумму, получая новые роли и судьбу, подобно цветным стеклышкам в трубке калейдоскопа.
…Увлёкся глубокими густыми тенями за широкими стволами, алыми пятнами земляники, и, словно уснув в картинке, минуя крапки цветного растра, заблудился в чаще. Лес дремуч, тенист, увлекательно ужасен, но не страшен. Не представляю, в какую сторону выходить обратно? Переступая толстые корни, блуждаю в зарослях, прислушиваясь к треску веток, щебетанию птиц, и, спустя долгое, по моим меркам, даже очень долгое время, с облегчением выбираюсь на освещённую опушку, – тут уже рукой подать до дома.
23.
Прелая солома жирно-золотистая, перезрелая в своём золоте и навозе, её выносит тающими потёками из парного сумрака сарая, нависает над ручьём придержанная ноздреватым глазастым снегом, – зрение его неумолимо кончается, лопается глазок за глазком, опуская солому в ручей, а тот, звон, холод, крученье в стремнинах белых щепок, что мы сплавляем с Мишкой корабликами.
24.
В раструбе луча завиваются дымные оперения. Слепящий пучок из дула стрекочущей кинопередвижки целит на белую простынь подрагивающий квадрат в моментальном соре точек, клякс, танцующих линий, кривых крестов, пухлых теней ночных мотыльков. (Тайком ушёл из дома вечером на двор туберкулезной лечебницы смотреть кино, пристроился на скамье между людей в пижамах). По резким, нежным запахам ночи в черничную, свербящую цикадами пустоту раскатывается огромный звук из высоких ящиков. Гулкий голос торжественно обещает, что это всё нам, живущим… Ещё барахтаюсь в быстрых сменах планов – кто-то, сказав пару фраз, выразив эмоцию, внезапно обрывается, смотрение переводится на другого, а внимание дверью нараспашку замирает на прошлой тени, – но приноравливаюсь держаться течения увлекающей, притягательной, пусть и непонятной истории. Глядя поверх едва заметных складок на юных в белых футболках и взрослых в одеждах с кругами и линиями, меня пробирает восхищённый озноб, мурашки неясного предвестия будущего. Я подсматриваю, что уже наступило, просто не дошло к нам, но, если «видно», значит, есть и спешит навстречу. Эти головокружительные здания, площади, гигантские памятники, космические станции не безнадёжно далеко, они, несомненно, настоящее, также как мерцающие неуловимые эхореверберации чужих языков в булькающем треске за тканевым овалом полированного приёмника с проигрывателем у нас в зале. Глубоководная музыка переливается волнами в касании стеклянных или хрустальных дрожащих капель в чёрном окне, усыпанном звёздами, когда плывут по одну и другую сторону ряды букв. Завораживающее одиночество космической перкуссии с прохладной нотой грусти. В тяжелой звуковой волне проступает кружево, её рисунок становится мечтательным, женским, цель поневоле переносится на себя, словно бы слышишь тему маминой тоски по одиноко летящему в пустоте сыну.
Мама с папой появились и вытащили меня со скамьи. Я хотел выразить восторг того, что нас ожидает, как умел, своими словами, но бедная мама с галочкой смешка, автоматической микрогримасой улыбки, – ею предваряет обращение к чужим людям, сейчас адресуя поблизости худым, скуластым пациентам в халатах и полосатых широких штанах, – «ах ты ж засранец, он в кино пошёл!», поясняя сдёргивание с лавки и шлепок по заду. Мне предназначен приглушённый, но объёмный, поскольку в самое ухо, гневный горячий шёпот: «Я ж тебе говорила, сюда нельзя!». По утрамбованному двору больницы домой волокут за руки почти на весу. Мама под папино твёрдогубое нахмуренное молчание ругает: «Там туберкулёзники с мокротой лёгкие отхаркивают, а он рядом сел, вдыхает… Хочешь бациллами заразиться? Может и заразился, заболеешь и умрёшь, будешь знать!» (папа блеснул по маме глазом). Дома мне ещё досталось и заодно бабушке, что не уследила. Засыпая, прислушиваюсь: что-то щекочет в боку, может я уже заболел? Излучение бесконечного космоса сливается с невидимым копошением смертельных бацилл. Умереть – как лететь навсегда одиноко в чёрном небе с мигающими звёздами.
25.
Дома у Мишки дома мы скинули одежду, уселись голыми на ковре и разглядывали друг друга. Меня почему-то привлёк надтреснутый уголок ногтя на большом пальце его ноги. Большой палец сам как пустое лицо, но придает ступне внешность. Благодаря надлому, – чуть сколотой выщерблине на краю ногтя, словно хулиганистому прищуру, – ступня его всем своим видом выражала желание нестись, сигать, прыгать, брыкаться, пинать, озорничать, устраивать разные самовольные вылазки, набивать шишки и округлую пофигистичную готовность получать по попе. (Через пару лет, когда будем жить в Дарьинске, мама получит письмо от знакомой из Джамбейты и в перечне местных новостей будет упомянуто, что Мишка от разрыва пугача чуть не потерял глаз. Мама, как она любит, назидательно интонируя, не преминет со мною этим поделиться). Мишкина мама пришла с работы и застала нас голыми. Утащила Мишку в соседнюю комнату и отшлепала, он ревел, пинал дверь изнутри. Я оделся и дождался бабушку, никто меня не ругал.
26.
Между двойными рамами низких окошек на серой вате, посыпанной толчёной зеркальной крошкой, пыльные грустные ёлочные игрушки.
27.
Одноэтажный дом, поделённый на две служебные квартиры, у каждой свой вход, невысокий забор половинит двор на две части. Вечером у тыльной стены с нашей стороны запылённый, опахивающий теплом мотора и бензинным эфиром служебный папин мотоцикл «Урал». На другой стороне зеленый «бобик», с брезентовым верхом и круглыми фарами, – там живут дядя N (имя не сохранилось), его жена и дочь Гульнара, девочка едва постарше меня, с которой не очень старательно дружу, зовёт играть, иду, не зовёт – первый редко проявляю желание. Огибая по периметру, бывает, бегаю на их половину, девочка к нам, или на улице сбивается компания и нас затягивает в общий водоворот игры.
Деревянные ступеньки, светлая застеклённая веранда, лето 1968 года. Папа у стола с развернутой газетой, опустил ноги в тазик с марганцовкой: у жидкости цвет вишнёвого компота. Мама в лёгком платье без рукавов цвета густого желтка с синими цветами-шарами, с открытыми загорелыми плечами: – «Сынок, Гуля зовёт». Я наблюдаю как хищно-фруктовая вода в тазике розовеет, пока мама разбавляет струёй из чайника. Соседская девочка в платьице с весёлыми колокольчиками в нетерпении прыгает за штакетинами, тянет руку в щель между реек, быстро-быстро машет ладонью: «Айда! айда к нам!» Подхожу со своей стороны забора. Гульнарка: апа (тётя) сказала – солнце тяжёлое. Случается время от времени услышать что-то, что приходится потом понимать. У меня ещё не было повода смотреть на солнце с точки зрения веса, – признаков тяжести не чувствовалось, слегка мутное… – Айда же к нам! – опять замелькала флажком раскрытая рука.
В нашей местности сейчас жуткий дефицит сахара, трудно купить, его нет. На соседской половине неожиданно достаётся угощение в виде большого ломтя свежего хлеба, посыпанного сахарным песком, чуть обрызганным водой: сероватый, ноздреватый, упругий, с осязаемой кислинкой хлеб и густой слой подсиропленного сахара. Кусаю и невольно жмурюсь, едва вижу смеющегося моему счастью высокого папу Гульнарки.
Зима морозная и снежная. Коридор, выстужающий пар вдогонку за пришедшим гостем. Окно с высокой плавной каймой снега снаружи; прижат к стеклу синеватой тенью; папа, мама слушают, встревоженно отвечают. Вслед за морозным воздухом с едкой табачной вонью от суровой шинели незнакомого человека теплый коридор заполняется волнением и суетой. Дверь, отделяющая от коридора, плотно затворяется. Что-то поступившее снаружи всё меняет: мы были вместе, я был в этом полностью растворён, но уже мама с папой решительно отчуждаются. На расспросы – неясные отговорки: с дядей N случилось нехорошее, идём по делам, играйте с бабушкой… Переодевшись в костюм, ушёл отец, за ним, накинув тёмный платок, мама. Бабушка потянула за собой на диван, застеленный синим плюшем, играть в карты, в «пьяницу» …
Вечером из темноты смежной комнаты пристально вслушиваюсь, как под жёлтой лампочкой на кухне мама пересказывает бабушке, что в степи ночью заглох мотор, сильный мороз, буран, дядя N уснул и замёрз насмерть… Не очень понимаю, что значит «насмерть»? Какое-то время, вылавливая подробности (брат приехал, все плачут, жалеют) складываю картину, что возможно ещё не окончательно? «Насмерть» – как очень сильно заболеть? Гульнарка, её мама и родные плачут, потому что для них он пока, конечно же временно, будет как бы издалека, – сейчас замер, потом отомрёт? Не такой, может похуже, чем раньше, но, наверное, вернётся, – делаю промежуточный вывод. «Уснул выпимши, дочка осталась сиротой» … Улавливаю в тоне мамы, кажется, упрёк, с таким она обращается, когда прихожу с улицы запачканный или с мокрыми ногами. Если виноват – значит, живой… «Завтра привезут хоронить…», – или нет? «Землю надо греть, промёрзла, отец договорился с рабочими на тракторной станции» … Отчаянно досадно, жалко, что мама, скажи в тот момент, что дядя N вернется живой в семью – так бы и стало! Обратившись весь во внимание, жду изо всех сил, но не дожидаюсь.
С детьми из окрестных дворов, и Мишка здесь, набиваемся поверх огромной кипы спрессованных соломенных тюков, перетянутых проволокой. На соседской половине тётеньки в черных платках, туго повязанных узлом на затылке, насовали в протянутые ладони ещё теплые баурсаки (сладко-солёные кусочки теста, печёные в масле), конфеты, курт (очень солёные желтоватые скатыши сушеного творога). Вповалку на пахнущей травой, морозом и холодной пылью соломе, выглядывая над краем, не переставая жевать, глазеем, как медленно отчаливает от крыльца грузовая машина с откинутыми бортами, в кузове лежит в деревянном ящике папа Гульнарки. Ящик в красной материи снаружи, голые доски и белая постель внутри. Тёмное бурое лицо спящего на подушке в пиджаке при галстуке. Внезапный удар большого барабана и рев жёлтых труб перекрывает плач и тонкий вой родных. Плохая музыка… Бухающие стуки колотушки, оскаленный хлопок блестящих тарелок грубо разбивают тишину… Гульнарку не выпустили на улицу. В тёмно-зеленом бархатном платье, в голубых колготках с поджатыми коленками сидит на подоконнике. На ней веселые бусы из розовых ракушек, перехваченные одной рукой у шеи, а вторую ладошку растопыренными пальцами приставила к стеклу, смотрит на уходящую процессию во все глаза, но не плачет.
28.
К нам в Джамбейту раз, может, два приезжали русские мамины родственники, и часто гостили казахские, папины. По родственной близости особо выделяются дядя Хамит и дядя Саша. Последний не «Саша», у него своё казахское имя, но почему-то мама и за ней я привыкли звать так. Дядя Саша считается младшим братом, не родным, может, двоюродным или троюродным, потому что после смерти родителей от голода в двадцатые годы отца взяли в их семью. В их лицах – папином и дяди Саши – можно найти ускользающее сродство в автографе губ с оттиснутыми, зафиксированными уголками, в почти прямой форме носа, лишь малость в фас приплюснутого. Но, в отличие от отцовского, прожаренного и обманчиво сурового лица, дяди-Сашино замесили на муке светлее, добавили сахара, желтка, дали взойти, смягчиться. Не шумный, деликатный, домашний, совсем «гражданский», в сравнении с по-военному подтянутым отцом. У его жены приятные спокойные черты, приподнятые к подглазьям выпуклости на гладких плоских скулах, вниз уголком суженные глаза, чистый высокий лоб, чёрные волосы, убранные в густую косу под косынкой с блёстками. Несколько детей, четверо или пятеро, ровесники и постарше. Через раз один или двое, вежливые нешумные мальчики или девочки приезжают с дядей Сашей. Они живут дальше вглубь Казахстана, в степном городке Аксай. Мы были у них в гостях, впервые я оказался среди множества детей, разных свойственников и родственников. Уютное чувство – куда бы не перекатился, всюду мягко, потому что сплошь означаем близкой связью, тесной сближенностью. Шумные, пьющие арак (водку) заливисто смеющиеся мужчины, увлечённо, с удовольствием погружённые в застолье за низким столом-«дастарханом». Немногословно улыбчивые жены помогающие накрывать, подавать, убирать. Согнутые в пояснице старые тёплые бабушки, так не похожие на нашу суровую бабу Васёну. У русских и казахских бабушек старость на лицах проступает по-разному: у нашей – снежная пашня, у казашек – осеняя степь.
Если дядя Саша спокойный, кроткий, то дядя Хамит его противоположность. Он тоже папе брат, а мне получается дядя, но в какой степени – непонятно, да и не важно. Крупный, объёмистый, круглое как арбуз лицо, истыканное оспинами, на голове короткий жёсткий ёршик. От него приятно пахнет как будто мехом, или войлоком, ещё пастбищем и скотом. Громогласный, напористый, заполняющий собой всё, наверное, даже и степь. Стоит ему появиться, и я оказываюсь в широких шершавых ладонях, меня подбрасывают, трясут, жмут, пока, усевшись на низкий диван, дядя не ставит между колен, разворачивая к себе и нависая своим большим лицом строго спрашивает: «Казакша сейлескен?» (говоришь по-казахски?). Отрицательно трясу головой (многое понимаю, разбираю, но не говорю). «Ай, бала», – разочарованно тянет дядя, цокает языком в явной досаде: «Не учат казахскому, да?». Киваю. Его огромное, как полная луна в кратерах, раскосое лицо с выпирающей шишкой носа в бессчётных чёрных крапках сближается вплотную: «Наш род "маскар". Это значит, ты из рода черного верблюжонка! Плохо, что твой отец тебе ничего об этом не рассказывает!». Его и вправду здорово огорчает, что я не усваиваю казахские обычаи, почти не знаю язык и расту русским мальчиком. – Дядя Хамит отстраняется, хлопает себя по коленям, ерошит мои волосы: «Кет бала» – беги, смотри, я привез тебе подарки» …
В коридоре, над проёмом в большую комнату висит квадратная фанерка с нарисованной кошачьей головой. В какую бы сторону не отошел, её зрачки смотрят прямо на тебя. – Дядя Хамит нарисовал масляными красками, он хорошо рисует.
(Когда переезжали в Дарьинск, картина с кошкой отчего-то с нами не уехала, я скучал по ней. Позже, в классе седьмом, масляными красками на доске в похожем виде я изобразил голову нашего кота Васьки. Каким-то чудом эта картинка сохранилась и сейчас висит над диваном, в комнате, где пишу эти строки).
29.
Прожекторный сноп от чёрного кубика машины, красные кружки задних фонарей. Фары подпрыгивающей впереди нас машины выхватывают будто вымазанные извёсткой заснеженные спутанные деревья, вслед бежит пятно черной тени.
30.
Когда переехали из Джамбейты в Дарьинск, наш новый дом походил на огромное яйцо, лежащее в снегу посреди открытой во все стороны пустоты. В Джамбейте у нас была своя половина с двориком, там всё было понятно, а этот дом – лабиринт, прячущий в своём протяжённом теле соседские проходы и норы, закупоренные входными дверями, словно петляющие следы жука-древоточца, скрытые под корой дерева. И у нас своя дверь и непривычные помещения за ней. Справа от входа – маленькая комната с окном (теперь моя детская), прямо через коридорчик – мрачноватая комната с широким окном (зал), коридор отворачивает влево и там ещё комната, посветлее и с широким окном, выходящим на другую сторону дома (спальня), а прямо – небольшая кухня с газовой плитой и резиновым шлангом от вентиля вишневого цвета баллона. Напротив спальни перед кухней массивная, светло-голубая дверь в небольшое помещение, пахнущее холодной водой и умыванием, пол из коричневой звучной плитки. Глубокая белая изнутри и шершаво-чёрная снаружи ёмкость на ножках – чугунная ванна. Эмалированная раковина с круглыми дырочками слива, с блестящей трубкой крана, загнутой коротким носиком. У глянцевой голубоватой кафельной стены на широком бортике раковины в пластмассовой мыльнице отдающий ёлкой зеленоватый брусок мыла с выдавленными мелкими цифрами и резкими белёсыми гранями. Высокий тёмно-зелёный бак поверху чугунной топки с дверкой – титан для нагрева воды. Конструкция в виде белого сундучка со свисающей на железной цепочке толстой ручкой-хваталкой, подведённая чёрной трубой к овальному в сечении сосуду с широким керамическим бортиком, уходящим вглубь покатым внутренним нёбом, снаружи чем-то наподобие кадыка у основания шеи, упёртым в пол – унитаз. Здесь же и мой синий эмалированный горшок, накрытый крышкой с дужкой, как у кастрюль на кухне. Незадачливое квадратное окошко размером с форточку в стене над ванной.
Когда титан натоплен, звуки мягкие, в остальное время волглые, гулкие, расставленные по отдельности, сообразно помещенным предметам, так или иначе связанным с хождением в туалет, стиркой, умыванием рук и чисткой зубов…
В наших новых комнатах теснится такой свой и уже будто зашедший попрощаться, дух вещей, привезённых из Джамбейты: посуды, шкафов, дивана, стульев, ковров, одеял, боязливо жмётся в отдающем звоном просторе голых стен в зябкой побелке, отдушке постной олифы, среди свежеокрашенного тёмно-вишневого дощатого пола, ацетоново-белых рам с волнистыми швами пахучей, как в душном валенке, замазки. Соломенно-пепельный куб комнаты с лимонным кругом света на потолке, в центре – деревянная таблетка в кляксах побелки, из отверстия – провод с черным патроном и прозрачная колба лампочки с распорками на которых повисла сонная оранжевая молния.
Теперешний наш дом, приподнятый над землёй на высоту второго этажа – отложенное яйцо в пухе стелющейся низким горизонтом зимы. Если казахские родственники пустятся искать нас по старому следу, ничего у них не выйдет.
31.
На запорошенном асфальте под фонарём птицами в карусели огромные бледные тени снежинок.
32.
За дверью своей квартиры сначала оказываешься не на улице, в подъезде, вверху просторной и несмотря на большое окно сумрачной полости дома, набирающей темноту к нижним маршам, как внутри витков раковины на полке в серванте. Словно вертикальный двор, общий и ничейный, с площадками перед квартирами и ступеньками до срединного пролёта к высокому в клетку окну, вниз, к двум квартирам первого этажа, тремя ступенями к почтовым ящикам, тамбуру и, наконец, к широкой двери на улицу. У соседней с нашей квартирой поднимается вверх приваренная к штырям в стене металлическая лестница к запертому на навесной замок квадратному люку. Под ним слышны пемзовые шорохи, воркование голубей, с жимом игрушечного клаксона хлопки крыльев. Край площадки и ступени огорожены деревянными перилами на железных круглых стойках. Скоро меня потянет тронуть языком одну, отливающую тёмным металлом, и, осенённый запоздавшим раскаянием, буду отчаянно пытаться вернуть его обратно. Небольшая, но чувствительная часть останется стынущим разводом по железу, горячая кровь с тёплой слюной наполнит рот, а я, жалобно воя, поспешу наверх под защиту мамы.
33.
В чёрной цигейковой шубе, такой же круглой шапке на завязках, под горло перехваченный колючим шарфом, затянутым узлом на спине, в связанных бабушкой варежках, сгибая с трудом при шаге толстые покатые валенки, по одной преодолеваю ступени, прислушиваясь, принюхиваясь, отпихиваю с усилием наружную дверь на пружине. Дом из бесчисленных прямоугольных продолговатых икринок льдистого цвета, замурованных в сером неряшливом растворе, белеет плоскостями мокрого сахара снаружи, тёмными окнами вовнутрь. По бокам, не считая маленьких чердачных оконцев, смыкающиеся тупым углом под шиферную крышу глухие стены. С нашей стороны, обращенной к шоссе, краснокирпичной пиксельной кладкой лозунг «СЛАВА КПСС». Прочесть не умею, но понимаю, что это огромные буквы и в аккурат приходятся на нашу квартиру, мы живём сразу за ними.
Огромная полуденная белизна вверху и под ногами. Ноздри глубоко втянули холод – ныркий, натянутый пологом с невидимыми токами ветра; гнётся, шаркает по насту нижними концами жухлый куст, звуки отдаются в обонянии. Насыпь дороги с остьями серого репейника в снежных отвалах с клиньями золы. За бортом дороги – в линию плосколицые и низколобые одноэтажные синие, зеленые, голубые, салатовые деревянные дома с вьющимися дымами, вразнобой растопыренные ветлы; прищемив тишину остроугольными кликами качнули верхушки веток вороны (здесь их зовут «карга»). Неясного назначения вытянутая постройка с частыми дверями, через узкий проезд, протяжённое, бело-серое кирпичное здание с зарешёченными окнами, голые веники тополей и высокая железная труба, испускающая желтоватые пухлые клубы, к нюху тут же присовокупилась тусклая горчинка. – Везде снег и разбегающиеся натоптанные синие тропки до самого края, где угадываются низкие вытянутые постройки. Меня ничто не удерживает, кроме симпатической связи с наложенным мамой строгим запретом никуда не отходить от дома, – а куда здесь идти? Снежное белое впереди, перед домом, и сзади, за домом, и за дорогой: перебежки на ту и на эту сторону напоминают катание на доске-качалке в одиночку, когда нет другого для возвратного раскачивания. Ходьба по ребусу натоптанных во дворе тропинок и, наконец, первая встреча – полненькая, приятная с виду женщина в бордовом пальто с меховым воротником в пушистой шапке-колпаке спешит к подъезду, спрашивает, чей я? Отвечаю с готовностью: «Мы Шантаевы, мы теперь здесь живём, вон там», – показываю варежкой в сторону наших окон на втором этаже. – Очень хорошо, а мы под вами, будем соседями, приходи в гости, Ире, дочке, семь, а сыну, Вове пять, тебе сколько? – Мне в августе будет пять… – Молодец, подружитесь…
34.
Вечером у телевизора, папа, поджав ногу, другую вытянув, откинулся на диванную спинку. Мама на стуле, поддерживая меня снизу ладонями, я у неё коленях, головой на груди, обнял за шею. На её шее отросток, капля из светлой кожи на тонкой ниточке, до боли жутко, что может оторваться.
35.
Справа дверь в ванную комнату, слева в спальню, планировка в точности повторяет нашу этажом выше. На Ирин крик из детской их мама мне выдала деревянную дощечку с накрученным проводом с вилкой между выпиленными рожками – удлинитель. Ира цепляет прищепками простынь поверх коврика на стене, Вова выгребает из ящика тумбочки цилиндры с плёнкой, – собираемся смотреть диафильмы. В проёме зала мельком взгляд прихватывает соседского отца и моего – склонились над журнальным столиком к фигурам на доске, в папиной руке с отставленным мизинцем между большим и указательным пальцем светлая головка пешки. Над их головами апельсиновый купол торшера, отсвет работающего телевизора, пикающий сигнал с кружным эхом небольших механических звонков, как в будильнике, – заставка программы «Время», ясные разбегающиеся кольца и ритмичная музыка, мелодия нашей необъятной страны, что, насвистывая бодрый мотив, будто перепрыгивает со ступеньки на ступеньку. (О стране и необъятности представление более чем смутное, но что-то есть и постепенно проявляется, как рисунок вен).
36.
Надо много раз подвигать вверх-вниз ручку колонки, прежде чем из глубины трубы послышатся кашлянье и всхлипы. Под ней намерзшая вверх сосулька.
37.
Приехав из города (под «городом» всегда имеется в виду Уральск) их папа с порога, не раздеваясь, весело зовёт: «Ау, бегом ко мне!» … На вытянутой руке распахнутый фибровый чемоданчик с блестящими углами. Придерживает открытую крышку, морщит круглый нос, смеётся. Полость в несколько рядов заполнена серебристыми лопатками эскимо с белыми деревянными палочками. По прихожей раскинулось мечтательное шоколадно-молочное эхо с привкусом тонкой влажной фанерки. Никогда не видел, чтобы чемодан, пусть и маленький, был почти полон мороженого! Ира и Вова, повизгивая, прыгая, отковыривают и срывают фольгу. Папа их тянет и тянет навстречу чемоданчик радушно, трясу головой, отнекиваюсь, благодарю, отвожу холодный брусочек лепеча, что не хочется.
38.
Родители на вечернем сеансе в кино. Ира на своей кровати спиной к ковру, в длинной ночной рубашке с синими цветочками, читает книжку и грызёт семечки, для шелухи примостила маленький самосвал, красный кузов полон доверху. На соседней кровати мы с Вовкой под одеялом наблюдаем, как светится зелёная фосфорная собачка, – неизвестно от чего отломанная фигурка без кончиков лапок, пока, натолкавшись, не засыпаем. Спящего перенесли папа с мамой, когда вернулись.
39.
От снега веет степью, вдыхается как через сито без точного аромата, обманывая жёстким ранетом, выдохшейся сиренью, оскоминой, свербит до чиха.
40.
В коридоре между ванной и спальней пустил струю в трусы и в толстые штаны с начёсом, умышленно, знаю, что уже не маленький, но захотелось. «Мама, бабушка, я описался!» – крикнул, чувствуя набухшую горячую ткань. Будто в трельяже с распахнутыми створками разом отразились смятение мамы и негодование бабушки. «Ната, он набурил!» – бабушка вытянула ладони в мою сторону.
41.
Вова водит, я бегу в спальню, где у них шкаф у торцевой стены, между боком шкафа и примыкающей стеной закуток, куда можно забиться. Нисколько не обращая внимания на нашу возню, их мама, лёжа на животе, читает книгу, приставленную к мягкой спинке дивана; с угла письменного стола вниз загнута ребристая гибкая шея настольной лампы, конус света накрывает короткие волнистые волосы, плечи и раскрытую книгу. Мне с уровня корточек виден подъём мячиков её попы из тени спины, обтянутых мягким узором халата, расходящихся в выпуклости ног: от края халата наружу открытые подколенные ямки, пухлые светлые валики икр и ступни в шерстяных носках; читает и грызёт печенье, доставая из надорванной пачки рядом. Я изумлён, поражён! – Как может мама, если она, конечно, не болеет, лежать на животе с книжкой и есть печенье! Разве она не занята всё время и когда ей отдыхать?
Подумываю выбраться из своего убежища, чтобы прокрасться и застукаться, как в проёме стремительным шагом показался их папа, прошёл к столу, схватил стопку газет, развернулся, на ходу наклонившись чмокнул жену в верхушку икры, не прерывая слитного движения выпрямился и, выходя из комнаты, подмигнул мне, сидящему коленками вверх в тесной нише.
42.
В большой коробке с карандашами в два ряда некоторым цветам нет совпадений из окружающих вещей. – Это цвета мечтательные, задумчивые, мимолётные. Не считая растущих в поле и на клумбах цветков, что ими рисовать и раскрашивать? Один цвет будто розовый смешан с топлёным молоком, бывает рано утром над степью и мгновенно меняется, такой неуловимый, но точно пойман в карандаш. Другой – «бирюзовый», красивый и неочевидный. Не знаю названий разных смешанных и нежных оттенков зелёного, жёлтого, особенно, связанных с красным, родственных фиолетовому и синему – (аквамариновый, барвинок, бисквит, томатный, индийский-красный, корица, фиолетовый, орхидея, грушевый…) – обоняю их безымянными, слитно глазами и ноздрями. Призрак вкуса каждого цвета распыляется, садится горьковатой эфирной плёночкой на язык будто след одеколона из пульверизатора. Карандаши, – не стрежни, – а окрас сухих деревянных палочек, доставляет почти кондитерское наслаждение и сытость. Цвета тонко, легчайше пьянят, влекут. По отдельности ясная яркая щель, вместе – окно. Изумляет возможность такой чистоты оттенков, доступных случайно, мимолётно, скоротечно, обманчиво, бликом, пятном, лучом, нечаянно упавшим на лист; отсветом зари на складке белого пододеяльника; вечерним персиковым шаром в стекле двойных рам; бледных астр, прихваченных заморозком на клумбе с холодным ароматом стойкой печали. Запасены в коробке в целостности, заполненности в два ряда, как на долгую зиму, грея мою бескорыстную алчность.
Ира назвала один цвет «лиловым», мне это слово понравилось. Не понимал, что им рисовать, пока не увидел, что она просто красит одежду, волосы, домики, кошку, всё подряд, без всяких правил. Тогда понял, что можно, как хочешь, и радость сохраняется дольше.
43.
«А ще в болоньи…» – бормочет бабушка, она слегка тугоуха; вытянутыми вверх над прочими звуками овалами «О» в названии иностранной материи проглядывает насмешка. Вдоль дороги мимо наших окон – с транзистором и гитарой компания парней, русских и казахов. Приткнувшись к стеклу, вытягивая шею, слежу как один парень, казах, в сером переливчатом плаще, в остроносых чёрно-белых армянских туфлях, говорят очень модных, пьяный заметнее других, опустив на грудь подбородок, вихляет, спотыкается, наскакивает, резко притормаживает, его откидывает назад. Спутники принимают под руки, через окно не слышно, кажется, ругается на них, отбивается, хотя с ним никто не дерётся. Замахивается, заваливается и, наверняка бы упал если бы товарищ не успел удержать за грудки. Он вырывается, распахивается белая нейлоновая рубаха, тогда яростно дергает себя за ворот, острый угол надрывается и обвисает поверх плаща. Товарищ отпускает, отмахивается – как хочешь… Пьяного относит на обочину в неглубокий овраг с репейником, заплетающими ногами заваливается туда плечом, щекой прикладываясь о земляное крошево и пыльные пятна травы. Откидывается на спину, ворочается, елозит руками и ногами на полах плаща как перевернутый жук. Долго-долго выбирается ползком, цепляясь за жёсткие стебли репейника, кое-как встаёт, широко шатаясь, оступаясь, бредёт в темнеющее поле. Мне представляется, что он себя портит, ломает, как я повреждаю и ломаю игрушки. Раз не удержался, полез в коробочку под батарейками, где скрыт моторчик управляемой машинки, подаренной братом Славиком, папиным старшим сыном, когда приезжал к нам в гости после армии, – было любопытно, что там? Но открылось лишь угловатое углубление в бесцветной пластмассе, шестерёнки с зубчиками на резинке, проводки, и потом, когда запихнул обратно все детали, машинка больше не ездила. Ещё бывает, всасываю во рту кожу в узенькую щель между зубами, её там защемляет, и тогда втягиваю обратно, помогая кончиком языка, испытывая боль и терзание отцепляемого из расщепа в зубах скользкого кожного щупальца. На слизистой осязается пупыристое раздражение доставляя оскоминное, растекающееся, мучительное удовольствие.