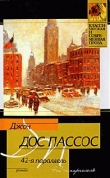Текст книги "Сигналы точного времени"
Автор книги: Александр Шантаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Александр Шантаев
Сигналы точного времени
Сане и Марине Чебаковым с любовью
*
В карантинной изоляции, уже переболев, хотя этого тогда не знал, я стал видеть видения былого, но приказывал себе не принимать, не смотреть, отворачиваться, не отзываться. – Они показывались напоследок перед тем, как исчезнуть. – Это были прощания. Кратчайший вдох и всё! Его можно обрисовать, описать, но его больше не будет, потому что показался и умер (и показался, именно что умирая). В меру своих более чем туманных естественнонаучных представлений, я предположил, что отмирает сама материя, «физика», нейроны мозга, энтелехия моего материального сознания; в срезе в сколе улавливаются импульсы распада. После, место, где они жили, остаётся серым, уменьшившимся и мёртвым. Мне кажется, хотя не уверен, благодаря вакууму карантина, падение в себя привело в молчании и тишине к предельному обострению чувств, когда весь процесс стал виден воочию, на глазах. Мне всё ярче мерещились видения далёкого прошлого, как в густом спелом малиннике, или у усыпанной плодами яблони, – весь охвачен, разом окутан, поглощён ароматом, светом и тенью и длительностью, – эта длительность глубока (застилает реальность) – и мгновенна, подобно тончайшему проколу, исчезает сразу, как её вчуствуешь – вдохнул и не стало… Что-то виделось, глотком, вдыханием-вздохом, как поднимающиеся к верху микропузырьки счастья, не отягощённого собою смертным, обернув, объяв исчезали уже безвозвратно, рассыпающие на свету археологические ископаемые (в художественном институте на летней археологической практике в древнегреческой Ольвии сдувалась с ладони зеленоватая пыльца «дельфинчиков», – всё что осталось от медных монет, вынутых из раскопа). Было обычно в междусонье, в начале ската, подвисания в засыпанье, или в нечаянной отрешённости при бодрствовании, будто паутиной по волоскам кожи.
Я начал писать будто из чувства опасности. Мне было жалко потери не себя теперешнего; бесконечно не выразить как отчаянно жалко было терять навсегда детство, …хотелось поймать неуловимое, что есть в детстве, что впечатляет, откладывается слоем личности, как слоем обертки, лепестком луковицы, пронизывает, изумляет, но остается несказанным, так как детское восприятие чуткое и чувствительное, а инструменты неловки.
Писал, прежде всего себе, хотелось выполнить, как домашнее задание. Последующее, – будет ли напечатано и/или прочитано, представляется туманным и, как ни странно, мало занимает. Это эгоцентричное произведение, но, хочется, надеяться не эгоистичное, пусть для себя, сквозь себя, но главное здесь: мир-калейдоскоп-детства. Не мемуары и не воспоминания, – опись магических кристаллов, как опись имущества.
У меня нет цельной картины «общей истории детства». Частности и фрагменты большей частью случайные, осколки, крошки. Слабая надежда на связность в винтовой нарезке времени. Люди чаще помнят какие-то детали, детские подробности, но не своё сознание, – как виделось, чувствовалось, как было (есть)? Припоминают опосредованно события, быт, вещи, обиды, радости, садик или школу, но не помнят себя. Во мне всегда сохранялся просвет в себя почти на всю глубину и в некоторые моменты, не противореча внутренней правде, я мог реконструировать свои тогдашние очень давние детские размышления, вопросы, недоумения, оттиски (отпечатки) впечатлений. Как если бы мог пробраться в своё далёкое прошлое с записывающим и снимающем устройством – сейчас это можно на любом смартфоне, – при обязательном условии не в качестве перемещённого во времени, а «местным», «тамошним». Если бы я мог бы снять собой, как киноаппаратом, что, собственно, в некоторой степени и делаю, собирая разной длины и качества фрагменты в условно свободной композиции. Это перемещение оттуда сюда слепков времени, чтобы совершить работу расконсервации артефактов, с возможностью разворачивания в некую историю, или без неё, погружаясь в каверну себя с объёмом микроскопической вечности.
У некоторых ещё остаётся раковина советского, приложив её к внутреннему слуху можно различать тёмный шум большой эпохи. Но мне не приемлемо «вспоминать». Как иначе сказать? – технически, стилистически, жанрово мне глубоко дискомфортно (будто зафиксированным в кресле дантиста) и не хорошо от «вспоминать», – то, как в чайной церемонии в особой посуде заварено и, соответствии, с ритуалом, как положено разлито «воспоминание». Поэтому я не вспоминаю, – да было, да, так, но пишу – всё равно заново. Память, – очень нравится подпись Хайдеггера на общей фотографии с Франклом, – «не прошлое, а былое». «Былое» – данность, вечность (обладающая свойством полного исчезновения для авторизованного носителя), реальность онтологического первородства, вытяжка жизни, аромат цветка, полёт бабочки, единство счастья и боли. Мозаика, но вместо смальты здесь облака, вещи, запахи, звуки и случайные фразы. Льщу надеждой, впрочем, не особо рассчитывая, что при отходе раздробленные детали совпадут в образ и картинку Детства.
По ходу записывания появлялись разные подзаголовки, жаровые обозначения, даже мелькнул «роман» (но, клянусь был тут же со стыдом отринут, как неуместное посягательство на объёмную звучную форму, каковой данный текст, конечно же не может являться). В разных вариациях всплывал не слишком расхожий термин «хонтология» (ностальгическое состояние призрачности; присутствия и отсутствия): «хонтология одного детства», «хонтологические зарисовки» и проч. В итоге решил отказаться от непосредственного употребления, хотя мне известные значения достаточно близки и созвучны, однако в «призракологии» возникает «онирический» (сновидческий, иллюзорный) крен, а этого хотелось бы избежать.
…Зеркальная крошка, фигурка космонавта с отколотой ногой, шишка с облезлой глазурью, диаскоп, – оптика поблёскивает вприкуску со светлым отчаянием. Видение, делающее попытки движения. Составленное из переменчивых глотков подглядывания (вглядывания-всматривания) неравномерных сгущений тени, не плоской иллюзии большего объёма и глубины, за знакомым – незнакомое, торжественно-ужасное, будто в следующий миг атлас позитива прорежет царапина метеорита, или взойдет ослепительная атомная бомба, тёплое перламутровое мерцание подсвечивает её приближение. – Очень подмывало вставить в подзаголовок «диаскоп»: «Книга-диаскоп», поскольку оптические эффекты этого прибора (может быть, у кого-то ещё сохранились такие пластмассовые шары со стеклом, внутри кадр плёнки-позитива, который смотрят на просвет в глазок?) в отдельные моменты были словно тем, через что (как) смотрел.
Кантилена голоса на разной глубине времени. Не шизофренические наложения (надеюсь), а волновые эффекты, возникающие при различной глубине погружения. Взгляд, он же голос, меняет в расстоянии и в толще давления «точку привязки», участие (присутствие) в видимом. Мне бы хотелось, чтобы все голосовые партии были восприняты всё же именно, как литературные. Мои действия сводились к тому, чтобы по возможности, ничему не мешать.
Александр Шантаев, 10 февраля 2022 года
*
«Человек приносит с собой в мир всё, что имеет или может иметь. Человек рождается как Сад, уже засаженным и засеянным. Этот мир слишком беден, чтобы родить хотя бы одно семя»
Уильям БЛЕЙК
… «пошли домой» –
значит «я тобой спасся»
«ага, пошли» –
означает «зимой
будет по краю крыши ходить ворона
проверять мёрзлые тайники
будет тоска огромна а дни легки
Василий БОРОДИН
Книга детства
1.
На самой ранней фотографии, нечетком снимке с кружевным обрезом улыбается лысый карапуз в ползунках; на обороте рукою отца: «Моему сыну Сашику, космонавту № 5, исполнился 4 месяца двадцать два дня. Пос. Джамбейта 10/I-1965 г. Он уже сделал 4 1/2 витка вокруг света» 11
У папы не всегда выходит докрутить падежные окончания.
[Закрыть].
2.
Неустойчив, балансирую, пугаюсь скатиться не вниз, а неизвестно куда; учусь ходить в ходунках на колёсиках и, наверное, они виной тому, что всё вместе со мной катится, не шагаю, а прокатываюсь. Мама и бабушка выдувают радужные пузыри гукающих звуков, глубокая мамина рука поддерживает мой слабый затылок. Верблюды, овцы, лошади, вечерние коровы в розовых тучах пыли, огромные, шумно выдыхающие, запазушно пышущие молоком. Знойное сухое лето. Немилосердная зима. Крест-накрест перехват шерстяной шали, укутываемость, пурга в стёкла, счастье тёплого укромного угла, как в сливках тону в пышной перине. Обшитая войлоком тяжёлая дверь, костистый стук мёрзлого дерева. Возвращение родителей отличается по запаху колкого холода бензина, животных, табака у отца (не курит, но приносит с собой), и синего, неукоснительного из больницы у мамы. Первые четыре года – веер картинок: руки загорели, ссадина на колене, пальцы в клубнике, в сиропе шиповника (липкие, не разлепить), <козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли>, маленький треснутый арбуз, щель в заборе, степь, много солнца, горячий молочный песок, терпкая полынь, огромные закаты. Обещания, в которых нет человеческого, нет значений, по крикам птиц звучит расстояние.
3.
В стёклах соседнего дома, наискось к нашему, медленно плавится вечер, ночь наползает на острый верх крыши. В сумерках улица в знакомых очертаниях не простая, жутко при мысли оказаться одному там, снаружи. Нечитаемые пустыри, пустоты в тенях, мельком вид какой-то примолкшей засвеченной просёлочной дороги, по ней цыгане прошли, – как если бы забрали с собою – пугаясь, смакуя, растравливаясь бабушкиной страшилкой, испытываю чистый конфетный ужас. Мама с папой в отъезде. Мы с бабушкой сидим у окна, затаившись как в норке, пока не приходит пора спать.
4.
На высокой раме, обмотанной мягкой подстилкой, обымают две сестрины руки в веснушках, направляющие блестящие рожки руля; подпрыгивая на кочках, лечу в форическом коконе восторга над отстающими домами, деревьями, заборами, бабушкой с курами.
5.
Крупные, прохладные, из сока и мякоти ягоды так и готовы разбрызгаться во рту, вдавливаемые в тугие бока жадными молочными зубами пока из глазурованной тёмно-синей с золотым ободом пиалы не извлечён последний запёкшийся матовым глянцем шарик, подобный вспыльчивому солнцу. Прокушенная вишня терпко травит, впрыскивая притворно-едкую голубиную кровь, жалит нежно нёбо, глотку, растекаясь в тугой глоток, укрывая в рубиново-синей тинктуре дробинку. Бабушка Васёна, зову её «баба», следит, чтобы число ягод, отправляемых в рот изгвазданными пальцами, соответствовало вынутым изо рта косточкам; выплюнутые быстро высыхают.
– Всё?
– Всё, больше нет.
– Я хочу ещё.
– Не даёт лягушка в погребе больше вишенку.
Пока баба занята кормлением шумных, пестрых кур в загородке во главе с красно-сизым петухом, всегда бдительно-яростным и опасным, стою у непроглядного бархатистого зёва погреба, распахнута наружу деревянная крышка. Приближаться к погребу настрого запрещено. Переход из освещенного солнечным светом двора и перешагивание, переступание через порог в тёмный проем сарая, – ощущаемое нарушение запрета в мгновения, пока зрение приспосабливается к сумраку. «Лягушка, лягушка, пожалуйста, дай мне вишенку!» Боязливые, неуверенные шаги к зябкой глубине, лепетание просьбы, не исполненной, – перегораживая резко свет, вступает бабушка, крепко ловит руку и сурово извлекает наружу, стращая рассказать маме, но, конечно же, не рассказывает.
6.
В глубоких сумерках бегом домой от соседей. Пробежать от одного торца одноэтажного дома, где половина соседей, до противоположного на нашу, через калитку и маленький дворик по деревянным ступенькам к двери. По левую руку светятся окна, по правую глухая темнота улицы и неба. Спиралью закрученный страх. Дом сторонится как чужой. Позади едва различимо ещё не полностью выделившаяся из мохнатой непроглядности фигура, – там кто-то приближается. Очень страшно, захлебываюсь преодолевая нескончаемую протяженность на пустой улице, позади кем-то уже занятой. Не успею вдохнуть, тут же выдыхается, ноги увязают, подгибаются тающим пластилином. – Я потеряюсь… Чувствую, как мал мой вес, если в непосредственной близости нет никого, в ком я обитаю, а обитаю в маме, в папе, внутри своих.
Бегу непрерывно икаю – «я», «я», «я.…», волны паники смывают светлячок, бессильный осветить себя, не то, чтобы вокруг. Сердце вверх к горлу, часто до шума в ушах стрекочет швейной машинкой, обшивая панической строчкой бесконечную стену, стягивая, укорачивая, чтобы приблизить косматую шкуру закрывающую дорогу назад.
– «Я», «я-я-я» – в повторении вкус ночной свежести и тугая пустота. Руку протянуть к калитке, но раскрученный испуг несёт дальше. – Куда бегу!? Там совсем чужая темнота, позади своя… Кожаные подошвы сандалет разворачиваются по горчащей сырой траве. Из тени навстречу проявляется, светлее и знакомо вышагивает фигура и освобождающее знание, – «Папа!». Отец подхватывает, подсаживает на локоть, – это кто, сын встречает?
– Папа, я! я!
– Конечно, ты!
7.
Первым делом в грозу мама с бабушкой спешат закрыть форточки, чтобы не залетела шаровая молния. Бабушка крестит стены и окна. Когда они жили под Сталинградом после войны к ним в дом залетела шаровая молния, как говорит бабушка, она переливалась искрами и гудела будто электрические провода. Рядом с шаровой молнией нужно замереть, – бабушка с мамой и тётей Марусей застыли не дыша, где стояли. Огненным мячиком молния завернула по комнате и вылетела в открытое окно.
В Джамбейте нередко гаснет свет, мы сидим в большой комнате на диване, пережидая грозу под керосиновой лампой. От прожекторных, сварочных вспышек и зумов рябит в глазах, на сетчатке силуэт бабушки с прямой спиной, видно свои колени и локти, обнимающие маму, я у неё на руках; зелёная вспышка подсвечивает разводы огненных облаков, тьму, мигающую белым, перекаты чего-то громадного, что, гремя, разъезжает поверх. В краткие промежутки тишины слышен шелест струй, лакающий, частый, ненасытно истекающий бег, будто не сверху, а вдоль, литьё и течение. Папа в командировке, где-то сейчас едет, и мамина с бабушкой тревога передается мне – вместе вслушиваемся, не раздастся ли звук мотора и долгожданно хлопнет железная дверка машины?
Мне нравится засыпать в грозу под вспышки молний, когда все дома, зная, что этот прекрасный ослепительный ужас за надежными стенами дома снаружи, я в тёплом гнезде и шаровая молния не залетит, потому что форточки закрыты.
8.
Мои старшие сёстры Валя, Тая, двоюродные брат Вова и сестра Наташа, гости из Жирновска, взяли с собой смотреть солнечное затмение. У всех закопчённые стёклышки, мне тоже дали неопасный кусочек стекла в саже. Стоим на открытом пятачке перед домом. Судя по веселой захваченности, должно произойти что-то необычное: старшие охают, восклицают: «Глядите, скорее, начинается!». Посерело, будто в глазах потемнело, опахнуло ночным сквознячком и плавно вернулось в светлое. Попеременно одним и другим глазом прищуриваясь смотрю через тёмное стекло, ничего не вижу. Момент, когда следовало возбуждённо «ахать» вместе со всеми, пропустил, но, чтобы не отставать от общего оживления, с энтузиазмом киваю, что всё видел.
9.
На первой своей ёлке, на маминой работе в больнице, наотрез отказался включаться в хоровод вокруг хвойного дерева. Тут есть вина и на маме, потому что никто не удосужился объяснить, что Новый год – праздник не только домашний, а ёлка – общее нарядное дерево, чтобы маленькие дети ходили вокруг, пели и получали мешочки с конфетами. Наскоро одели в красивое, запихнули в шубу, в валенки, дотащив за руку быстрым шагом к большому кирпичному зданию больницы, ввели в просторную белую комнату, посчитав, что остальное и так ясно, но нисколько не ясно. Вышагивают в круге, раскинув ручки, незнакомые смирные дети, крутят головами по сторонам, обращают широкие или узкие глаза, поверх – растопыренные игольчатые ветки с зеркальными висюльками, разноцветными флажками, спутанными тонкими блёстками, чистый холодный запах, напоминающий о мыле с оттенками всяких лекарственных примесей… Зачем это? Зачем мама подталкивает в спину, а улыбчивый дядя-казах в белом халате и шапочке с круглым зеркалом на лбу тащит за плечо к посторонним девочкам и мальчикам? Ничего похожего на веселье или на игру. Вынутый из своего в недомашнее место не знаю правил и языка, не понимаю про коллектив, и что праздник не только, когда к нам приехали гости или день рождения, но и снаружи, разделяемый с чужими, по установленному порядку, а иначе все расстраиваются. Прилежному хороводу недвусмысленно сопутствует аромат спиртовых растворов, мелькают белые халаты из гулкого коридора… Они такие присмиревшие, дети… Поставленная на стул девочка с большим синим бантом в белых валенках, кончики бровей задраны к верху, старательно выговаривает стих… Все идёт к развязке, которая, конечно же, закончится уколами, – такой я сделал вывод и громко разревелся, вцепился в светло-голубую трубу из края батареи, глядя в отчаянии на свободные солнечные в снегу крыши, невнятно выговаривал через сопли и слюни, что не хочу, чтобы мне делали уколы, а хочу домой! Сценка вызвала интерес на детских лицах, неловкость и смущение у мамы (вмиг её щёки сделались пунцовыми) и живое участие других тётенек, пахнущих сладкими, как сдобная выпечка на закате, духами, с разнообразными башенками и шишками причёсок. Склоняясь, ласковыми увещательными голосами уговаривают присоединиться к детям. Даю отцепить ладони от горячей трубы, подвести к ёлке; не остывшая рука ткнулась в чью-то лапку, на другой замкнулись червячки пальчиков; заиграл баян, широким языком шумно облизав чем-то узорчатым. Сипели и дыхали клавиши с кнопочками на розово-вишнёвом перламутре, пока раздвигались-сдвигались чёрные складки с железными уголками.
10.
Поездка в город ощущается бесконечной, как ровная однообразная степь. Солнечный свет проваливается через боковые, верхние, задние окна, в щели раздвижной двери, кучерявятся маслянистые узоры пыли. Сморенный нежно-зелёный мальчик-казах на соседнем сдвоенном сидении, его везут в город, в больницу, остановка, ему плохо. Пучки белёсой жёсткой травки поверх сусличьей норы, сбиваю носком сандалета песок в ямку. Едем, пока не начинаются сплошные ряды домов, перед навесами – голенастые неряшливые верблюды. В общем зале гостиницы в Уральске впервые смотрю в телевизор. В ряд подпрыгивают на месте, задирая вверх колени, танцуют чёрные женщины. Их груди (на моём языке – «тити») болтаются, дрыгаются в стороны, на неправдоподобно высоких шеях ярусами блестящие обручи. Фигуры отдаляются, поворачиваются, вдруг приближаются вплотную блестящими лицами… Тёмные люди прыгают прямо сейчас, за этим выпуклым окном, выходящим в нездешнее какое-то место, и, конечно, могут заметить, что наблюдаю за ними; на всякий случай прячусь за колонной и слежу оттуда.
11.
Придя с работы, мама привела чужую молоденькую казашку с младенцем, подобранную у больницы, где она работает в бухгалтерии. Может её некому было встретить из роддома? Или может она дальняя свойственница по отцовой родне? Мама привела её к нам, чтобы накормить, искупать ребёнка, подобрать какие-то вещи, мои прежние пелёнки, ползунки, одеяло… Вместе с этой казашкой сидим на кошме в комнате, моя мама на кухне собирает обед. Хлопоты с мытьём, сменой пелёнок и прочим позади. Женщина покормила грудью, теперь её ребенок спит, распеленатый, раскинувшись на байковой простынке, она воркует над ним – гладколицая, юная, с серповидным эпикантусом глаз в умилении ртутно-мерцающей щелкой. Раздвигает фигурные, приплюснутые, нерусского выражения губы в горделивую улыбку, любуясь своим важно спящим дитём. Глянув в направлении двери, показала на голое тельце, по сравнению с которым почти четырёхлетний я вполне себе человек, – «поцелуй». Желания гостей принято исполнять, склонился и ткнул губами в жёлто-румяную щёчку. «Тут поцелуй», – показала на малюсенькую, как чесночный зубчик, даже ещё меньше, писю, между складок, и средним пальцем нежно её погладила-потормошила. Эту молодую тётю я воспринимал на хозяйских правах, попутно маминой покровительственной заботе, будто бы напялив папин пиджак в игре в гостеприимство, но очутился весь в её власти. Обернув своим желанием, уверенно нашёптывала: «Давай-давай бала, поцелуй, ну!» Нагнулся и чмокнул в место, пахнущее присыпкой; гостья была торжествующе довольна.
12.
Вечером едем на мотоцикле на речку, папа за рулём, мы с мамой в коляске, накрывшись по пояс жёсткой, пахнущей бензином и пылью дерматиновой накидкой. Мошка над водою, жирные отсветы бронзовых облаков пускают по коже маслянистую тень. Чабаны на лошадях, – тёмные слитные силуэты, – гонят отару овец.
13.
Высокое здание больницы из тёмно-красных жирно лоснящихся кирпичей (разумеется, не знаю, что дореволюционной постройки) сильно заметно отличается от окрестных домов, низких, серых, приплюснутых. Жду маму с работы, отпущенный гулять на пятачке перед входом. На краю больничного двора встречаю массивное устройство с раковиной – книжку Чуковского мне ещё не читали, и мультфильм увижу гораздо позже, поэтому, просто большой умывальник, не «Мойдодыр». В мыльных брызгах пятнистое зеркало с чешуёй амальгамы – осколок наискось неба поверх чёрно-золотистых осыпей. По уклону слива плавно вогнутого бока желтоватой ёмкости извилистым сукровичным побегом тянется кровяной сгусток – плевок, оставленный посетителем стоматолога, а может, мокрота, отхаркнутая пациентом тубдиспансера, – туда проход через калитку больничного двора. Нечаянно заметил, потому что летнее солнце замерло над углом крыши, тень наискось разделила асфальт на прохладную тёмную и яркую теплую половины – вышагиваю ровно по границе, пока не упираюсь в синий деревянный ящик с раковиной. – Кто-то как дерево лист сбросил частицу себя, осиротил, смертвил. Выпавший из гнезда сиреневый птенец кажется человечнее. Глубоко внутри скрытое, выбравшись наружу, пугает и притягивает, в нём что-то стыднее голого. <Кровь будто избегала смотреть прямо, прятала взгляд, которого у неё нет>. Смотрю её вполоборота и, если что, лёгким поворотом головы буду не при чём.
14.
Из палисадников свешивается усыпанная незрелыми яблоками тень. То и дело срываются, откатываются с лёгким стуком мелкие зелёные шарики. Трое незнакомых мальчишек преградили дорогу, один обхватил загорелой рукой за шею, на локте тёмно-коричневая потрескавшаяся корочка старой ссадины. Валимся на землю, барахтаемся, перевернул его под себя, он мельче, щуплый, я тяжелее. Другой мальчишка неожиданно толкает в плечо и скидывает. Тот, с кем я борюсь, усаживается сверху, как победитель. Жгуче обидно, я реву, они смеются. «Э, так нечестно», – подаёт голос мальчик, до сих пор стоявший в стороне. Удивляюсь с земли сквозь слёзы, по решительному насупленному лицу с конопатым коротким носом видно, что не забоится подраться. Щуплый слезает с меня, набрасывая лямку грязной майки, вертит головой, переводя взгляд с одного на другого, и встаёт к тому, кто помогал бороться. Пиная босыми ногами яблочки уходят бурча, что нечего ходить по их улице. Заступник назвался Мишей. Я откусил и вложил ему в ладонь половинку комка парафина, отломленного от свечки в кухонном шкафу.
Поделённое пополам – леденец, курт, осколок ястыка жереха, кус пирога, даже жёваный парафин, – всё считается целым.
15.
Папин фронтовой друг прислал из Краснодара посылку с виноградом. Грозди заплеснули и забродили, угол ящика с круглыми отверстиями пропитался красновато-синим цветом. В кухне у открытой посылки (блестящие гнутые гвоздики на фанерной крышке) обволакивает иссиня-чёрным пьяным виноградом: мама взмахнула рукой, папа смеётся – что с ним делать? И выбросить жалко…
16.
Облизанный до стеклянного блеска леденец, из матового сделавшийся прозрачным; охватившая язык сладкая крепость кислинкой, – малиново-лиловая овальная бусина с дорожкой пузырьков на просвет: барбариска.
17.
Девочка-казашка затевает игру в прятки: один ищет, все разбегаются, забиваясь по укромным местам между соседних дворов. Не раз выбирает меня прятаться вместе, и мы забираемся в низкий саманный курятник, знойный, сухо пахнущий куриным перьями, соломой, едкой отдушкой помёта; в боковой стенке – игрушечное прямоугольное окно. Девочка споро приспускает ниже колен трусы, опирается ладонями на низ окошка, посматривает украдкой за окрестностями. Оголённые желтовато-молочные полукружия её попы. Трогаю, глажу чуть пупыристую кожу, невольно вбирая тонко-свитый как бы дымок, отзывающийся чем-то искрящимся, свербящим при вдохе. Если замедлюсь, девочка подаёт знаки ладонью – ещё! Спустя сколько-то времени, что кажется долгим и стремительным, умещаясь внутри длящейся игры в прятки, отступает от окна, оправляет платье. Из сарайки мы крадёмся в ближайший закуток двора, где затаился наверняка кто-то, кого ещё не отыскал водящий прятки.
18.
Имя – то, что надеваешь, как рубашку или сандалеты, но сначала мама или бабушка учат надевать и застегивать пуговицы. Имя как не притёртая выпуклость, свежая прививка: покраснение не спало и нельзя мочить. Новые имена – так, как назвали взрослые, ставя друг перед другом, – «Саша», «Серёжа», «Гуля», – скоро разнашиваются, вприпрыжку, кувырком, отскоком на «ка»! С криком ловишь, обеими руками, как мяч, не дай бог упустишь!
19.
Мишка позвал ловить ящериц, получилось улизнуть, пока бабушка возилась в сарае. Ушли не близко, уже степь с редкой травой и песчаными наносными холмами. На покатой вершине встретили чёрного косматого козла. Искривлённые рога, шея и копыта перекручены спиралями тонких полос, ленты шелестят, трепыхаются, поднимаются ветром завитками вверх и в стороны. Мы побоялись идти дальше, сели на тёплый песок внизу увала и смотрели. Мои глаза накрыла сухая жёсткая ладонь, я сразу догадался по запаху, что это бабушка. Пришла за нами. Схватив в одну руку Мишкину руку, в другую мою крепко, повела за собой в сторону дома, подальше от места, где замер против солнца жуткий козёл, вкруг которого завивались и шевелились ослепительные спирали. Потом выяснилось, что старый этот козёл поддел вертушку загородки заведующей почты и перерыл почтовую мусорку, прежде чем старческая дурь не загнала на степной холм; так и стоял там встрёпанный, замотанный в телеграфные ленты.
20.
Папины родственники – казахи. Мы приехали к ним в гости. Русская только мама. Улыбка не сходит с её лица, круглит порозовевшие щёки, включает ямочки. Папа на почётном месте, заливисто хохочет, глаза в щёлочки, почти не видно, к нему обращаются уважительно «агай» (старший). Здесь все родственники и как-то зовутся, совсем старые и не очень, и дети-родственники, и ещё набежали другие дети, чьи родители сели за общий низкий стол по центру большой комнаты. Нам высыпали большую горсть воздушных шариков, надуваем вместе, старшие из девочек крепко вяжут узлы. Круглые, овальные, колбаской пузыри – чем туже надуты, тем прозрачнее цвет насквозь – отлетают с сухим звоном, стукаются боками, поднимаются к потолку, тычутся, дрожат ниткой.
По соседству на кухне горчит дымком печь, мигает красным в щелях дверки. В тазу сухие палки и кизяк, на плите казаны и кастрюли. Бабушка, «аже», в длинном платке до пояса, лаково-коричневая, не считая жёлтых белков, в зелёном плюшевом жакете, широкие серебристые браслеты на запястьях, почти не говорит по-русски, добро и беззубо смеётся, гладит меня по голове. Из кастрюли в пару подсекает, раскидывает на блюде лоснящиеся тряпочки теста – «нан». Тётеньки приносят в комнату еду на подносах – бешбармак, баурсаки, конфеты, чай, печенье… Мама заглянула проверить, чтобы не хватал жирные куски, не тёр испачканные руки об одежду и не обжёгся чаем из пиалы.
Утоптанный двор, скирды сена, начало осени, тепло, в сене сухие цветы, узкие колючие колоски пристают к одежде. За проволочной загородкой взад-вперёд носятся и блеют овцы с ушами-висюльками, в какую сторону мы – туда и они. Чёрная лохматая собака машет хвостом, прыгает, сую в её весёлую пасть куски баурсаков. На колышках растянута вниз мехом красноватая шкурка лисицы – дядя Саша поймал в степи – интересно чуть воняет тухлятиной.
Взрослые выходят на улицу курить. Папа вытаскивает папиросу из протянутой навстречу пачки: он не курит, редко с гостями, когда выпивают «арак». Подзывает к себе довольный, весёлый, крепко обнимает за шею, мокро чмокает в щёку; вытираю и бегу к ребятам. – Все общаются на казахском, к маме обращаются на русском, что говорится мне – легко понимаю.
Мама отпустила с ребятами вместе в кино. Я не был ещё в кино! Тёмное просторное помещение в частых рядах деревянных спинок, крепко въевшийся табачный дух. Лампы гаснут, во всю переднюю стену вспыхивает яркое белое полотно. Появляются люди поначалу издалека, ближе, надвигается лицо человека, другого. Приближенно – неудобно страшно огромны. Улицы, дома, серые стены, окно, стол, в следующее мгновение – какие-то высокие горы, столбы, стройка. Мой взгляд потерянно мечется между хаотичных обрывков, не поспевая складывать в последовательность кутерьму из фигур, лиц, губ, глаз, рук, крутящихся поездных колёс, дыма заводских труб, облаков, деревьев, распуганных птиц, освещаемых так же, как когда я балуюсь папиным фонариком, – кручу, вращаю, машу пучком света по всему подряд. Яростный потный человек в распахнутой гимнастёрке запрокинув голову льёт в свою глотку воду из чайника: металлический бок чайника, закопчённое дно, и почему-то видно уже поверх носика, как искрящаяся струя падает в яму его распахнутого рта с оскалом белых зубов, стекает на подбородок, на жилистую шею с прыгающим кадыком. Наваливаются, набегают стремительные картинки; разламываются на куски; гулко раскатываются по темноте голоса размером с самосвал. От мельтешения и разворотов глаза утомляются, и шея устаёт, будто меня крутят вверх тормашками, нарастает тревога, неспокойствие… Шепчу в ухо старшей девочке (она всё время, как мы приехали, заботится и присматривает за мной): «Хочу домой» … Вместе все пришли, вместе и уходим.
Кажется, папа засыпает с картами в руке, женщины, и мама с ними, составив кружок, пьют чай. Зелёные, синие, красные шары приземлились, отпихнуты в углы. На полу яркие матрасы-«курпе», хорошо раскинуться на них, столько вокруг детей-родственников, тёплая кучамала из нас.
21.
Отвал мусорной кучи с зольными разводами, туда неумолимо тянет, а за штакетником, появляясь и пропадая, маячит бабушка, отгоняя прочь строгим окликом. На помойке – консервные жестянки, варёный лук, чайные опивки, нахохлившиеся лохмотья мёрзлой капусты, лавровый лист, дробинки душистого перца. Вороны, усыпающие воздух резкой своей речью, семенящие голуби, скачут и воробьи. С Мишкой мы наткнулись на непонятно как тут взявшуюся непочатую банку сгущённого молока – кому могло прийти в голову выбросить на помойку такое сокровище? Дома бабушка ножом пробила дырочку, и втроём мы съели сгущёнку с хлебом, она сама отнесла банку обратно на мусорку, а родителям мы ничего не сказали.