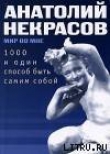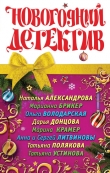Текст книги "От Эдипа к Нарциссу (беседы)"
Автор книги: Александр Секацкий
Соавторы: Татьяна Горичева,Даниэль Орлов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Для Хайдеггера речь идет об одной и той же вещи, – ужас и бесприютность суть одно и то же. Здесь не находится места экзистенциализму, который бы предполагал, что раз разговор зашел об ужасе, то это все равно, что вести речь о ком-то, кто испытывает ужас. Ужас невозможно пережить, ибо он бросает туда, где человеческому существованию нет места, – как бы по ту сторону жизни и смерти. Хайдеггер часто повторяет, что человеческое присутствие есть выдвинутость в Ничто. Эту же мысль философ герменевтически выводит из перевода хора Софокла. Софокл первый, кто ясно выразил идею, что человек – потрясающее, удивительное существо, возможно, самое странное на свете, потому что сумел противопоставить могучим силам природы собственную волю к власти, и природа дрогнула перед человеком. Но тем самым человек показал, что вываливается за пределы сущего, превосходит его. Хайдеггер – последний, кто понял то же самое. Человек подчинил мир, поместил сущее в рамку собственного представления и превратил в неисчерпаемый жизненный ресурс. Но истоком его тысячекратно возросшего со времен эллинов господства остается все та же неукорененность, та же выдвинутость в Ничто. Герменевтический круг замыкается, а путеводной нитью выступает, опять же, тема, которую мы невольно затрагиваем: человек без почвы под ногами, человек, стоящий в трещине бытия и ничто, человек, жаждущий подчинить себе сущее, дабы в нем укорениться и обрести хоть какую-то устойчивость, а стало быть, и счастье. Бесконечный провал этого проекта обнаруживается несчастным сознанием, которое, как было замечено в самом начале, не видит в теме счастья существа философского вопроса. Оно вынуждено бродить по периферии этого вопроса, делая вид, будто способно узреть самое важное на расстоянии.
Т. Г.: Даниэль, то, о чем вы сейчас сказали, я бы рассматривала как вариант бытия после смерти. У Фрейда есть небольшая статья, где он описывает человека, которого большую часть жизни преследовали неудачи, а лет в сорок он внезапно разбогател, купил дом, наладил быт, однако вскоре покончил жизнь самоубийством. Только на него свалилось счастье, как он кончает собой. Этот феномен нам знаком и по лагерной литературе, в которой часто рассказывается о том, что убивают человека не истязания или изнурительный труд, не невыносимая жара или холод, а какой-нибудь случайно подсмотренный миг счастья, который лишает человека последних сил. Это момент, в который из его ада приоткрывается окно в счастливый мир и человек внезапно застает кусочек нормальной жизни, например, видит, как мать купает в речке своих детей. От этого несовпадения можно умереть. От счастья люди умирают. Выходит, что чем больше мучений в человеке, тем ближе он к счастью. Все тоталитарные идеологии, как понял еще Достоевский, основаны на идее всеобщего счастья, на безостановочном удовлетворении, но одновременно сквозь такое стремление совершенно отчетливо проступает глубочайший мазохизм. Ужасна абсолютная таинственность и необъяснимость мучения. Почему особенно страшны мучения животных? Они необъяснимы. Тоталитаризм с его пониманием возможности счастья основан на глубочайшем мазохизме, на каждодневных жертвах, которые непременно должны быть замучены, чтобы остальные могли жить хорошо и счастливо.
Д. О.: Я готов полностью согласиться с тем, что вы, Татьяна, сказали. Вы наделили идею счастья как радикальной утопии дополнительным измерением. Если я больше склонялся к метафизическому плану, то вы заговорили о попытках воплотить утопию счастливого сознания в действительность. Очевидно, что ничего, кроме опыта социально-политического прививания исконного ужаса, они не принесли. Мы лишь стали еще более бездомными и несокровенными, поскольку окончательно утратили иллюзию счастья в ее общечеловеческом измерении. Представление о нем свелось к психологическим переживаниям. Например, некто после долгой болезни оказывается вечером на берегу озера и смотрит, как солнце рисует оранжевым по чернеющей ряби воды. Солнце садится за кроны деревьев, которые раскачивает ветер, а облака проплывают так низко, что скрывают летящих птиц. В этот момент человек может почувствовать себя счастливым, потому что миг счастья открылся ему из прежней его боли. Чем глубже была боль, тем скорее он примет свои переживания за моменты истинного счастья. Мы чувствуем, что в подобной персональной утопии еще сохраняется подлинность, что этот романтический миф пока жив, в отличие от просвещенческого проекта счастья всего человечества, который уже давно превратился в пыль на могилах своих бесчисленных жертв.
А. С.: Как мне кажется, мы допустили определенную путаницу в терминах и даже впали в противоречие. С одной стороны, Даниэль говорит о том, что счастье есть радикальная утопия, с чем я как раз готов согласиться. Хотя, может быть, не столько утопия, сколько воспоминание об утерянной родине души. А с другой стороны, с чем я уже не готов согласиться, мы представляем счастье в виде окна, в которое вдруг выглядываем, например, после нескольких дней болезни гриппом, и смотрим на закат. Это состояние должно называться по-другому. Потому что счастье, сколь бы оно ни было кратковременным и краткосрочным, касается всех оснований бытия. Оно не может быть только элементом прекращения страданий. Иначе мы говорим не о счастье, а о чем-то другом – о неких заменителях, которыми вынуждены довольствоваться, поскольку подлинного феномена испытать практически не дано.
Мы действительно обнаруживаем счастье только в таких противоречивых ситуациях. Именно поэтому оно обычно оказывается краткосрочным. Почему мы говорим: «Краткий миг счастья»? Это почти устойчивое выражение. Хотя бы потому, что помимо счастья есть повседневность и обыденность. А если мы предположим, что счастье размазано по ней равномерно, то тем самым мы его полностью дискредитируем. Зачем тогда вообще говорить о повседневности и обыденности? Ясно, что счастье, если оно сохраняет некоторую достоверность, может быть лишь кратким мигом, чем-то исчезающим. Но и этот режим не обязателен, потому что то, что перемежает нашу повседневность, не обязательно будет счастьем. Это могут быть и страдания, и муки, после которых восстановление нормального хода событий и вправду покажется чуть ли не счастьем, хотя на самом деле речь идет всего лишь о нормальном ходе событий – о том, что ты живешь, скажем, в условиях абстрактной либеральной свободы, никто на тебя не покушается, ты ходишь по красивым улицам и пьешь приличное пиво. Казалось бы, что может быть более простого и очевидного? Но эта простота скрывает сложный психологический перенос, вследствие которого мы называем счастьем остаточный фон – миг, когда нас не мучают. Эталон счастья возникает только в том случае, если мы пребываем в полном самозабвении и только если это состояние касается не наслаждения, а именно всех оснований бытия. Вот мир, в котором подобает жить человеку, – и мне, поскольку я человек. Но живу я в другом мире, и никакими диалектическими аттракционами тут дела не поправишь. Для того проекта, который именуется ресентиментом, мы вынуждены говорить о невозможности счастья и довольствоваться эрзацами и заменителями.
Т. Г.: Тем не менее, в нас должно быть стремление к счастью, хотя бы в той мере, в какой мы способны стремиться к полноте. Сейчас большинство людей хочет жить только для удовольствия. Это неверно. Полноты не достичь в удовольствии. Нужно выходить на более высокий уровень, где возможно приблизиться к абсолютной интенсивности внутренних движений. А это, на мой взгляд, есть уровень события.
А. С.: Важно стремиться к полноте самореализации и к множественности модусов бытия как к цели, но даже это не является счастьем, поскольку счастье есть нечто иное. Оно не заключается только в полноте самореализации, которая возможна и в отсутствие счастья, скажем, как производная длинной воли. Если мы держим круговую оборону от мира, идем путем воина и добиваемся того, чтобы мир изменился посредством приложения наших сил, то, быть может, это будет полнотой реализации, но ведь счастье-то не зависит от нас никоим образом. Его нельзя сымитировать и спровоцировать изнутри. Пусть мы имитируем возможность подставляться под встречные потоки благожелательности и даже любви, в конечном счете все будет упираться в Zufall – говоря словами Бахтина, в «дар милующего другого». Совпадение – это неожиданная безнаказанность, когда мы вдруг размыкаем круговую оборону от мира, решая про себя «А пусть случится то, чему следует случиться». Тогда по крайней мере есть шанс. Если же мы оборону не размыкаем, то никакого шанса нет. Коль скоро мы слишком подозрительны и умны задним умом, слишком склонны к самоотчету во всех его нюансах, на шанс рассчитывать нечего, мы все равно его не опознаем.
Стоит обратить внимание на то, почему Кант противился счастью и почему он полагал, что на него не следует рассчитывать. В кантовском понимании счастье противоречит законодательству чистого практического разума. Мы поступаем так, как если бы наш выбор был законом вселенной, что соответствует категорическому императиву, и вмешательство счастья разрушает основание наших поступков так же надежно, как и корыстный расчет. Что тогда получается? Тогда получается альтернативный вариант героического пессимизма, на котором настаивали Ницше и Хайдеггер. Раз счастье никоим образом не является определением нашей воли и всегда находится в состоянии утраченности, то нам остается перенести его в модус вечной надежды и разместить среди прочих имеющихся там химер.
Т. Г.:. У Маканина есть рассказ, в котором описывается история двух друзей. Один во всем преуспевал, добивался успеха, его любили и уважали, однако чем больше он преуспевал, тем сильнее хирел другой. Тем самым обнаруживается ограниченный ресурс возможностей, которых на всех заведомо не хватает. Если достается одному, то забирается у другого. Например, если ты счастлив, то кто-то страдает из-за тебя. Даже среди моих знакомых встречаются люди, которые боятся, что им слишком повезет или случится что-нибудь хорошее, потому что они думают, что другие вследствие этого будут страдать. Мне кажется, что на самом деле это полная чушь. Теория обмена не срабатывает в подобных вещах, поскольку им не соответствует количественный принцип. Существуя в эпоху цинизма, мы привыкли считать, будто все обменивается – деньги на любовь, любовь на успех, успех на власть и т. д, – но счастье все-таки не имеет разменного эквивалента. Счастье связано не только со случаем, но и с тайной. Поэтому оно ускользает от нас почти в тот самый момент, в который оно с нами случается. Это как внезапно обретаемая полнота бытия, дарованная на мгновение. В отношении полноты нельзя сказать, что раз она досталась сейчас тебе, то кто-то другой в этот момент ее лишился. Счастью неведомо подобное негативное начало, связанное, скорее, с нехваткой.
Д. О.: Как мне кажется, мы оставили в стороне довольно существенное различие, благодаря которому идея счастья впервые делается отчетливой и дальше уже не смешивается с близкими ей понятиями, типа удовольствия и наслаждения. Я имею в виду различие, которое проводил Эпикур между высочайшим счастьем, подобным счастью богов и в принципе неисчислимым, и таким счастьем, которое подразумевает прибавление и убывание наслаждений. Принято полагать, что Эпикур допускал плавный переход одного состояния в другое, из-за чего он часто считается чуть ли не проповедником расхожего гедонизма. Между тем, это неверно по сути. Эпикур соотносил счастье, доступное человеку, не с постоянным переходом от одного удовольствия к другому, еще большему, а с освобождением от бытийной нехватки, с обретением полноты. На уровне обычного наслаждения этот принцип действует следующим образом: если мы испытываем боль, то это означает лишь то, что мы ощущаем отсутствие наслаждения. Решающий акцент делается именно на отсутствии. Необходимо обратить знак «минус» в знак «плюс», совершив своего рода арифметическое действие. Однако на уровне высочайшего счастья дело обстоит иначе. Оно само по себе есть такая полнота, от которой ничего не отнимается даже в том случае, если в него входит какая-то нехватка. Другими словами, подлинно счастливый человек остается таким же счастливым, даже когда переживает боль. В этой связи Эпикур говорил, что мудрец и под пыткой будет счастлив, ибо он способен к благодарности. Вот здесь, на мой взгляд, мы достигаем некоторой ясности. Пока определенное количество счастья обязательно подразумевает на другом конце такое же количество страдания, в силу чего если на твою долю выпадает радость, то на чью-то долю непременно выпадает боль, мы и близко не подходим к идее подлинного счастья. А если ты сегодня счастлив, когда тебе хорошо, и завтра счастлив, хотя тебе, возможно, сделалось плохо, и счастлив послезавтра, когда все снова наладилось, то идея счастья предстает в своем чистом виде. Она проходит сквозь колебания маятника, оставляя далеко в стороне циркуляцию удовольствия и боли, которые жестко привязаны друг к другу, подобно жидкостям в сообщающихся сосудах. Понятно, что «сегодня, завтра и послезавтра» – это не длительность и не период во времени, а различные состояния и обстоятельства, до которых счастью нет никакого дела. Счастье просто иногда с нами случается, а затем просто исчезает без следа.
А. С.: Очень важный момент, который был нами обнаружен, заключается в том, что для счастья не подходит принцип контраста. Он подходит для наслаждения, для удовольствия, для триумфа, но только не для счастья. Мне вспомнилась ситуация контраста, вроде бы убеждающая нас, что если другим плохо, а мне более-менее сносно, то сама «сносность» значительно повышается в ранге. Вот в армии мы отдыхаем после наряда, и в шесть часов утра звучит сигнал утреннего подъема. Ты понимаешь сквозь сон, что сейчас все вынуждены вскакивать, а тебя это не касается. Они должны идти делать зарядку, бегать, работать. А тебя вроде бы потревожили и это плохо, но спасительная мысль, что можно безнаказанно погрузиться в сон на фоне всеобщей мобилизованности, меняет знак эмоции на противоположный. Ты получаешь определенное удовольствие, но подобная ситуация совершенно не связана со счастьем. Счастья не может быть, если кому-то другому плохо, тогда реализуются лишь вторичные модусы чувственности типа злорадства. Опять-таки, что это предполагает? Это предполагает незнание. Ты просто не отдаешь себе отчета, что твое счастье строится на основании того, что к Ключареву прибыло, а у Алимушкина убыло. Только если ты этого не знаешь, тогда ты и счастлив. Я настаиваю на том, что главное здесь – некое благородное незнание. Как для человека, не ведающего страха, неведение есть достоинство, так и счастье предусматривает благородное неведение, отсутствие вредного знания. Но поскольку нет ничего более трудного, чем устранить это маниакальное знание, то и счастье оказывается проблематичным и дискредитированным. Мы охотно говорим о чем угодно на длинной дистанции от наслаждения и радости до чувства исполненного долга, но только не о счастье, потому что оно нигде не возникает в структурах рефлексии. Ибо оно выпадает единственно на долю господина, а проект господина провалился.
Д. О.: Очень важным является мотив благодарности, о котором говорила Татьяна в начале нашей беседы и который упоминался в связи с Эпикуром. Так, Хайдеггер, признававший сущностное одиночество мыслящего, полагал, что благодарность основательней, чем мышление или поэзия, поскольку возвращает умеющих благодарить к присутствию недоступного, коему мы, смертные, изначально присвоены. Чтобы проникнуться настроем этой хайдеггеровской мысли, необходимо заметить, что в немецком языке слова danken (благодарить) и gedenken (хранить память) очень созвучны. Когда мы благодарим, мы одновременно вспоминаем об утраченном доме и обозначаем свой путь, будь это путь мышления или бытия, как вечное возвращение домой. Достигнем ли мы потерянного крова, неизвестно. Быть может, Одиссей, чей корабль гоним ветром бытия, так и не увидит берегов родной Итаки. Но временные пристанища, которые он находит по дороге, никогда не устроят его до конца, по крайней мере, пока воспоминание о доме будет оставаться более реальным, чем любые встречные берега и пристани. Вероятно, счастьем можно назвать те редкие мгновения, когда ветер доносит до Одиссея зов издалека, отвечая которому он плывет не невесть куда, бессмысленно блуждая по необозримому морю, а обретает особую стезю, которая, теряясь из вида, увлекает корабль за окоем. Когда Эпикур находил возможность счастья даже под пыткой, объясняя ее благодарностью, то он пояснял, что речь идет о благодарности близким друзьям. То есть он понимал счастье именно из со-участья Знаменитый сад Эпикура – своеобразная метафора счастливого сознания, территория воплощенной утопии. В размерности мира в целом этот сад оборачивается заброшенной пустошью, а счастье остается лишь воспоминанием, как безвозвратно утраченное. Отношение благодарности и воспоминания здесь выступает на первый план. Фиксируется то, о чем сказал и Александр счастье не является одной из двух крайних насечек на шкале от предельной боли до предельного наслаждения, оно состоит в чем-то совсем ином. Подобно несокровенному ужасу, оно не поддается описанию в качестве рядового экзистенциала бытия-в-мире и не есть непосредственно проживаемое и переживаемое. Скорее, оно присутствует как след, различая который мы опознаем человеческую реальность и отделяем ее от реальностей иного типа. В этом смысле сколько бы мы ни настаивали на несчастном сознании, сколько бы ни говорили о разорванности, идея счастья все равно куда более изначальна и неодолима.
Беседа 7 О банальности
Д. О.: Когда мы недавно разговаривали о реальном и символическом, то нам не единожды приходилось включать в ткань беседы понятие банальности. Между тем, ничего внятного о банальном сказать тогда не удалось. Сегодня мы попытаемся это сделать, хотя бы на том основании, что сталкиваемся здесь с предметом неизбывных тревог и сомнений как философской мысли, так и художественного вкуса. Существует некая область наших притязаний, в которой господство «человеческого, слишком человеческого» нас пугает, где нельзя быть таким, как все, где действуют строгие знаки отличий. Иначе говоря, есть то, к чему Бог каждого из нас призывает, и если мы не осуществляем это призвание, то оказываемся практически не выделяемыми из структур человеческой массы, затерянными в повседневности и, стало быть, погруженными в банальное как таковое. И вот здесь, я полагаю, нам сразу следует сделать принципиальное различие в самой банальности, поскольку она имеет по крайней мере два лица или две ипостаси. Я бы обозначил их следующим образом с одной стороны, банальное представляет собой сказывание того, что само по себе ярче света, явней самого что ни на есть явного, а с другой стороны, банальное предстает сказыванием того, что само по себе темнее ночи и продолжает оставаться невыявленным, что бы мы ни говорили и как бы мы ни говорили. Я рассматриваю сейчас лишь то, что первым приходит в голову, когда речь заходит о банальном: банальное высказывание, язык банального. Этот язык оказывается или всецело недостаточным, или всецело избыточным. Понимаете, мы могли бы, к примеру, собраться для того, чтобы обсудить погоду за окном или какие-то вещи, которые ничего не прибавляют к готовому пониманию действительности. Однако это будет излишним шагом, потому что в этом случае просто не о чем говорить. Язык здесь будет производить непосредственное удвоение действительности, при том что не только с самой действительностью ничего не произойдет, но даже и с нами как говорящими ничего по существу не случится. Такие нейтральные фазы высказывания могут быть определены как болтовня по преимуществу. У языка огромный внутренний ресурс не быть банальным – это все то, что не позволяет принимать его сказ за прямой акт референции, когда слово «стол» удваивало бы некий сущий стол, будто идеально точное зеркало, не добавляя никаких дополнительных смыслов, которые говорили бы уже не об этом конкретном столе, а о чем-то принципиально другом. Если язык отражает действительность, то это и есть язык банального. С этим мы можем согласиться. Теперь посмотрим, что происходит, когда прекращается игра удвоения, а язык перестает быть домом сущего, делаясь домом бытия. В этом случае высказывание превращается в такой акт, в котором изменяется как облик обсуждаемых вещей, так и облик самого говорящего. Достаточно сказать, что мы сидим не просто за столом, а, к примеру, за круглым столом, и акт прямой референции будет прерван. Тогда будет высказано что-то иное, будут добавлены недостающие оттенки цвета, нюансы и контраст. Мы станем различать, что сидящие за этим столом встретились не совсем случайно, что их объединяет центр, вокруг которого они собраны, причем центром выступит не какой-то там стол, а беседа, либо трапеза, либо еще какое-то общее дело. Тем самым вещь больше не задается в порядке непосредственного удвоения действительности. И это принципиальный момент, потому что только за счет встраивания происходящего с нами в ситуацию бытия (а для этого и нужен язык) мы способны обретать прибавочное понимание, коего были лишены прежде. Этому обретению способствует риторическая инфраструктура языка, вроде тех же тропов. Благодаря им вещи предстают не совсем такими, какими мы их знаем, – немного преувеличенными или преуменьшенными, видоизмененными или преображенными (вспомним путешествие Алисы в мир языковых событий). Мы стремимся понимать за пределами феноменальной разметки мира вещей, пробуждая сказывание их бытия, единственно перед которым и можно быть мыслящим существом.
Кроме того, первая ипостась банального содержит проблему, которая обнаруживается, если мы пытаемся перейти от слов к вещам и задаться вопросом: а может ли быть банальным само восприятие? Мы ведь почти никогда не воспринимаем мир будто «при первом свете», как говорил Мамардашвили. А раз мы лишены свежести взгляда, то у нас не остается иного пути не быть банальными, кроме усложнения языка мышления. Хайдеггер был совершенно прав, когда заявил, что задача философии – делать восприятие вещей затрудненным. Он оказался первым, кто так отчетливо высказал подобную мысль; в традиционной метафизике вряд ли встречается аналогичное утверждение, и не потому, что она стремилась упрощать вещи, – она их тоже делала сложными, однако и простоты не чуралась. Именно в культуре модерна в целом и у Хайдеггера в частности возникает подозрительность к простоте формы, в том числе и формы высказывания. Ибо все, что могло быть сказано, уже сказано – о чем еще можно в такой ситуации говорить, если не усложнять до бесконечности вещи, которые до этого были исполнены слишком просто, или не делать восприятие этих вещей преднамеренно затрудненным? Иначе говоря, когда избегают сути целого, которая, как мне представляется, проста по определению, тогда бесконечно рассуждают о частях, разбивая каждую часть на новые, более мелкие и незначительные части. Сказанное характеризует не только тенденцию в современном способе философствования. В литературе мы находим то же самое. Кажется, в «Манифесте сюрреализма» Бретон говорит, что роман больше не может начинаться классической фразой типа «Маркиза вышла в пять». Хайдеггер утверждает то же: у нас нет достаточных оснований заводить разговор, если мы не имеем сказать больше, чем рядовая банальность.
Это что касается первой ипостаси банального, связанной, если можно так сказать, с гиперочевидностью некоторых вещей. Но есть и вторая ипостась, которой кратко тоже необходимо коснуться. Если первая ипостась банального обращена к средоточию повседневности, где мы окружены вещами, которые нам столь близки, что наше понимание в их отношении минимально, то вторая ипостась развернута прямо в противоположную сторону – к предельным сущностям и состояниям, о которых человек все же решается заговорить. Очевидно, скажем, что фраза «Я тебя люблю» является абсолютно банальной. И она, конечно, всегда будет такой оставаться, если за ней не стоит любви. Правда, высказывание в известном смысле все равно останется банальным, поскольку предмет сказа настолько далек от того, что мы способны высказать, что подчас и целой жизни мало, дабы подтвердить свои слова. Порукой тогда выступает разве что смерть. «Крепка как смерть любовь» – что-то есть в этих словах правдивое, ибо только смерть никогда не солжет, да и нам не даст соврать. Я хочу продемонстрировать, что существуют вещи, о которых говорить бессмысленно, но не потому, что они растворились в средоточии повседневности и заболтаны, а потому, что хотя они и соприкасаются с нашей повседневностью, но не имеют в ней места. Поэтому язык здесь всякий раз оказывается недостаточным. Что бы мы ни говорили, мы апеллируем к вещам, которые темнее ночи. Сколько бы мы их ни проясняли, они становятся только темнее, подобно тому, как если вы ночью зажигаете свет, то видите, как еще крепче сгущается тьма вокруг.
Т. Г.: Я хотела бы несколько иначе раскрыть тему банальности, поговорив о том, в каком мире живет всякий современный человек, в том числе и мы с вами. Знаете, возникает такое впечатление, что мы живем в конце времен, потому что при нарастающей скорости каких-то чисто технологических изменений по сути ничего нового не происходит. Конечно, об отсутствии новизны говорили еще древние, но мы-то знаем, сколько великих откровений и открытий еще ожидало человечество. А сейчас мир сделался совершенно имманентным, и мы остро чувствуем, что нас больше не ждут впереди ни откровения, ни открытия нового и невиданного. Именно в этом смысле все абсолютно банально и все давно уже высказано, в том числе и сама эта мысль является банальной и тысячу раз высказанной. Ханна Арендт писала о банализации зла. Похоже, это последняя вещь, которая подверглась банализации. Все остальное стало банальным еще раньше. Люди привыкают ко всему, к добру и злу, к слабости и насилию, к героизму и трусости, к абсолютно любой вещи. Поэтому в них уже невозможно возбудить какое-то чистое состояние или искреннюю живую реакцию В мире воцарилось то, что Гегель называл дурной бесконечностью, на которую трудно реагировать, ибо она всегда нас опережает, а прервать ее можно разве что наркотиками или иными средствами трансгрессии. Мне кажется, что подобное состояние мира – это и есть собственное лицо банальности, которое мы не всегда хотим замечать, но от которого нам не отвернуться.
А теперь обратимся к искусству, потому что искусство, в отличие от других сфер человеческой деятельности, дает последние варианты искренности и подлинного наслаждения, которого нигде больше не получить, Энди Уорхол писал бесчисленные банки томатного супа и тиражировал портреты культовых персонажей своей эпохи. Фактически предметом его художественного интереса было все самое банальное, однако что произошло, когда банальное оказалось возведено в принцип искусства? Все эти банальные вещи стали иконами. Банка супа превратилась в образ, отсылающий к символической реальности. Тем самым даже банка супа может стать чем-то интересным и значительным, если она прорвет свою укорененность в банальности. Вальтер Беньямин когда-то написал книгу о фотографии. Вы знаете, было много споров, является ли фотография искусством, производящим нечто существенное с реальностью, вводящим ее в порядок символического, или это простая демонстрация мира как он есть, то есть способ банального удвоения. Беньямин написал книгу об ауре фотографии, о преображении реальности, обозначив фотографию как новый вид искусства. А чем занимается фотография? Она позволяет увидеть то, что нам кажется банальным, заново, с аурой чудесного, невиданного. Этот момент характеризует искусство XX века в целом: чем более объект мизерабелен, чем он ничтожней, тем больше от него идет излучения, тем сильнее его аура. Подобный минимализм мы видим, скажем, в скульптурах Джакометти. Банальность раскрывается уже не как банальность, а как минимум, как то, что никому не нужно, как самое ничтожное. И именно оно оказывается объектом искусства, становится самым высоким. Это очень любопытно. Хотя вовсе не в одном современном искусстве банальность попадает в горизонт запредельного, в некоторых великих культурах, например, в китайской и индуистской, банальное имело свое апофатическое измерение. Потому что чем важнее предмет, чем более глубок сюжет, тем больше мы о нем молчим. Это основной закон аскетики и любой религиозной практики. Кьеркегор написал книгу «Wiederholung», где критиковал понятие очевидности, которая одновременно открывает и скрывает реальность в повторяемости всех идей на уровне их осуществления. То есть все вещи банальны, они могут повторяться, а вот идеи уникальны и единственны в своем роде. А Кьеркегор мучительно пытался избыть эту платоническую повторяемость вещей. Он стремился выявить уникальность на уровне единичного, а не всеобщего. Эта абсолютная уникальность обнаруживается в человеке, идеалом которого является Авраам. Бог избрал Авраама, исключив тем самым всякое повторение своего выбора в каком-то ином человеке. Я думаю, что только таким образом банальное может быть спасено: когда один из элементов в цепи повторения выделяется и вводится в запредельность, в сакральное как в высший символический порядок.
А. С.: Некоторое удивление вызывает то, что банальность, не будучи возможным предметом высказывания (вроде бы об этом не говорят), не только становится таковым, когда мы перестаем говорить по существу, но в то же время действительно способна вызывать страх – страх всякого пишущего как конец проекта письма. Хайдеггер только эксплицировал страх философа перед банальностью, как Питер Хандке – страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Но на самом деле любой пишущий всегда придерживается этой интуиции, ибо он знает, что его вещь может быть несовершенной, может быть еретической, за нее могут приговорить к смерти, как Салмана Рушди, но все это ерунда по сравнению с тем, что она окажется банальной. Конечно же, страшнее этого ничего нет. А собственно говоря, почему? Почему банальность, которая заполняет пустоты нашей повседневности и из них извлекается, так страшна для любого вызова, для любого проявления гюбриса? Что она в этом случае означает? Мы и в прошлый раз говорили, и сейчас Даниэль это обозначил, что банальность есть место, где прекращается диктатура символического и начинается сама реальность, как мы ее здесь понимаем, – реальность, которая не поддается символической раскадровке. Поэтому я вряд ли соглашусь с тем, что она ярче света и темнее ночи, скорее наоборот, она подобна самозатухающему колебанию маятника, поскольку уходит от всех оппозиций, которые мы легко выстраиваем. Ведь когда мы это делаем, то уже находимся на уровне возможного письма, возможного авторствования. А банальность – это сбившийся набор, все более и более нечеткие буквы, прочитать которые почти что нельзя. Если банальность подступает изнутри, то она означает порчу текста. И любой художник по большому счету перед этим бессилен. Он ощущает этот страх, хотя, может быть, и не способен его выразить. Между тем, мы признаем за очевидный факт, что всякая искренность по большому счету банальна. Мы вновь об этом говорили, касаясь признания в любви. Если некто, признаваясь в любви, прочитает изощренное стихотворение или предъявит свое произведение, то он, конечно, добьется успеха, но мы заподозрим, что тут не все в порядке, что текст, пожалуй, он любит больше, чем предмет своей любви. Но вот он говорит: «Я тебя люблю». Даниэль замечает, что фраза банальна, если за ней не стоит настоящая любовь. Боюсь, что даже в этом случае она банальна, то есть она банальна в любом случае. Просто мир устроен так, что когда искренность или влечение подступают к нам до такой степени, что мы не в состоянии выбирать выражения, когда мы утрачиваем зеркало самолюбования и точку отсчета, от которой стараемся выстраивать мысль оригинальным образом, тогда мы говорим банальность и раскрываемся в своей беззащитности. Поэтому можно сказать, что любовь – это добровольный поворот друг к другу своими банальными сторонами, не исключая и буквального понимания.