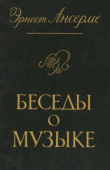Текст книги "От Эдипа к Нарциссу (беседы)"
Автор книги: Александр Секацкий
Соавторы: Татьяна Горичева,Даниэль Орлов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Константин Исупов Новые симпосионы
Наша эпоха заново переживает кризис печатного слова Топором его, как всегда, не вырубишь, зато легко «вырубить» читателя, на которого обрушилась новая Гуттенбергова галактика самых разных текстов от отечественной чернухи и вольной прессы всех расцветок до широкого потока философической продукции второй половины скончавшегося века. Герменевтика текста окончательно развоплотила текст, лишила его статуса личной семантики и возможности интимного смысла Вещи стали прозрачными (Л Витгенштейн «объекты прозрачны»), история – призрачной, а действительность – невзрачной. Глаз перестал выполнять оптическую функцию, единственный мир, что не дан, а задан, опять убежал за кулисы, и, как во времена наивного символизма, роза кивает на девушку, а девушка – на розу.
На большинстве научных конференций последних десяти лет нас не покидает ощущение присутствия при диалоге глухих. Так и кажется, что Некто, большой и угрюмый, читает какой-то бесконечный доклад – не очень ясно, про что, кому и зачем, он озвучен разными голосами, но не голосами-позициями, а мертвой фонетикой рефрена Люди то ли разучились, то ли не хотят слушать друг друга. А может быть, все это – кажимость от всеобщего хронического пустословия или, как говаривал А. Платонов, «от общей трудности жизни»?
На этом фоне возникла специфическая ностальгия по привычным типам устного дискурса, который искони был присущ русской философской культуре и который свободно осуществлялся за рамками печатного слова. У этого вида вербального поведения нет точного имени, зато есть масса приблизительных синонимов, диспут, агон, спор, беседа, болтовня и прочие маркеры свободного диалога «Человек говорящий» накопил немалый опыт обмена продуктивными репликами – от сократических симпосионов и библейской тяжбы Иова с Богом до чаадаевско-тютчевского или вяч.ивановского салонного краснобайства, от многомудрых дебатов на Востоке и азартной полемики на Вселенских Соборах до Интернет-конференций
Общение=говорение в глазах философии XX в. институирует наше существование «Быть – значит общаться», скажет М. Бахтин; «Философия – это мышление вслух», скажет М Мамардашвили. Заметим, традиционные ценности и эпистемы молчания (меж людьми), как и «возлюбленная тишина» (в премирной глубине Божьего мира) не отрицаются. Наконец, множество фактов твердят нам о том, что философия XXI в. обещает быть философией диалога, а значит – долгожданной компенсацией всех видов неуслышанности. Все мы вышли из кухонных споров, как тот неутомимый эпистолярный болтун – Макар Девушкин, что, кстати, тоже на (чужой) кухне обрел свой «всего только угол».
Но давайте вспомним, что основные трактаты XVII-XIX вв. написаны в форме «философических писем», у них есть читатели и собеседники, адепты и оппоненты. Может быть, сказалось тут влияние литературной классики: эпистолярного романа или лирического послания, – но дело не в этом. «Письмо к другу» удержало в России свои диалогические преимущества и даже расширило свои жанровые возможности на фоне новых средств коммуникаций. А. Блок еще умел писать письма, но при этом боялся говорить по телефону, а Б. Пастернак, великий мастер письменного диалога, мог заслать его поэтику напрямую в телефонный провод, на другом конце которого Сталин держал трубку. Между Письмом одиннадцатым – «Дружба» – «Столпа и утверждения Истины» отца Павла Флоренского (1914) и «Письмами о любви» Т. Горичевой и А. Кузнецовой (1998) проблемная дистанция еще меньше, чем хронологическая.
Десять «Бесед», предъявленных читателю петербургскими собеседниками, – это десять встреч в пространстве поиска истины, и не истины даже, но пути к ней Никто из участников диалога не торопится к формуле окончательного вывода и последнего решения, а пытается с предельным вниманием выслушать другого, как и положено по уставу сократического агона. Книга уже этим поучительна: верно настроенным слухом, открытой обращенностью к лицу и личности говорящего, полной проговоренностью своего мнения и спокойной уверенностью в том, что меня, наконец, выслушали. И даже поняли то, что я и сам в своих репликах не до конца уяснил. Эти беседы ценны для нас не только насыщенной компетентностью «разговоров запросто», но и экзистенциальной напряженностью как самих диалогов, так и ситуации, в которую они вписаны. Как голый Адам на голой земле, современник рассветного Тысячелетия принужден заново открыть для себя онтологию ужаса и метафизику странствий, смыслы насилия и аспекты сакрального, полномочия Эроса и масштабы трагического, различить символическое, реальное и реальнейшее, определиться в презумпции Другого и осознать границы своей личности.
Проговаривая эти сюжеты, авторы-собеседники не оставляют в покое читателя мы тоже вовлечены в многосторонний полемический обмен – не как объекты агитирующего зазыва или жертвы философической приманки, но на правах полномочного субъектного присутствия, оглядки и творческой участности. Голосовая инициация проблемы тем выгодно отлична от всякой печатной, что первой дана возможность немедленной актуализации в немедленном контексте. И еще – в ней есть заслуженная доля ненаказуемости П. Чаадаева наказали не за то, что он так думал и говорил, а за то, что он это напечатал. Теперь, когда (опять – на время?) устное слово приравнено к печатному счастливым условием жанра беседы, наши нынешние собеседники обращаются к нам всем богатством своих интонаций.
Авторы возвращают нас в нашу голосовую детскую, к колыбельным почти временам доброжелательного соперничества, когда мы, на долгие годы оглушенные с тяжким грохотом рухнувшим железным занавесом, пытались, напрягая слух, различить гаснущие голоса. Речь идет не только о голосах тех, кто уехал, кого уехали, кто ушел навеки; нет, мы говорим и о тех голосах некогда живой истории русской мысли, которые у нас украли, недодали, забили глушилками.
Стоит надеяться, что книга выполнит роль диалогической терапии для молодого читателя, а для тех, кто постарше, послужит уроком творческой ностальгии. «Русский человек, – говорил герой А. Платонова, – может жить туда и обратно, и в обоих случаях остается цел». Наши авторы принадлежат разным поколениям, но, как видите, традиция ментальной выживаемости никуда не делась. Дабы убедиться в этом, вслушаемся в голоса наших спорщиков – коллег и друзей – и, если нам позволят, поучаствуем в их встречах.
От редактора
Эта книга основана на материалах бесед, происходивших в Санкт-Петербурге на протяжении 1999 и 2000 годов. Выбор жанра беседы требует небольшого пояснения. В первую очередь, он связан с усталостью от перепроизводства текстов, которые в современной культуре возрастают в геометрической прогрессии, заполоняют собой пространство ноосферы и оказываются практически единственным способом легитимации слова. Для нынешнего типа философствования текст вообще представляется незаменимой возможностью говорить, что называется, по существу дела. Однако участники предлагаемых здесь вниманию читателей бесед так не думают. Для них беседа выступает едва ли не последним в ряду оставшихся возможностей шансом говорить от первого лица, причем имея перед собой не молчащую пустоту, а лицо другого, лицо собеседника. Они воспринимают прямой разговор как наиболее аутентичный путь самой философии, которая в принципе не способна реализовать себя в среде монологического дискурса. Наиболее подходящим эпиграфом к этим беседам могли бы стать слова Гельдерлина: «Мы суть разговор». В самом деле, речь идет о попытке возобновить для себя собеседование как наивернейший способ размышлять ответственно.
Беседа 1 От Эдипа к Нарциссу
Татьяна Горичева: В нашей первой беседе я хотела бы остановиться на вопросе, который меня очень сильно волнует как человека, живущего в разных мирах – одновременно и разновременно, – как все мы теперь живем в разных мирах и в одном мире на вопросе перехода от Эдипа к Нарциссу. Многие социологи и философы, в том числе Лакан, Липовецки, Жижек, говорят о том, что закончилась эпоха Эдипа как эпоха табу, символических запретов, норм, которые должны строго соблюдаться. Сейчас наступает эпоха, когда все разрешено. Психоаналитики объясняют своим пациентам и на Западе, и у нас в России делайте все, что хотите. Это естественно приводит к состоянию, когда человек ничего не хочет, просто не знает, чего хотеть. Ведь если нечто запрещено, то хочется этот запрет преодолеть и компенсировать. Теперь наступает время, когда все позволено. У Лакана встречается выражение «plus de jouissanse», показывающее, что наслаждение должно либо быть отрицаемо, либо прибавляться, иначе его просто нет (об этом хорошо говорит французское слово «plus», одновременно означающее отрицание и прибавление). Тем самым формулируется основной закон нашего существования, но он не действует в эпоху, когда все разрешено. Появляется Нарцисс, «черный квадрат», как выражается Слотердайк. Это человек потребляющий, у которого нет ни субъекта (субъект давно уже умер), ни субстанции (субстанция умерла еще раньше), ни воли, ни установки, ни тенденции, ни тактики. Этот человек – не только француз, немец, американец, это и русский человек. Он стремится к одной из двух вещей или к интенсивности саморазрушения, или к потреблению. Такой тип очень хорошо может объяснить ситуацию, когда наркотики означают все. Мы знаем, что начиная с одиннадцати лет, а то и раньше, огромная часть молодежи, даже где-нибудь у нас в Вологде, начинает употреблять наркотики. Наркотик – это абсолютно другое, и прежде всего другое самому тебе. Даже вино не есть абсолютно другое, вино – родное, оно соединяет сознание с подсознанием. Наркотик же разрушает все внутрипсихические связи. Многие психотерапевты пишут, что «черный квадрат», Нарцисс очень обидчив. Ибо он не знает, кто он такой, он ищет референт, за который можно уцепиться, и который был бы пределом его собственной инаковости. И он хватается за наркотик как крайнее другое. Я бы хотела начать разговор о существовании среднего человека в этом жестком самоотчуждении. Причем не по-гегелевски и не по-батаевски, а, скорее, по-лакановски, потому что у Лакана субъект зачеркнут, S пересекается вертикальной чертой, потому что существует через радикально другое. Конечно, радикально другое не в теологическом смысле, – ведь человек не трансцендирует в Бога, он трансцендирует разве что в наркотики.
Александр Секацкий: То, о чем вы, Татьяна, сказа ли, точно выражает вектор интеллектуальных предпочтении и, в частности, смену господствующей мифологической фигуры от Эдипа к Нарциссу. Вспомним, что до Эдипа был Прометей, олицетворявший героическую идею вызова богам, которая воплощена у Ницше в той мере, в какой этот вызов вообще имел смысл. Далее – Эдип, связанный с именем Фрейда, носитель неизбывной вины как первоочередного обстоятельства нашего бытия в мире. И, наконец, Нарцисс. Как верно отметила Татьяна, основным для Нарцисса является обида. Невроз вины сменяется неврозом обиды, мания величия оттесняет на второй план манию преследования. Нарцисс повсюду ищет знаки собственной признанности и, конечно же, без труда находит их. Современная товаропроизводящая цивилизация держится на поощрении и ублажении нарциссизма. Стоит лишь вслушаться в потоки струящейся всепроникающей рекламы, чтобы зафиксировать уровень лести, который и не снился, например, халифу багдадскому. Умные тефалевые сковородки думают о вас, крем заботится о вашей коже, и даже формула крема заботится о красоте прекраснейшего из смертных. Но самодостаточность черного квадрата не грозит Нарциссу: ему, как персонажу Макса Вебера, требуются все новые и новые подтверждения, и даже льстивые зеркала не поспевают за нетерпеливым желанием.
Однако принципиальный дефицит – это любящий взор действительного Другого. Другой был изгнан как нарушитель спокойствия, как диверсант, подрывающий мир аутоэротизма. Но с его изгнанием исчезло целое измерение бытия, определяющее подлинность Dasein, и у Нарцисса появляется неустранимая тоска по Другому. Тоска имеет два измерения. С одной стороны, Другого почти невозможно распознать, ведь все радикально иные культуры адаптированы к западной цивилизации, будь то африканские маски, индийские культы или ритуалы Вуду. Все они выставлены в витрине и снабжены ценниками. Поэтому ощущения барьера радикальной инаковости не возникает. Собственное, удвоенное, а затем и бесконечно размноженное отражение приводит к гиперинфляции: сказки Шахерезады не просто повторяются, они записаны на пленку, склеенную в кольцо. Казалось бы, воплощенная нарциссическая утопия. С другой стороны – полное одиночество, нет никого вокруг, только плодящиеся знаковые манифестации. Для преодоления инфляции смысла нужен Другой, причем не ручной персонаж с телеэкрана, а некто удаленный – как смертный персонаж от бессмертного Бога. Понимаете, должен быть тот, кто станет нас убеждать: да, ценности Запада прекрасны, а мы – совершенны, мы преодолели все трансгрессии и обезвредили их. Дрейф в вакуумном кольце наслаждения, где предусмотрено и фальсифицировано все, в том числе и собственная терпимость по отношению к ожидаемому другому.
Т. Г.: Мне понравилась мысль о том, что все экзотические культуры проглочены и переварены некой усредненной масскультурой. У меня в Швейцарии есть знакомые, которые объездили, наверное, уже сто стран, а недавно отправились в Австралию посмотреть на людоедов, которые, естественно, давно никакие не людоеды, но за большие деньги живут время от времени в первобытных хижинах и изображают из себя страшных каннибалов. Придумано это для развлечения туристов, жаждущих встречи с настоящей экзотикой. Однако ничего экзотического нет и в помине, мир навсегда утратил уникальное свойство необычного, рискованного и вызывающего. Начиная со времен Колумба и великих географических открытий, все и в самом деле является открытым. Но открытость эта особого рода, обратной своей стороной она имеет замкнутость мира в себе, отсутствие сакральной географии. При этом существует еще и тот момент, что подобное мультикультурное общество, дополняющее концепцию демократии, внутренне совершенно лживо. Оно сохраняет единство только на том основании, что все страны, культуры и народы воспринимаются очень поверхностно. Признается их оригинальность и специфика, признается, что негры должны быть черными, что они должны стучать в барабаны, но как только дело доходит до острых проявлений самобытности (например, до ношения платков мусульманскими девушками), европоцентризм дает сбои. Фактически мультикультурное общество не может существовать. Крайнее по времени тому доказательство – война на Балканах, наглядно продемонстрировавшая, что на самом деле признания автономности другого не происходит. Мультикультурность – ложь. И вот эта ложь, с одной стороны, уходит в New Age как абсолютно квазирелигиозное движение, где продают, скажем, какой-то магический песок с Амазонки за 600 долларов, или какие-нибудь псевдораритеты из Африки и других экзотических мест, оказывающие благотворное влияние на ауру, или что-либо подобное. Речь идет о поверхностном восприятии другого, о несерьезных играх с ним. С другой стороны, гораздо более мощная и непримиримая реакция на Мультикультурность представлена в фашизме. Первое, что делает фашизм – он возвращает другому всю степень его опасности, всю его ужасающую инаковость. Поэтому фашизм сильнее всех прочих идеологий обнажает ложь мультикультурного мира. Мы должны это четко понимать, потому что это имеет прямое отношение к нашей теперешней ситуации. У нас явственно нарастает тенденция к фашизму, мы это видим. Необходимо понимать, что в нем гораздо больше убедительности, чем в комфортабельном New Age. Я ни в коей мере не оправдываю и не защищаю фашизм. Все мы знаем, к чему он в конечном счете привел.
А. С.: Не кажется ли вам, Татьяна, что здесь возникает проблема того, подобает ли человеку жить в опасности, то есть можно ли обойтись без несчастного сознания, грубо говоря? Ведь Мультикультурность – это очередная попытка заглушить несчастное сознание, когда все радикально другое легко адаптируется в бесконечный имманентный дискурс, а внезапные провалы, которые могут быть совершенно чудовищны, связаны лишь с тем, что другой вдруг начинает вести себя, как неправильные пчелы у Винни-Пуха: вместо того чтобы усладить медом, он вонзает равнодушное жало в разросшийся орган сладострастия. Если человек, удостоверившийся в комфорте, отказывается от прививки опасности, от глотка радикально иного бытия, то он теряет нечто существенное. Происходит измельчение рельефа, не формируются чистые состояния души, такие как настоящий гнев, настоящая радость, настоящая ярость и т.д. Вместо этого идет всеобщая мешанина, полуфабрикат чувственности, который плохо поддается делению на субъекты. А тут прорастающие семена фашизма еще неотличимы от других форм радикального вызова, например, от батаевской трансгрессии, или вызова в духе де Сада. Ранний фашизм Эрнста Рема кажется предельно далеким от бухгалтерских расчетов Weltordnung. Между тем, фашизм Рема неизбежно переходит в фашизм Гитлера, так как страсть к опасности, к крови, к вызову закономерно сменяется страстью к геометрии. Вегетарианец Гитлер появляется на последней стадии духовного метаморфоза, когда кормовая база для штурмовиков (или поборников мировой революции) исчерпана. Фашизм в этом смысле все равно впадает в тоталитаризм, порожденный обществом, лишенным радикальной инаковости, утратившим ощущение Марко Поло, оказавшегося в Монголии. Это дивное ощущение уже не воспроизвести, потому что у нас все соединено коммуникациями и сохранилась лишь «Внутренняя Монголия».
Т. Г.: Есть еще один «фашистский» автор – Эрнст Юнгер, один из величайших писателей и мыслителей, скончавшийся совсем недавно. В свое время он быстро отошел от официальной версии национал-социализма. У него имеет место парадигма третьего пути, которую я предлагаю в общих чертах рассмотреть. Современный человек должен сознавать, что живет в ситуации абсолютной катастрофы. Большинство, естественно, тратит основные силы не на то, чтобы это осознать, а на то, чтобы убежать от реальности. Реальность катастрофична и ужасна. Это первый тезис. Второй тезис гласит, что необходимо найти себя в какой-либо великой традиции. Например, я – православный человек, я живу в великой традиции, которая меня спасает. Но даже православие скатывается сейчас в такое мещанство, такую невротичность, что деваться подчас просто некуда. Тогда помогает третий момент – героизм. Пребывая в великой традиции, ты должен быть героем, рисковать жизнью, потому что без риска не бывает духовного пути вперед. Иоанн Лествичник советовал ночью ходить на кладбище, чтобы ужасаться, но наша жизнь и без того доставляет состояния ужаса. Для всякого познания необходимо мужество и смирение. Я говорю об Эрнсте Юнгере, хотя и сама придерживаюсь подобной парадигмы пути, потому что без личной биографии (большинство людей живет без биографии, как пыль, как зомби) нет пути. Мне кажется, что героизм совершенно необходим нашему времени. А что касается фашизма, Бердяев обратил внимание на то, что у немцев за их добропорядочностью, любовью к стерильной организации и жесткому Ordnung скрывается страх хаоса. Недаром многие гениальные немцы сходили с ума. Сколь бы резким ни выглядело такое утверждение, но немцы – слишком малоцивилизованные люди, поэтому фашизм быстро перешел у них от Ordnung к какому-то чудовищному и кровавому безумию.
А.С.: Мне очень понравилась мысль о том, что все сделанное упрощенно создает даже не иллюзию вместо реальности. Иллюзия все-таки захватывает нас, порою до полной гибели всерьез. А тут перед нами иная вещь. Синтезированный фармакон упрощенности основан, если угодно, на гегелевском Aufhebung, снятии, когда с помощью рефлексии можно легко избавиться от всех противоречий, стоит лишь произвести такую и такую-то процедуру. Это пресловутое Aufhebung внедрено в большинство современных интеллектуальных стратегий и культурных жестов. Однажды мне довелось побывать в Гамбурге с радикальными художниками стран Северной Европы. Я поднимался по трапу на палубу корабля, а навстречу мне шло несколько раскрашенных немецких панков. Они начали спускаться раньше, чем я – подниматься, но вдруг в них сработала истинно немецкая культурность, и они отступили назад, чтобы меня пропустить. И тогда я понял, что можно сколько угодно имитировать грозного панка, но где же сама его сущность? Так же обстоит дело и с гегелевским Aufhebung. Все искусство рефлексии, бесконечный диалектический аттракцион, которым тот же Деррида владеет в совершенстве, доказывает, что возможно любое частичное трансцендирование, но невозможно трансцендирование полное. Всякий раз мы находим и выносим за скобки нечто принципиальное, дабы описать ту или иную философию. Получается, что если мы сумеем вычленить базовую фигуру или инфраструктуру, то философия сильного предшественника окажется перед нами как некая область интерпретации нашей выделенной установки. Мы снова сталкиваемся с вариантом Aufhebung, где на интеллектуальном уровне осуществима любая трансгрессия. Но мы ведь знаем, что интеллектуальная трансгрессия еще не есть подлинная трансгрессия. Несмотря на это, мы прекрасно научились согреваться у очага, нарисованного на холсте, висящем в каморке старого шарманщика Карло. Время от времени мы даже догадываемся о заветной дверце, однако нос Буратино не является инструментом философа. Философ всматривается в источник света, вслушивается в гул бытия, в потрескивание нарисованных поленьев и не спешит уткнуться в них носом. Блестящий диалектический аттракцион позволяет наращивать эрудицию, но в конце концов некая просветленность или, как вы говорите, ужас (любое чистое состояние) влечет к себе, требуя присутствия. Здесь мы, кажется, приходим к странному ощущению, что вновь открывается горизонт теологии или опыта веры. Опыта, который прежде всего утверждает следующее: существуют состояния души и модусы бытия, которые в принципе не спасаемы. Это понял Кьеркегор. Почти все, что связано с уровнем онтического, как говорит Хайдеггер, вся наша зацикленность на заботе, вся наша лень, которая заставляет заниматься ерундой вместо того, чтобы решать главные вопросы, – это вещи, которые неспасаемы, хотя они вполне комфортны. Возможно, и комфорт относится к числу неспасаемых вещей. А существуют краткие прозрения, исполненные ужаса и трепета или, может быть, внезапной уверенности в собственном избранничестве. Они могут быть ложными, но только они могут быть и спасаемыми. Если уж Господь окликает, то требует жертвоприношения первенца или иного отречения, а не логически выверенных доказательств своего бытия. Только таким человек интересен и Богу, и самому себе. Самое страшное, в чем Нарцисс, зацикленный на бесконечном саморазглядывании, боится себе признаться – что он, в сущности, ничуть себе не интересен. Даже для элементарного акта аутоэротизма необходимо реальное или воображаемое зеркало. Погружаясь в эротические грезы, Нарцисс видит себя глазами восхищенного и любящего Другого. Лишь эта дистанция взора гарантирует ему минимально безопасное наслаждение, а значит и собственное бытие.
Т. Г.: Как отклик на сказанное сейчас я хотела бы вспомнить мысль Делеза о том, что раб и господин местами не меняются. В этом смысле не существует никакой диалектики. Если же такое высказывание кажется слишком резким, то можно уточнить, что по отношению к диалектике существует более фундаментальная вещь. Это иерархия. Ницше говорит о пафосе дистанции, об аристократизме, но не крови, а судьбы. Существует своего рода трагический аристократизм, когда человек в своей жизни движим amor fati, любовью к судьбе. Признаюсь, что эта идея является крайне важной для меня, в силу чего, наверное, Ницше и стал самым близким мне философом. В наше время мы философствуем после Ницше или по Ницше. Я читаю его переписку, которая издается в Германии. В ней он открывается как очень радостный человек. Когда вышли ужасные рецензии на «Рождение трагедии», то мыслитель на них даже не откликнулся. Это существенно. Ему нужны были друзья, любовь, аура обожания, творчества, потому что он был одинок. Но он не реагировал и не защищался. В подобной избирательности я вижу чувство иерархии. А возвращаясь к снятию, Жижек пишет, что у Гегеля все развитие его диалектики заканчивается фигурой Наполеона. Загадка огромных гегелевских томов – Наполеон. Не потому ли как человек нам интересен Кьеркегор или Ницше, а не скучный буржуазный Гегель? По словам Энгельса, абсолютный дух абсолютен только потому, что о нем абсолютно нечего сказать. Меня печалит, что в России многие остановились на Гегеле или на гегельянстве в какой-то его форме, то есть на диалектике.
А. С.: У меня возник вопрос, на который именно вы, Татьяна, смогли бы ответить. Речь идет о передаче традиции. В этой связи возможна иллюзия следующего рода: для того чтобы быть философом, совсем не обязательно хотя бы раз в жизни посетить университет, – сиди себе в какой-нибудь глуши, читай великие книги, размышляй над ними. Между тем, известно, что в рисунке есть особое понятие – «поставить руку», то есть совершенно необходим мастер, должна иметь место живая передача традиции. Мы знаем, как реально развивалась философия. Гуссерль был учеником Брентано, Хайдеггер – учеником Гуссерля, и т.д. При всей важности их обращения к Аристотелю и Платону, существовал момент личного контакта, отношение «учитель – ученик». Грубо говоря, был эквивалент тусовки. Вам, Татьяна, довелось переписываться с Хайдеггером и лично беседовать со многими известными философами. Как вы полагаете, почему момент соприсутствия так важен? Почему нельзя сидеть на утесе, свесив ноги, читать Аристотеля и гениально мыслить, а непременно требуется этими ногами ходить, быть то учителем, то учеником?
Т. Г.: Я могу ответить на этот вопрос следующим образом, сегодня мыслящему человеку нужен весь мир, как и всегда он был совершенно необходим любому, для кого философия стала делом жизни. Глубокий провинциализм, в котором у нас до сих пор пребывает подавляющее большинство тех, кто причисляет себя к мыслящей интеллигенции, сковывает символический ряд нашей философии. Иначе говоря, не позволяет развиться языку, в котором любая мысль укоренена как в своей почве. Ведь язык философии не формируется на пустом месте. Вы не можете мыслить так, как если бы никто до вас не мыслил, более того, вы вряд ли сможете это делать, если рядом с вами нет того, кто способен разделить вашу мысль. Как понять язык человека, мыслящего в полной самоизоляции? Кроме того, философия несет в себе трагическое начало. Философ не имеет права не быть личностью, а личностью становятся через встречу, – Ereignis, а по-русски событие или приобретение (Er-eignis). Личность гипостазируется через лицо другого.
Даниэль Орлов: Мы начали сегодня наш разговор с того, что констатировали смену главного героя как на сцене современной культуры в целом, так и в декорациях нынешнего способа мышления в частности. Эдип уступил господствующие позиции Нарциссу. Между тем, если мы ограничимся разговором об этих персонажах, то невольно попадем в жесткие рамки психоаналитического дискурса, имплицитно подтверждая, что даже со сменой главного героя культуры и философской сцены психоанализ продолжает оставаться господствующей дисциплиной духа. Однако это так лишь отчасти. Поэтому я попробую коснуться той же ситуации, но несколько иначе ее персонифицировать. Делез рассуждал о смене психоаналитического персонажа шизоаналитическим: на место интеллигента, пассивно дремлющего на кушетке, копающегося в своей душе и бесконечно воссоздающего свое «я» (Фрейд замечал, что где было id, должно возникнуть ego), пришел прогуливающийся шизофреник, который свободен и деятелен. Видите ли, я подозреваю, что Нарцисс – это наилучшая фигура для того, чтобы показать, что путь от id к ego в конечном счете оказывается несостоятельным. На последней станции этой траектории можно встретить кого угодно, но только не «я». Наверное, там много такого, что можно принять за «я», с чем оно глубочайшим образом связано, во что смотрится, но в чем себя не узнает. Именно как Нарцисс. Или как шизофреник. Очевидно, что если мы еще и продолжаем сейчас говорить в терминах психоанализа, то делаем это уже за пределами первичного психоаналитического проекта по реконструкции «я». Воссозданными оказываются инфраструктуры, – будь то познания или бытия, – но не присутствие «я» в этих инфраструктурах. Более того, как раз присутствие остается в высшей степени проблематичным. Поэтому когда о нем поднимается вопрос, то, как сказал Александр, у «я» возникает насущная потребность обращаться за подтверждением своего существования к реальности Другого. И здесь возникает основная проблема. Что означает влюбленный в себя Нарцисс? Во-первых, то, что он не способен выбрать Другого, завершив бесконечный поиск желания и сформировав законченный объект. Во-вторых, то, что в силу первого Нарцисс не может выстроить свой собственный образ, который он не путал бы с кем и чем угодно. «Стадия видео» Бодрийяра ярко демонстрирует заключительный этап эпохи Нарцисса. Вот Нарцисс сидит на берегу ручья и глядится в зеркальную гладь потока. Что он там видит? Он видит свое отражение, в котором себя не узнает и в которое влюбляется. Но важно не упустить многократное преломление его образа. Ведь непосредственно Нарцисс себя не видит. Черты образа, который он полюбил, сложились, как мозаика, из различных фрагментов. Он видит это небо, это солнце, эти облака, эти ветви деревьев, склоняющиеся к воде, в которые он бесконечно влюблен. Его образ слит со многими вещами, более того, он существует ровно постольку, поскольку существуют они. Я согласен с Александром в том, что Нарцисс ничуть себе не интересен. Ему скучно наедине с собой. Он не существует вне чудовищной распыленности или рассредоточенности по собственной карте значений, на которой представлены объекты, принципиально не артикулируемые в фигуре реального Другого, но при этом и не собираемые в форме аутентичного бытия, о котором можно было бы говорить как о самодостаточном и самодовлеющем модусе присутствия. Но лишь когда тебе не скучно пребывать наедине с самим собой, тогда ты и способен ощутить действительный интерес к Другому, который в этом случае перестает быть чисто знаковым персонажем.