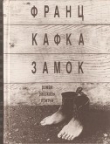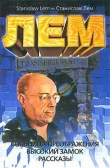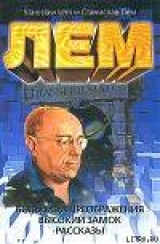
Текст книги "Больница преображения. Высокий замок. Рассказы"
Автор книги: Александр Беляев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
– Да, это бы лучше всего… научился бы чему-нибудь. А здесь… – Стефан махнул рукой.
– Я собирался сказать тебе раньше, да случая не было. Так вот, наш младший персонал в принципе совершенно неквалифицированный. Ну, и действует немножко по-деревенски, грубовато. Бывает свинство и похуже.
Стефан поддакнул: вот, санитарка едва не ошпарила больную кипятком.
– Да, случается. Надо смотреть в оба, но в принципе… сам понимаешь, как плохо с людьми. Надо быть любителем весьма своеобразных ощущений, чтобы…
– Это маргинальная часть интересной проблемы, – сказал Стефан. Он почувствовал желание поговорить и одновременно нашел повод, чтобы не возвращаться в палату. – Свобода выбора рода деятельности вроде бы и хороша, – продолжал он, – но, собственно, лишь закон больших чисел гарантирует, что найдутся желающие для выполнения всех важных в жизни общества функций. По крайней мере теоретически возможно, что через несколько лет никто не захочет стать, например, канцеляристом… и что тогда? Принуждать или как?
– Однако до сих пор это как-то утрясалось, и механизм самообеспечения общества пока не подводит… Кстати, знаешь, что ты затронул одну из любимейших тем Пайпака? Надо ему это сказать. Он любит порой устраивать нам лекции. Ведь мы тут повышаем квалификацию, а бывает, даже развлекаемся. – Сташек обнажил в улыбке желтые от никотина зубы. – Это счастье, утверждает он, что люди так мало образованны… «Сплошь – университетские профессора. Это было бы ужасно, уважаемые кол… коллеги, кто бы подметал улицы?!» – затянул вдруг Сташек, неплохо подделываясь под дребезжащий голос старика.
Стефану и это наскучило.
– Прогуляешься со мной в палату? Хочу забрать истории болезни к себе. Казалось бы, все условия, да не смогу здесь писать, дверь за спиной.
– Ну и что?
Стефану пришлось сказать все.
– Мне чудится, их глаза колют меня в спину сквозь замочную скважину.
– Завесь дверь полотенцем, – так искренне и быстро вырвалось у Сташека, что Стефан заподозрил, что его друг пережил то же самое, и почувствовал себя капельку уверенней.
– Нет, так лучше.
Они направились в дежурку, для чего надо было миновать три женские палаты. Высокая блондинка с изможденным испуганным лицом поманила Стефана в сторонку – так подзывают не врача, а незнакомого человека на улице, прося о помощи.
– Вижу, вы новый доктор, – зашептала женщина, тревожно озираясь. – Уделите мне пять минут… ну, две… – проговорила она умоляюще.
Тшинецкий поискал взглядом Сташека; тот, устало улыбаясь, поигрывал резиновым диагностическим молоточком.
– Доктор… я абсолютно нормальная!
Поскольку теоретически Стефан знал, что десимуляция – классический симптом некоторых помешательств, слова больной его не очень-то тронули.
– Побеседуем, сударыня, когда я буду делать обход.
– Это точно, да? – обрадовалась она. – Вижу, что вы, доктор, понимаете меня… – И зашептала ему в самое ухо: – Ведь тут сплошные психи. Сплошные, – повторила она с нажимом.
Это заявление и заговорщическое подмигивание удивили его – кому же еще находиться в подобном заведении? Вдруг, уже шагая за Сташеком, он сообразил: она имела в виду всех, и врачей тоже! Значит, и Носилевскую? Попытался очень осторожно выведать, не считает ли Сташек ее «странной», но тот фыркнул ему в лицо:
– Она?! Эта очаровательная девушка?! – и принялся с жаром объяснять, какая она умная да из какой семьи.
Кшечотек прямо-таки захлебывался. «Втюрился», – подумал Стефан и словно по-новому посмотрел на друга; на его подвижном кадыке заметил несколько недобритых волосков, похожих на крохотных червячков, увидел безобразные зубы, набирающий силу прыщ и волосы, поредевшие спереди: там, где еще недавно отливала угольной чернотой прядь, едва виднелось прозрачное облачко. «Никаких шансов», – дисквалифицировал его Стефан.
Самого его она ничуть не привлекала. Хороша, очень хороша, глаза необыкновенные, но есть что-то отталкивающее.
По дороге Сташек вспомнил о Секуловском и решил продемонстрировать его Стефану.
– Потрясающе умный тип, но, понимаешь ли, сумасброд. Приятно с ним беседовать, только смотри не ляпни чего-нибудь. Веди себя, как в светском обществе, понял? Это его слабость.
– Учту, – пообещал Стефан.
Направляясь в корпус выздоравливающих, они вышли из галереи. Пасмурное небо распогодилось, ветер проделывал огромные дыры в серой вате облаков. Клочья тумана плавали над самыми деревьями.
У корпуса какой-то человек в короткой куртке тянул тачку с землей. Это был еврей с лицом, темным не от загара и основательно, почти до глаз заросшим.
– Добрый день, господин лекарь, – обратился он к Стефану, не обращая внимания на Сташека. – Вы меня не припоминаете, господин лекарь? Да, вижу, вы меня забыли.
– Не знаю… – проговорил Стефан, останавливаясь и слегка кивая в ответ.
Сташек едва заметно улыбнулся и стал ковырять носком ботинка втоптанные в грязь стебли.
– Меня зовут Нагель, Соломон Нагель. Я для вашего папы работал по металлу, припоминаете?
Теперь Стефан начал догадываться. Действительно, у отца был кто-то вроде подручного – они иногда вместе запирались в мастерской, строя свои модели.
– Вы знаете, кто я тут? – продолжал Нагель. – Я, видите ли, здесь первый ангел.
Стефану стало не по себе. Нагель подошел к нему вплотную и горячо зашептал:
– Через неделю я буду на большом совещании. Сам Господь будет, и Давид, и все пророки, архангелы и кто хотите. Со мной там очень считаются, так, может, вам, господин доктор, что-нибудь нужно? Скажите, я устрою.
– Нет, ничего мне не нужно…
Стефан схватил Сташека за руку и потянул к двери. Еврей, опершись о лопату, проводил их взглядом.
– Для непосвященных лечебница – невесть что… – разглагольствовал Кшечотек, когда они свернули в длинный, облицованный желтым кафелем коридор.
За лестничной площадкой проход раздваивался. Влево шел коридор без окон, освещенный маленькими лампочками; чем-то это напоминало лес. Пока они шли, темнота через равные промежутки накрывала их.
– …Между тем симптомы поразительно стереотипны. Видения, галлюцинации, такая стадия, эдакая стадия, двигательное возбуждение, потеря памяти, кататония, мания – и шабаш. А теперь – внимание!
С этими словами Сташек остановился у обыкновенной, запирающейся на ключ двери, над которой горела матовая лампочка.
Они вошли в небольшую, но казавшуюся просторной комнату: заправленная кровать у стены, несколько белых стульев и стол, на котором возвышалась аккуратная стопка толстых книг. На полу валялось множество скомканных листов бумаги. Человек в фиолетовой, в серебряную полоску, пижаме сидел спиной к вошедшим. Когда он повернулся, Стефан вспомнил фотографию в каком-то иллюстрированном журнале. Это был рослый, можно сказать, красивый мужчина, хотя подкожный жирок уже начинал размывать чистоту линий его лица. Под бровями, лохматыми и припорошенными сединой – так же, как и виски, – горели глаза, большие и, казалось, не мигающие, но живые, как бы чуть обленившиеся в затворничестве. Бесцветные сами по себе, они подлаживались под тона окружения. Теперь они были светлыми. Кожа поэта, изнеженная долгим его пребыванием взаперти, была совсем прозрачной и провисала под глазами едва заметными мешочками.
– Разрешите вам представить моего коллегу, доктора Тшинецкого. Он приехал поработать у нас. Великолепный партнер для дискуссий.
– Если и партнер, то лишь универсальный дилетант, – произнес Стефан, с удовольствием отвечая на теплое, короткое рукопожатие Секуловского.
Сели. Наверное, выглядело это довольно странно: двое в белых халатах, из карманов которых неделикатно выглядывали стетоскопы и диагностические молоточки, и пожилой господин в экзотической пижаме. Поболтали о том о сем; наконец Секуловский заметил:
– Медицина может быть недурным окном в беспредельность. Порой я жалею, что не изучал ее систематически.
– Перед тобой выдающийся знаток психопатологии, – сказал Кшечотек Стефану; тот заметил, что его друг более сдержан и официален, чем обычно.
«Пыжится», – подумал Стефан. Вслух он сказал, что никто еще не написал романа о людях их профессии, а ведь кто-то мог бы стать настоящим исследователем этой сферы, нарисовать верную ее картину.
– Это дело копиистов, – небрежно, хотя и учтиво, усмехнулся поэт. – Зеркало на проселочной дороге? Что тут общего с литературой? Если так подходить, господин доктор, то роман – вопреки мнению Виткаци[10]10
Виткаци (псевдоним Станислава Игнацы Виткевича, 1885–1939) – польский писатель, художник, философ.
[Закрыть] – это искусство подглядывания.
– Я имел в виду всю сложность явления… метаморфозу человека, который вступает в университетские стены, зная людей лишь со стороны их кожного покрова и, возможно, слизистой оболочки, – Тшинецкий улыбнулся, ибо это должно было сойти за двусмысленность, – а выходит… врачом.
Это прозвучало идиотски. Стефан с досадой и удивлением обнаружил, что не способен достаточно быстро формулировать мысли, подбирать слова и смущается, как школяр перед учителем, хотя никакого почтения к Секуловскому не испытывает.
– Мне кажется, что о своем теле мы знаем не больше, чем о самой далекой звезде, – негромко заметил поэт.
– Мы познаем законы, которым оно послушно…
– И это в то время, когда чуть ни на каждый тезис в биологии есть свой антитезис. Научные теории – это психологическая жевательная резинка.
– Но позвольте, – возразил уже несколько задетый Стефан, – а как вы обычно поступали, когда заболевали?
– Звал врача, – улыбнулся Секуловский. Улыбка у него была по-детски открытая. – Но лет в восемнадцать я понял, какое множество тупиц становится врачами. С тех пор панически боюсь заболеть: разве можно исповедоваться в своих постыдных слабостях перед человеком, который глупее тебя?
– Иногда это лучше всего; неужели вас никогда не тянуло пооткровенничать с первым встречным о том, что вы бы утаили от самых близких?
– Кто же, по-вашему, может быть «близким»?
– Ну, хотя бы родители.
– Кто ты такой? Маленький поляк, – изрек Секуловский. – Это родители-то – самые близкие? Почему не панцирные рыбы? Ведь они тоже были звеном в эволюции, как учит ваша биология; следовательно, нежность должна распространяться на все семейство, включая ящеров. А может, вы знаете кого-нибудь, кто зачинал ребенка, предаваясь трогательным мыслям о его будущей духовной жизни?
– Ну а женщины?
– Вы, наверное, шутите? Оба пола взаимодействуют по причинам довольно маловразумительным; по всей видимости – это результат того, что когда-то какой-то комочек белка чуток перекривился, тут что-то убавилось, там выпятилось, ну, вот и возникли какие-то впадины и соответствующие им выпуклости, но чтобы отсюда начался путь к близости? Разумеется, духовной… Близка ли вам ваша нога?
– Какое это имеет… – попытался возразить Стефан. Он видел уже, что сдает; Секуловский словно меткими выстрелами дырявил разговор.
– Все имеет. Нога, конечно, ближе, ибо вы можете прочувствовать ее двояко: первый раз с закрытыми глазами, как «осознанное чувство обладания ногой», а второй раз, когда на нее взглянете, коснетесь ее, – иными словами как вещь. Увы, любой другой человек всегда вещь.
– Это чистейший абсурд. Не хотите же вы сказать, что у вас никогда не было друга, что вы никогда не любили?
– Ну, вот мы и приехали! – закричал Секуловский. – Разумеется, все это было. Но близость-то тут при чем? Никто не может быть мне ближе, чем я сам, а я порой так далек от самого себя…
Поэт прикрыл глаза; сделал он это с таким усилием, словно отрекался от всего мира. Их беседа походила на блуждание в лабиринте. Стефан решил взять дело в свои руки и выложить самое заветное. Можно будет позабавиться.
– Мы говорили о литературе. Вы слишком односторонне выхватываете слова и переиначиваете подробности…
– Валяйте смелее, – поощрил его поэт.
– Между тем художественное произведение – дитя традиции, а талант – умение нарушать таковую. Я приемлю не только реализм; хорош любой литературный стиль, если только автор хранит верность внутренней логике произведения: кто однажды заставил героя пройти сквозь стену, тот должен делать это и дальше…
– Извините, но… зачем, по-вашему, существует литература? – осведомился Секуловский тихо, словно сквозь дрему.
Стефан еще не кончил свою мысль, и вмешательство поэта совершенно сбило его с толку, он потерял нить.
– Литература учит…
– Да-а-а? – протянул поэт. – А чему учит Бетховен?
– А чему Эйнштейн?
Стефана охватила досада, граничащая со злостью. Секуловского явно перехвалили. Чего ради он должен его щадить?
Поэт тихо смеялся, очень довольный.
– Естественно, ничему, – сказал Секуловский. – Он забавляется, дорогой мой. Только не все об этом знают. Если давать собаке колбасу, зажигая при этом лампу, через некоторое время собака начнет выделять слюну, увидев свет. А если человеку показывать чернильные каракули на бумаге, немного погодя он скажет, что это – модель беспредельности Вселенной. Все это – физиология мозга, дрессировка, не более того.
– А что является колбасой для человека? – быстро спросил Стефан, ощущая себя фехтовальщиком, который нанес точный удар противнику. Но Секуловский не замешкался с ответным ударом.
– Эйнштейн – колбаса или еще какой-нибудь достойный авторитет. Разве математика – не разновидность интеллектуальных пятнашек? А логика, эти шахматы со строжайшими правилами? Это же как детская игра с веревочкой, которую двое ловко снимают с пальцев, всячески переиначивают, а под конец возвращаются к исходной точке. Известно ли вам доказательство Пеано и Рассела,[11]11
Пеано Джузеппе (1858–1932) – итальянский математик. Рассел Бертран (1872–1970) – английский философ и математик.
[Закрыть] что дважды два – четыре? Оно занимает печатную страницу алгебраических формул. Все развлекаются, и я развлекаюсь. Может, вы видели мою пьесу «Сад цветистый»? Я назвал ее химической драмой. Цветы – это бактерии, поскольку бактерии – растения, а сад – человеческое тело, в котором они размножаются. Там идет ожесточенная борьба между туберкулезными палочками и лейкоцитами. Раздобыв бронежилеты из липидов, некое подобие шапки-невидимки, бактерии объединяются под водительством сверхмикроба, побеждают армию лейкоцитов, и перед ними вот-вот должно открыться благостное и светлое будущее, но вдруг сад умирает у них под ногами, то есть гибнет человек, и бедные растеньица вынуждены умереть вместе с ним…
Стефан не знал этой драмы.
– Извините, что говорю о себе. Но в конечном счете любой из нас является неким проектом пупа земли, да только не всегда добротно выполненным. Много, много халтуры в человекопроизводстве. Ну а мир, – тут он усмехнулся, глядя чуть пониже окна, словно заметил там нечто забавное, – это скопище самых фантастических чудес, обыденность которых ничего не объясняет… Разумеется, проще всего притворяться, что ничего не видишь, и то, что есть, оно есть – и точка. Я так и поступаю по будням. Но этого слишком мало. Не помню точно цифр (память последнее время подводит), но я читал, сколь маловероятно возникновение живой клетки из сонмища атомов… примерно один шанс на триллион. Затем еще нужно, чтобы эти клетки в количестве скольких-то там миллиардов соответствующим образом сгруппировались, учреждая тело живого человека! Каждый из нас – облигация, на которую выпал главный выигрыш: несколько десятков лет жизни, великолепной забавы. В царстве полыхающих газов, раскручивающихся до белого каления туманностей, трескучей космической стужи появился выброс белка, студенистой массы, стремящейся немедленно обратиться в насыщенные бактериями испарения и гниль… Сотни тысяч крючков-уловок удерживают этот диковинный всплеск энергии, который, как молния, рассекает материю на бытие и гармонию; узел пространства, ползающий в пустоте, и зачем? Затем, чтобы чей-то глаз подтвердил существование неба? Глаз, вы понимаете? Вы когда-нибудь задумывались, почему облака и деревья, золотисто-коричневые осенью, бурые зимой, этот пейзаж, преображаемый временами года, почему все это дубасит нас своим великолепием, как молотом, – по какому праву? Ведь мы должны быть черной межзвездной пылью, клочьями туманности Гончих Псов; ведь нормой является гул звезд, метеоритный поток, бездна, тьма, смерть…
Секуловский устало откинулся на подушки и глухим, низким голосом продекламировал:
– Так что же для вас литература? – решился, нарушив долгое молчание, спросить Стефан.
– Для читающих – попытка забыться. А для творца – попытка обрести спасение… вместе со всеми.
– Ваш мистицизм…
Стефану определенно не везло в разговоре: он не успел выложить самые веские козыри, так как Секуловский фыркнул и соскочил со своего конька – бесконечности.
– Я – мистик? Кто это вам сказал? У нас едва кто-нибудь напечатается раза четыре, ему тут же навешивают ярлык прямо-таки с формулировкой, подходящей для надгробия: «тонкий лирик», «стилист», «жизнелюб». Критики, которых я некогда окрестил кретинами, это – врачи литературы, ибо подобно вам ставят липовые диагнозы, тоже знают, как должно быть, и тоже абсолютно не способны помочь… Превратили меня в мистика насильно, и кто? – провонявшие клопами типы, хамы, остолопы, и вот еще одна странность из миллиона других: имея мозг, якобы аналогичный моему, можно думать как бы кишечником.
– Наша беседа несколько бессистемна – не диалог, а двойной монолог с перевесом в вашу пользу, – сказал Стефан. Он решил поднапрячься и мощным ударом свалить Секуловского. Он уже совершенно забыл о своей медицине. – Я ведь знаю ваши сочинения. Так вот, вы намекаете на существование иной яви, нежели «Явь Бытия». Описываете несуществующие миры, хотя и правдоподобные, – что-то вроде отрицательной кривизны Римановых пространств… Но ведь и мир, который нас окружает, довольно интересен, как вы сами утверждаете. Почему же вы так мало о нем пишете?
– Мир, который нас окружает? Ах, так вы полагаете, что я «придумываю миры»? Значит, вы нисколько не сомневаетесь в подлинности мира, который окружает меня и вас, того мира, в центре которого вы восседаете на крашеном стуле?
Стефан подумал, что мир этот малость чокнутый, но, разумеется, сказал:
– До некоторой степени – да.
Секуловский услыхал только это «да», так как оно было ему нужно.
– Я смотрю иначе. Недавно господин доктор Кшечотек разрешил мне заглянуть в микроскоп. Он видел там, как потом рассказывал, розовато окрашенные частицы слизистой оболочки, среди которых располагались темными венчиками возбудители дифтерии – характерной колбовидной формы; я правильно за ним повторяю?
Сташек подтвердил.
– А я видел архипелаги коричневых островов, похожих на коралловые атоллы в лазурном море, где плавали розовые обломки льдин, влекомые могучими, пульсирующими течениями…
– Эти «атоллы» как раз и были бактерии, – заметил Сташек.
– Да, но я этого не видел. Так где же общий для всех мир? Разве книга – одно и то же для переплетчика и для вас?
– Неужели вы сомневаетесь даже в возможности понять другого?
– Этот разговор чересчур академичен. Могу сознаться в одном: я действительно как бы удлиняю иные штрихи на рисунке мира, я всегда стремлюсь к идеальной последовательности, которая в итоге может оказаться непоследовательностью. И не более того.
– Следовательно, упорядоченный абсурд? Это – одна из возможностей, и я не знаю, почему…
– Любой из нас – одна из возможностей, которая превратилась в необходимость, – перебил Секуловский, и Стефану припомнилась мысль, которую он однажды в одиночестве произвел на свет:
– Подумали ли вы когда-нибудь: «я, который был живчиком и яйцеклеткой»?
– Это любопытно. Вы позволите, я запишу? Разумеется, если это не из ваших литературных заготовок… – спросил Секуловский.
Стефан промолчал, чувствуя, что его ограбили, хотя формально он и не может заявить протест, и Секуловский крупным косым почерком сделал запись на закладке, вынутой из книги. Это был «Улисс» Джойса.
– Вы беседовали, господа, о последовательностях и их продолжениях, – заговорил молчавший до того Сташек. – А что вы скажете о немцах? Последствием, вытекающим из их идеологии, было бы биологическое уничтожение нашего народа после того, как будут полностью использованы его людские ресурсы.
– Политики – слишком глупые люди, чтобы разумным образом предполагать, как они поступят, – ответил Секуловский, аккуратно завинчивая зеленовато-янтарное вечное перо «Пеликан». – Но в данном случае то, о чем вы упомянули, не исключено.
– Так что же делать?
– Играть на флейте, ловить бабочек, – ответил поэт, которому, похоже, наскучила беседа. – Мы добиваемся свободы различными способами. Одни – за чужой счет, это очень некрасиво, зато практично. Другие – выискивая в обстоятельствах щель, сквозь которую можно улизнуть. Не будем бояться слова «безумие». Я утверждаю, что могу совершить деяние по видимости безумное, чтобы продемонстрировать свою свободу действий.
– Например? – спросил Стефан, хотя ему и показалось, что Сташек, которого он видел только краешком глаза, делает какой-то предостерегающий жест.
– Например? – сладко отозвался Секуловский, сморщился, вытаращил глаза и замычал во все горло, как корова.
Стефан побагровел, как свекла. Сташек отвернулся, ухмылка на его губах превратилась в гримасу.
– Quod erat demonstrandum, – сказал поэт. – Я слишком ленив, чтобы изобразить нечто более впечатляющее.
Стефану вдруг стало жалко затраченных сил. Перед кем он мечет бисер?
– Это не имеет ничего общего с настоящим безумием, – продолжал Секуловский. – Это лишь маленькое доказательство. Давайте же расширять наши возможности не только в пределах нормы, давайте искать выходы из положении, выходы, которых никто не замечает.
– А на эшафоте? – сухо, но не без внутренней запальчивости бросил Стефан.
– Там, по крайней мере, можно откреститься от животного хотя бы самой формой умирания. А как бы вы, доктор, поступили в подобной ситуации?
– Я… я… – Стефан не знал, что сказать. До этого слова сами собой соскальзывали с языка, теперь, показалось ему, язык отяжелел от пустоты. А так как Тшинецкий очень боялся оконфузиться, он и в самом деле языком не мог шевельнуть. И надолго умолк. И не скоро снова обрел дар речи. – Мне кажется, мы вообще находимся на отшибе. Да вообще эта лечебница – явление нетипичное. Типичная нетипичность, – сказал Стефан; этот придуманный им оборот даже немного его ободрил. – Немцы, война, поражение – все это воспринимается тут как-то очень уж приглушенно, в лучшем случае как далекое эхо…
– Горы железных останков, правда? А настоящие корабли плавают по морям, – проговорил Секуловский и вдруг уставился в потолок. – Вы же, господа, пытаетесь поправить Творца, который испортил не одну бессмертную душу…
Он встал, прошелся по комнате и несколько раз звучно откашлялся, словно настраивая голос.
– Так что же, радиогие дослушатели, мне вам еще продеменструировать! – спросил поэт, остановившись посреди комнаты и скрестив на груди руки. Лицо его неожиданно просветлело. – Грядет, – прошептал он. Чуть наклонился и так напряженно стал вглядываться во что-то поверх голов врачей, что они, будто настигнутые этим странным ожиданием чего-то, тоже не могли пошевелиться. Когда напряженная тишина стала уже совсем невыносимой, поэт начал декламировать:
И бунчук из жемчужно-кольчатых червей
На могилу мою водрузите. Пусть их шелест изгложет
Мой череп, как разрушенный город
Гложет отблеск кровавых огней.
Трупных бактерий белая пляска —
Пусть повесть эту продолжит.
Потом отвесил поклон и отвернулся к окну, словно перестав замечать гостей.
– Я же просил тебя… – начал Сташек, едва они вышли.
– Я ведь ничего…
– Ты его провоцировал. Надо было все время притормаживать, а ты сразу – на полный ход. Тебе больше хотелось доказать свою правоту, чем выслушать его.
– Понравились тебе эти стихи?
– Представь себе, несмотря ни на что – да! Черт знает, сколько ненормальности таится подчас в гении и наоборот.
– Ну, знаешь ли, Секуловский – гений! – воскликнул Стефан, так задетый, словно его это касалось кровно.
– Я дам тебе его книгу. Наверняка не читал «Кровь без лица».
– Нет.
– Сдашься!
И Сташек простился с Тшинецким, который обнаружил, что стоит возле дверей собственной комнаты. Стал шарить в ящике стола, нет ли там пирамидона. Виски разламывались, словно сжатые свинцовым обручем.
Во время вечернего обхода Стефан тщетно старался увильнуть от увядшей блондинки. Она вцепилась в него. Пришлось отвести ее в кабинет Носилевской.
– Доктор, я вам все расскажу, – затараторила она, нервно сплетая пальцы. – Меня схватили за то, что я везла свиное сало. Ну, я и притворилась сумасшедшей, испугалась, что отправят в концлагерь. А тут хуже лагеря. Я боюсь этих психов.
– Как ваша фамилия? Какая разница между ксендзом и монахом? Для чего служит окно? Что делают в костеле?
Задав эти вопросы и выслушав ответы на них, Стефан понял, что женщина действительно вполне нормальна.
– А как вы смогли притворяться?
– Ну, у меня золовка, она в психиатрической больнице Яна Божьего, так я кое-что повидала, наслушалась… будто разговариваю с кем-то, кого нет, а я его вроде бы вижу, ну и еще всякие штучки.
– Что же мне с вами делать?
– Выпустите меня отсюда. – Она молитвенно сложила руки.
– Это так просто, знаете ли, не делается. Какое-то время нам придется понаблюдать за вами.
– А это долго, доктор? Ой, и зачем я на это решилась.
– В концлагере не было бы лучше.
– Но я же, доктор, не могу быть рядом с той, которая делает под себя, умоляю вас. Мой муж сумеет вас отблагодарить.
– Ну-ну, только без этого, – отрезал Стефан с профессиональным возмущением. Он уже нащупал нужный тон. – Переведем вас в другую палату, там тихие. А теперь идите.
– Ох, мне все равно. Визжат, поют, глазами вращают, я попросту боюсь, как бы самой не спятить.
Спустя несколько дней Стефан уже наловчился заполнять истории болезни «вслепую», с помощью нескольких расхожих штампов, благо так поступали почти все. Быстрее всего он раскусил Ригера: человек, несомненно, образованный, но ум его что японский садик – вроде бы и мостики, и дорожки, и вообще все красиво, но очень уж крохотное и бесполезное. Мысль его катилась по наезженным колеям. Познания его словно были сложены из разрозненных, но плотно слипшихся плиток, и он распоряжался ими совершенно по-школярски.
Спустя неделю отделение уже не производило на Тшинецкого столь неприятного впечатления. «В сущности, несчастные женщины», – думал он, хотя некоторые, особенно маньячки, хвастались общением со святыми отнюдь не в духе религиозных догм.
На воскресенье пришлись именины Паенчковского, который явился в свежеотглаженном халате и с аккуратно расчесанными влажными сосульками своей реденькой бородки. Глаза его, похожие на глаза одряхлевшей птицы, одобрительно помаргивали за стеклами очков, когда шизофреничка из отделения выздоравливающих декламировала стишок. Потом пела алкоголичка, а в завершение выступил хор психопатов, но потом программа торжества была внезапно скомкана: все бросились к старику, и он взлетел над лесом рук под потолок. Гам, пыхтение – нашлась даже женщина-чайник, почти по Эдгару По. Старика с трудом вырвали из рук больных. Врачи выстроились в процессию – несколько на монастырский лад: во главе настоятель, за ним братия – и направились в мужские палаты, где ипохондрик, вообразивший, что болен раком, начал декламировать, но его прервали трое паралитиков, затянув хором: «Умер бедняга в больнице тюремной» – их никак не удавалось остановить. Потом было скромное пиршество во врачебном корпусе, в завершение которого Пайпак попытался сказать патриотическую речь, но у него ничего не вышло: крохотный старикашка с подергивающейся, словно все отрицающей головой прослезился над рюмкой тминной, пролил водку на стол и, наконец, к всеобщему удовлетворению, сел на место.