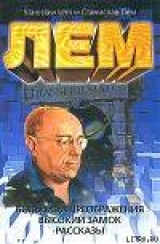
Текст книги "Больница преображения. Высокий замок. Рассказы"
Автор книги: Александр Беляев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
– Kommen Sie, bitte,[59]59
Проходите, пожалуйста (нем.).
[Закрыть] – проговорил немец и учтиво пропустил его вперед.
Все сидели молча. Вдруг совсем рядом прозвучал выстрел – словно раскат грома в замкнутом пространстве. Стало страшно. Даже немцы, болтавшие на диванчике, притихли. Каутерс, весь в поту, скривился так, что его египетский профиль превратился чуть ли не в ломаную линию, и с таким ожесточением сжал руки, что, казалось, заскрипели сухожилия. Ригер по-ребячьи надул губы и покусывал их. Только Носилевская – она ссутулилась, подперла голову руками, поставив локти на колени, – оставалась внешне невозмутимой.
Стефану почудилось, будто в животе у него что-то распухает, все тело раздувается и покрывается осклизлым потом; его начала бить омерзительная мелкая дрожь, он подумал, что Носилевская и умирая останется красивой, – и мысль эта доставила ему какое-то странное удовлетворение.
– Кажется… нас… нас… – шепнул Ригер Сташеку.
Все сидели в маленьких красных креслицах, только ксендз стоял в самом темном углу, между двумя шкафами. Стефан бросился к нему.
Ксендз что-то бормотал.
– У-убьют, – проговорил Стефан.
– Pater noster, qui est in coelis, – шептал ксендз.
– Отец, отец, это же неправда!
– Sanctificetur nomen Tuum…[60]60
Отче наш, иже еси на небесех. (…) Да святится имя Твое… (лат.)
[Закрыть]
– Вы ошибаетесь, вы лжете, – шептал Стефан. – Нет ничего, ничего, ничего! Я это понял, когда упал в обморок. Эта комната, и мы, и это все; это – только наша кровь. Когда она перестает кружить, все начинает пульсировать слабее и слабее, даже небо, даже небо умирает! Вы слышите, ксендз?
Он дернул его за сутану.
– Fiat voluntas Tua…[61]61
Да будет воля Твоя… (лат.)
[Закрыть] – шептал ксендз.
– Нет ничего, ни цвета, ни запаха, даже тьмы…
– Этого мира нет, – тихо проговорил ксендз, обращая к нему свое некрасивое, искаженное страданием лицо.
Немцы громко засмеялись. Каутерс резко встал и подошел к ним.
– Entschuldigen Sie, – сказал он, – aber der Herr Obersturmführer hat mir miene Papiere abgenommen. Wissen Sie nicht, ob…[62]62
– Простите, (…) но господин оберштурмфюрер забрал мои бумаги. Разве вы не знаете, что… (нем.)
[Закрыть]
– Sie missen schon etwas Gedud haben, – оборвал его плотный, широкоплечий немец с красными прожилками на щеках. И продолжал рассказывать приятелю: – Weisst du, das war, als die Häuser schon alle brannten und ich glaubte, dort gebe es nur Tote. Da rennt Dir doch plötzlich mitten aus dem grossten Feuer ein Weib schnurstracks auf den Wald zu. Rennt wie verruckt und presst eine Gans an sich. War das ein Anblick! Fritz wollte ihr eine Kugel nachschicken, aber er konnte nicht einmal richtig zielen vor Lachen – war das aber komisch, was?[63]63
– Вам надо немного потерпеть. (…) Ну, знаешь, как уже все дома горели, я и подумал, что там одни мертвые, тут вдруг прямо из огня баба как выскочит и давай к лесу. Несется как угорелая и к себе гуся прижимает. Вот картина-то! Фриц хотел пульнуть ей вдогонку, да от смеха никак не мог на мушку поймать – вот смехота-то, да? (нем.)
[Закрыть]
Оба рассмеялись. Каутерс стоял рядом и вдруг невероятным образом скривился и выдавил из себя тоненькое, ломкое «ха-ха-ха!».
Рассказчик нахмурился.
– Sie, Doktor, – заметил он, – warum lachen Sie? Da gibt’s doch für Sie nichts zum Lachen.
Лицо Каутерса пошло белыми пятнами.
– Ich… ich… – бормотал он, – ich bin ein Deutscher!
Сидевший вполоборота немец смерил его снизу взглядом.
– So? Na, dann bitte, bitte.[64]64
– Вы, доктор, (…) вы-то чего смеетесь? Для вас тут ничего смешного нет.
– Я… я… (…) я немец. (…)
– Да? Ну, тогда пожалуйста, пожалуйста (нем.).
[Закрыть]
Вошел высокий офицер, которого они прежде не видели. Мундир сидел на нем как влитой, ремни матово поблескивали. Без каски; вытянутое, благородное лицо, каштановые с проседью волосы. Он оглядел присутствующих – стекла очков в стальной оправе блеснули. Хирург подошел к нему и, встав навытяжку, протянул руку:
– Фон Каутерс.
– Тиссдорф.
– Herr Doktor, was ist los mit unserem Professor? – спросил Каутерс.
– Machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde ihn mit dem Auto nach Bieschinetz bringen. Er packt jetzt seine Sachen.
– Wirklich?[65]65
– Господин доктор, что случилось с нашим профессором? (…)
– Можете не беспокоиться. Я возьму его в машину, отвезу в Бежинец. Он уже собирает вещи.
– В самом деле?
[Закрыть] – вырвалось у Каутерса.
Немец покраснел, затряс головой.
– Mein Herr! – Потом улыбнулся. – Das müssen Sie mir schon glauben.
– Und warum werden wir hier zurückgehalten?
– Na, na! Es stand ja schon úbel um Sie, aber unser Hutka hat sich doch noch beruhigen lassen. Sie werden jetzt nur bewacht, weil Ihnen unsere Ukrainer sonst etwas antun konnten. Die lechzen ja nach Blut wie die Hunde, wissen Sie.
– Ja?[66]66
– Милостивый государь! (…) Вы должны мне верить.
– А зачем нас здесь держат?
– Ну, ну! С вами было уж дело плохо, так ведь наш Гутка теперь угомонился. Вас теперь будут только охранять, чтобы наши украинцы ничего такого вам не причинили. Они, знаете, прямо крови жаждут, словно собаки.
– Да? (нем.)
[Закрыть] – изумился Каутерс.
– Wie die Falken… Man muss sie mit rohem Fleisch füttern,[67]67
– Как соколы… Их приходится кормить сырым мясом (нем.).
[Закрыть] – рассмеялся немецкий психиатр.
Подошел ксендз.
– Herr Dortor, – сказал он, – Wie kam das: Mensch und Arzt, und Kranke, die Erschiessen, die Tod![68]68
Господин доктор, (…) как это можно: человек и врач, и больные, расстрел и смерть! (искаж. нем.)
[Закрыть]
Казалось, немец отвернется или попытается заслониться рукой от черного нахала, но неожиданно лицо его просветлело.
– Jede Nation, – заговорил он глубоким голосом, – gleicht einem Tierorganismus. Die kranken Körpersellen müssen manchmal herausgeschnitten werden. Das war eben so ein chirurgischer Eingriff.[69]69
Каждая нация (…) подобна организму животного. Больные органы порой необходимо удалять. Это было своего рода хирургическое вмешательство (нем.).
[Закрыть]
Через плечо ксендза он смотрел на Носилевскую. Ноздри его раздувались.
– Aber Gott, Gott,[70]70
Но Боже, Боже (нем.).
[Закрыть] – все повторял ксендз.
Носилевская по-прежнему сидела молча, не шевелясь, и немец, который не сводил с нее глаз, заговорил громче:
– Ich kann es Ihnen auch anders erklären. Zur Zeit des Kaisers Augustus war in der Galilea ein römischer Statthalter, der übte die Herrschaft über die Juden, und hiess Pontius Pilatus…[71]71
Я могу объяснить это и иначе. Во времена цезаря Августа был в Галилее римский наместник, который имел верховную власть над евреями, и звали его Понтий Пилат… (нем.)
[Закрыть]
Глаза его горели.
– Стефан, – громко попросила Носилевская, – скажите ему, чтобы он меня отпустил. Мне не нужна опека, и я не могу тут больше оставаться, так как… – Она смолкла на полуслове.
Стефан, растроганный (она впервые назвала его по имени), подошел к Каутерсу и Тиссдорфу. Немец вежливо поклонился ему.
Стефан спросил, могут ли они уйти.
– Sie wollen fort? Alle?
– Frau Doktor Nosilewska, – не очень уверенно ответил Стефан.
– Ach, so. Ja, natürlich. Gedulden Sie sich bitte noch etwas.[72]72
– Вы хотите уйти? Все?
– Госпожа доктор Носилевская. (…)
– Ах так. Да, конечно. Потерпите еще немного, пожалуйста (нем.).
[Закрыть]
Немец сдержал слово: их освободили в сумерки. В корпусе было тихо, темно и пусто. Стефан пошел к себе; надо было собраться в дорогу. Зажег лампу, увидел на столе записную книжку Секуловского и бросил ее в свой открытый чемодан. Потом посмотрел на скульптуру; она тоже лежала на столе. Подумал, что ее создатель валяется где-то тут, поблизости, в выкопанном утром рву, придавленный сотней окровавленных тел, и ему стало нехорошо.
Его чуть не вырвало, он повалился на кровать, коротко, сухо всхлипывая. Заставил себя успокоиться. Торопливо сложил вещи и, надавив коленом, запер чемодан. Кто-то вошел в комнату. Он вскочил – Носилевская. В руках она держала несессер. Протянула Стефану продолговатый белый сверток: это была стопка бумаги.
– Я нашла это в вестибюле, – сказала она и, заметив, что Стефан не понял, пояснила: – Это… это Секуловский потерял. Я думала… вы его опекали… то есть… это принадлежало ему.
Стефан стоял неподвижно, с опущенными руками.
– Принадлежало? – переспросил он. – Да, верно…
– Не надо сейчас ни о чем думать. Нельзя. – Носилевская произнесла это докторским тоном.
Стефан поднял чемодан, взял у нее бумаги и, не зная, что с ними делать, сунул в карман.
– Пойдемте, да? – спросила девушка. – Ригер и Паенчковский переночуют здесь. И ваш приятель с ними. Они останутся до утра. Немцы обещали отвезти их вещи на станцию.
– А Каутерс? – не поднимая глаз, спросил Стефан.
– Фон Каутерс? – протянула Носилевская. – Не знаю. Может, и вообще тут останется. – И добавила, встретив его удивленный взгляд: – Тут будет немецкий госпиталь СС. Они с Тиссдорфом об этом разговаривали, я слышала.
– Ах да, – отозвался Стефан. У него разболелась голова, заломило в висках, словно обручем сдавило лоб.
– Вы хотите здесь остаться? А я ухожу.
– Вы… я любовался вашей выдержкой.
– Меня едва на это хватило. Сил больше нет, я должна идти. Я должна отсюда уйти, – повторила она.
– Я пойду с вами, – неожиданно выпалил он, чувствуя, что и он не может больше притрагиваться к вещам, которые еще хранили тепло прикосновений тех, кого уже нет, дышать воздухом, в котором еще носится их дыхание, не может оставаться в пространстве, которое еще пронизывают их взгляды.
– Мы пойдем лесом, – заметила она, – это самый короткий путь. И Гутка сказал мне, что украинцы патрулируют шоссе. Мне бы не хотелось с ними встречаться.
На первом этаже Стефан вдруг в нерешительности остановился.
– А те…
Она поняла, о чем он.
– Пожалуй, лучше пожалеть и их, и себя, – сказала Носилевская – Всем нам нужны другие люди, другое окружение…
Они подошли к воротам; вверху шумели кроны темных деревьев, и это походило на гул холодного моря. Луны не было. У калитки перед ними вдруг выросла огромная черная фигура.
– Wer da?[73]73
Кто там?
[Закрыть]
И белый луч фонаря стал ощупывать их. На фоне поблескивавших листьев стало видно лицо Гутки. Немец обходил парк.
– Gehen Sie.[74]74
Проходите.
[Закрыть] – Он махнул рукой.
Они прошли мимо него.
– Hallo![75]75
Эй!
[Закрыть] – крикнул он.
Они остановились.
– Ihre erste und einzige Pflicht ist Schweigen. Verstehen Sie?[76]76
Ваша первая и единственная обязанность – молчать. Поняли? (нем.)
[Закрыть]
Слова эти прозвучали угрозой.
Может, причиной тому был исполосованный клиньями тени свет, однако развевающийся, длинный, до пят, плащ и лицо со сверкающей полоской мелких зубов придавали его фигуре нечто трагическое.
Минуту молчали, потом Стефан сказал:
– Как они могут делать такое и жить?
Они уже вышли на темную дорогу и проходили как раз под накренившейся каменной аркой со стершейся надписью; на фоне неба она казалась темным полукругом. Опять свет: Гутка размахивает фонарем, прощается с ними. И опять мрак.
Пройдя второй поворот, они сошли с дороги и, увязая в грязи, побрели к лесу. Деревьев вокруг становилось все больше, они были все выше. Ноги утопали в сухих листьях, журчавших, как вода при ходьбе вброд. Шли долго.
Стефан взглянул на часы: они уже должны были бы выйти на опушку леса, откуда видна станция. Но он ничего не сказал. Они шли и шли, спотыкаясь, чемодан оттягивал руку, а лес вокруг однообразно шумел, и сквозь ветви изредка призрачно просвечивала ночная туча.
У большого с широкой кроной клена Стефан остановился и сказал:
– Мы заблудились.
– Кажется.
– Надо было идти по шоссе.
Стефан попытался сориентироваться, но из этого ничего не вышло. Становилось все темнее.
Тучи заволокли небо; казалось, оно спустилось и ветер раскручивает его над голыми кронами деревьев. Посвистывали ветки. И еще один звук, шелестящее эхо – посыпал дождь, капли секли по лицам.
Когда они уже совсем выбились из сил, впереди вдруг выросло какое-то приземистое строение – не то сарай, не то изба. Деревья расступились, они вышли из леса.
– Это Ветшники! – сказал Стефан. – Мы в девяти километрах от шоссе, в одиннадцати от городка.
Они ушли далеко в противоположную сторону.
– На поезд уже не поспеем. Только если лошадей достанем.
Стефан промолчал: это было невозможно. Мужики наглухо запирались в избах – несколько дней назад соседнюю деревню сожгли дотла, людей, всех до единого, перебили.
Они шли вдоль плетней, колотя в двери и окна. Все будто вымерло. Подала голос собака, за ней еще одна, вскоре их сопровождал многоголосый неумолчный лай, катившийся вслед, словно волна. На околице, на пригорке, стояла одинокая изба; одно ее оконце тускло краснело.
Стефан принялся барабанить в дверь, под его кулаками она ходила ходуном. Когда он уже потерял всякую надежду, дверь открыл высокий, взъерошенный мужик. Лица его было не разглядеть, посверкивали лишь белки. Под наброшенной на плечи кофтой белела незастегнутая рубаха.
– Мы… врачи из бежинецкой больницы… мы заплутали, нужен ночлег… – заговорил Стефан, чувствуя, что говорит не так, как надо.
Впрочем, что ни скажи, вышло бы невпопад. Он считал, что знает мужиков.
Мужик не сдвинулся с места, загораживая собою вход в избу.
– Мы просим вашего разрешения переночевать, – тихо, словно далекое эхо, подала голос Носилевская.
Мужик и пальцем не пошевелил.
– Мы заплатим, – предпринял еще одну попытку Стефан. Мужик по-прежнему молчал, но и не уходил. Стефан достал из внутреннего кармана бумажник.
– Не надо мне ваших денег, – сказал вдруг мужик. – За таких, как вы, пуля положена.
– Ну зачем же так, немцы разрешили нам уйти, – возразил Стефан. – Мы заблудились, хотели на станцию…
– Застрелят, сожгут, забьют до смерти, – равнодушным голосом тянул свое мужик, переступив через порог.
Он закрыл за собой дверь и во весь свой громадный рост стоял теперь перед домом. Дождь припустил сильнее.
– Что с такими делать? – проговорил наконец мужик.
Куда-то пошел. Стефан и девушка – за ним. На задах двора стоял крытый соломой сарай. Мужик отбросил слегу и открыл ворота; от запаха лежалого сена приятно защекотало в носу.
– Тут, – сказал мужик. Как и прежде, помолчал чуток и прибавил: – Соломы подстелите. Да снопы не раскидывайте.
– Спасибо вам, – заговорил Стефан. – Может, все-таки возьмете?
Он попытался всунуть в руку мужику деньги.
– Пули они не отведут, – сухо отказался тот. – Что с такими поделаешь? – повторил он свое, на этот раз тише.
– Спасибо вам… – смущенно поблагодарил Стефан.
Мужик постоял еще немного, затем сказал:
– Спите… – закрыл ворота и ушел.
Стефан остановился у входа. Вытянул перед собой руки, как слепой: он вообще плохо ориентировался в темноте. Носилевская возилась где-то невдалеке, сгребала солому. Стефан снял облепивший спину холодный, тяжелый пиджак, с которого капала вода. Ему очень хотелось так же поступить и с брюками. Он обо что-то споткнулся, кажется, о дышло, чуть не упал, но ухватился за собственный чемодан и вспомнил, что там у него фонарь. Нащупал замок. Нашел и фонарь, и плитку шоколада. Положил зажженный фонарь на землю и полез в карман пиджака за бумагами Секуловского. Девушка накрыла одеялом набросанную на глиняный пол солому. Стефан уселся на самый краешек и расправил листки. На первом было написано несколько слов. Буквы бились в голубых клеточках, словно в сетке. Сверху – фамилия, ниже – заглавие: «Мой мир». Он перевернул страницу. Она была чиста. И следующая тоже. Все белые и пустые.
– Ничего… – сказал он. – Ничего нет…
Его обуял такой страх, что он стал озираться по сторонам, ища Носилевскую. Она сидела, скрючившись, накинув на себя плед, и выбрасывала из-под него поочередно кофточку, юбку, белье – все насквозь мокрое.
– Пусто… – повторил Стефан; он хотел сказать еще что-то, но только хрипло простонал.
– Иди сюда.
Он взглянул на нее. Она выжимала волосы и темными волнами отбрасывала их за голову.
– Не могу, – прошептал он. – Не могу думать. Этот парнишка. И Секуловский… Это Сташек… это он…
– Иди, – повторила она так же мягко, каким-то сонным голосом.
Он удивленно посмотрел на нее. Вытащив из-под пледа обнаженную руку, она потрепала его по щеке, как ребенка. И тогда он резко наклонился к ней.
– Я проиграл… как мой отец…
Она притянула его к себе, стала гладить по голове.
– Не думай… – зашептала она. – Не думай ни о чем.
Он почувствовал на своем лице ее груди, ее руки. Было почти совсем темно, только мутно угасал фонарь, который, закатившись под солому, отбрасывал перечеркнутый полосками тени свет. Он слышал неспешное, спокойное биение ее сердца; казалось, кто-то говорит с ним на старом, хорошо понятном языке. Он все еще видел перед собой лица тех людей, из больницы, когда она мягко, задержав дыхание, поцеловала его в губы.
Потом их сжал мрак. Был резкий шорох соломы под волосатым одеялом, и была женщина, дарящая ему наслаждение, но не так, как это бывает обычно. Ни на секунду не теряя самообладания, она владела и собой, и им. И потом, утомленный, бесстрастно обнимая ее прекрасное тело, бесстрастно, но всей силой своего отчаяния, он расплакался на ее груди. А успокоившись, взглянул на нее. Она лежала навзничь, чуть повыше его, и в угасающем свете фонаря лицо ее было удивительно спокойно. Он не решился спросить, любит ли она его. Так пожертвовать собою, словно поделиться с незнакомцем последним куском, – это больше, чем любовь. Значит, и ее он не знал. Стефана вдруг поразила мысль, что он ведь про Носилевскую вообще ничего не знает, не помнит даже, как ее зовут. Он еле слышно прошептал:
– Послушай…
Она мягко, хотя и очень решительно, прикрыла его рот ладонью. Кончиком одеяла вытерла ему слезы и нежно поцеловала в щеку.
И тогда испарилось даже любопытство; в объятиях этой чужой женщины Стефан на один миг стал чистым, не замаранным ни единым словом – как в минуту, когда он появился на свет.
Краков, сентябрь 1948 г.
Высокий замок
Предисловие
Теперь я вижу, насколько неудачной оказалась моя попытка выполнить то первоначальное намерение, с которым я садился за работу: довериться памяти, послушно отдаться под ее начало и даже, сдерживая эмоции, высыпать из нее, словно из кошелки, на стол все, что только со мной происходило, предполагая, что коль она удержала в себе все это, то, видимо, это было в какой-то степени важно и, быть может, именно поэтому мозаика воспоминаний, рассыпавшись, словно осколки цветного стекла из разбитого калейдоскопа, уложится в какой-то осмысленный узор и, возможно, даже не однозначный, а во взаимопронизывающее множество узоров, множество, в котором можно будет отыскать отдельные более упорядоченные участки, пусть даже только чуть-чуть обозначенные, содержащие в себе лишь намеки; и таким образом я не столько повторю в сокращенном ракурсе слов мое детство, представляющее сейчас в общем-то не более чем абстракцию как бы меня самого, но распыленного вдоль нескольких десятков календарей, вдоль всех их красных и черных листков, сколько благодаря такому приему набросаю портрет, а может быть, механизм памяти, которая ведь не является ни мною самим, ни совершенно чуждым мне идеально инертным хранилищем, емкой пустотой, секретером души со множеством щелей и тайников.
Она – память – не является мною, потому что представляет собой самостоятельную силу, не в тех же точно местах, что я сам, цепкую, не в тех же местах восприимчивую или безразличную: ведь она не сохранила в себе многое из того, что я хотел бы запомнить, и, наоборот, столько раз сберегала то, что интересовало меня менее всего. Поэтому гораздо больше, нежели себя самого, хотел я принудить к «даче показаний» именно ее, чтобы возникла ее биография, за которую, впрочем, я готов был взять на себя ответственность, хотя вовсе не распоряжался и не распоряжаюсь своею памятью. Это должен был быть эксперимент, результатов которого я и сам ожидал с нетерпением, словно бы это не обо мне шла речь, будто источником образов и сведений должен был стать не я, а некто иной. Просто так уж случилось, что этот некто давным-давно сидел во мне, был как бы спрятан, наподобие того, как внутренние слои дерева, налившиеся соком во времена его детства и юности, окружены множеством наслоений периода зрелости. В таком смысле можно уже почти буквально принять, что то юное деревцо, которое росло десятки лет назад, укрыто в этом большом, старом.
Я действительно не знаю, когда меня впервые чрезвычайно удивило то обстоятельство, что я существую, и одновременно немного напугало то, что ведь вот меня могло вообще не быть или же я мог стать каким-нибудь прутиком, одуванчиком, козьей ногой или улиткой. А то и камнем. Порой мне кажется, что это было еще перед войной, то есть во времена, здесь описываемые, но я не так уж в этом уверен. Во всяком случае, это чувство изумления кануло в Лету, так и не перейдя в мономанию. Я подступал к нему позже с разных сторон, по-всякому к нему подбирался, порой бывало, что я уже начинал считать его полнейшей бессмыслицей, чем-то постыдным, предосудительным. Но потом опять всплывал вопрос: а почему, собственно, мысли текут в голове в ту, а не в другую сторону, что ими управляет и кто дирижирует? Некоторое время я довольно сильно верил, что душа, а точнее сознание, находится у меня где-то за носом, немного пониже глаз, сантиметрах в четырех или пяти от кожи. Почему? Не имею понятия.
Вероятно, это была «подфилософия», подобно тому как некогда, еще раньше, вместо мышления было какое-то «под-» или «предмышление». И это я тоже хотел вытрясти из памяти вместе со всем ее содержимым. Это должно было произойти само по себе, мой же труд – ограничиться исключительно воспоминанием, как бы встряхиванием этой метафорической кошелкой. К сожалению, из моей затеи ничего не получилось. Вижу, что хотел я того или нет, вспоминая, я одновременно упорядочивал эти воспоминания, к тому же делал это так, чтобы они складывались в стрелки, достаточно определенно указывающие на меня, меня сегодняшнего, так называемого литератора, то есть человека, занимающегося одной из наименее серьезных и наиболее стеснительных работ: безумно трудоемким сочинительством, которое обычно характеризуют разными учеными или обозначающими неведомо что названиями, вроде «писательская кухня». Что касается меня, то никакой такой кухни у меня нет. Во всяком случае, до сих пор я ее не замечал. Итак, все, что я высыпал из кошелки памяти, сразу же, на лету направлялось в соответствующее русло, правда, этак легонько-легонько. Не может быть и речи о какой-то преднамеренной лжи, подтасовке. Все происходило само по себе, во всяком случае – неумышленно. Впрочем, я не оправдываюсь.
Лишь теперь, вторично, словно детектив, идущий по следам совершенного преступления, которое состояло в ловком упорядочении даже того, что в свое время вовсе не было ни упорядоченным, ни указывающим в мою – литератора – сторону, я вижу во всем, что написал, эту нацеленную в меня – повзрослевшего на четверть века – стрелу. Это тем более удивительно, что я никогда не считал, будто «я родился писателем», будто hoc erat in votis.[77]77
Hoc erat in votis (латин.) – это составляло предмет моих желаний.
[Закрыть] Впрочем, я и сейчас так думаю. То есть в том детстве и оставшемся после него старье было, наверно, множество пересекающихся тропинок, по которым можно было пойти, направлений, которыми можно было воспользоваться, преимущественно бессистемных, кончающихся тупиками, обрывающихся; а может, это вовсе были и не тропинки, а лишь множество разделенных пространством и временем островков; это не был абсолютный хаос, потому что хотя бы уже то, что были дом, школа, родители, что вначале, будучи еще совершенно маленьким, я прилеплял себе к носу зеленое «крылышко», а потом, взрослея, ходил в школьном мундирчике, уже это само по себе создавало достаточно явный порядок. Но это был, пожалуй, такой же порядок, как на пустой шахматной доске, на которой по желанию можно увидеть черно-белые полосы, идущие либо вдоль, либо поперек, либо же по диагонали. Достаточно небольшого усилия воображения – и все переиначивалось так, как мы того пожелаем. Шахматная доска по-прежнему остается шахматной доской, и мы не можем увидеть ничего, кроме того, что на ней есть в действительности – белые и черные квадраты попеременно, – и лишь их порядок, направление неожиданно меняются. Видимо, нечто подобное случилось с нарисованной в этой книжке шахматной доской памяти. Я ничего не прибавлял, но один из многих возможных порядков, направлений черно-белых клеточек моего детства слегка акцентировал. Или так получилось потому, что мы невольно ищем лейтмотив, ведущую ось, логику жизни, чтобы не чувствовать себя виновными даже перед собою за то, что столько начатых направлений было брошено, потеряно, не использовано? Или просто и только потому, что мы хотим, чтобы все, что есть, равно как и то, что было, всегда имело какой-то четкий и однозначный смысл, хотя этого вовсе могло и не быть? Будто недостаточно так вот просто жить, я уж не говорю, в зрелом возрасте, когда неопределенность, отсутствие четкого смысла не позволяет нам чувствовать себя «на высоте», – но в детстве? Я хотел «предоставить» слово неискушенному ребенку, по возможности не мешая ему, а вместо этого поживился за его счет, выпотрошил ему карманы, тетради, ящички, чтобы похвалиться перед старшими, каким многообещающим он был уже тогда, какими личинками, куколками будущих достоинств были даже его грешки, а чтобы этот грабеж как-то оправдать, я превратил его в красивый указатель пути, чуть ли не в целую систему. Таким образом, я написал еще одну книгу, словно с самого начала не знал, не догадывался, что иначе и быть не может, что все намерения присматривать за тем, чтобы воспоминания были протокольно точными, все эти строгие наказы ничего не добавлять от себя – самообман.
Я слишком много говорил, слишком много интерпретировал, комментировал чужие секреты и забавы – ведь не свои же, ибо их уже нет, они не существуют; я очень старательно, спокойно, деловито, словно бы писал о ком-то выдуманном, кто никогда не жил, кого можно сформовать, не отступая от канонов эстетики, в соответствии с волей и планом, построил этому мальчонке надгробие, заточил его там.
Это было нечестно. Так с детьми не поступают.








