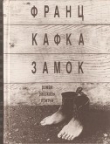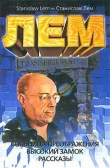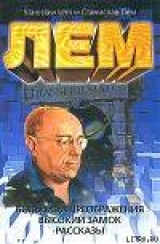
Текст книги "Больница преображения. Высокий замок. Рассказы"
Автор книги: Александр Беляев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
– Я? Ах, пока ничего, еще не знаю… Пока нигде не работаю. И немцы теперь… оккупация… сам не знаю. Присматриваюсь. Чем-то надо будет заняться, найти какое-нибудь место, но конкретно я об этом не думал…
Стефан говорил все медленнее. Они еще помолчали, теперь уже основательно. От огорчения, что им почти нечего сказать друг другу, и только из желания поддержать разговор Стефан после лихорадочных поисков темы спросил:
– Ну а как там, в лечебнице? Ты доволен?
– А, лечебница…
Кшечотек оживился и собрался было рассказывать, но тут его словно осенило, глаза расширились, и лицо радостно засияло.
– Послушай, Стефан! Мне это только что пришло в голову, ну и что? Архимед тоже вдруг… ты же знаешь! Стефан, послушай. Стефан, если бы – ты да к нам в лечебницу, а? Место хорошее, очень хорошее, специализация, края тебе знакомые, тут и спокойно, и работа интересная… и… времени свободного достаточно, да, наукой займешься, я же помню, ты ведь на это нацеливался…
– Я – в лечебницу? – ошеломленно пролепетал Стефан и растерянно улыбнулся. – Видишь ли, вот так, с бухты-барахты… приехал на похороны, и тут же… впрочем… собственно, мне все равно, – выпалил он и осекся, испугавшись неуместности этого своего последнего замечания, но Сташек ничего не заметил.
Еще с четверть часа он не закрывал рта, толковал только об этом, потом они прикидывали, как будет, если Стефан на самом деле устроится в лечебницу врачом, ведь вакансия там действительно была. Сташек опрокидывал одно сомнение Стефана за другим:
– Не специализировался по психиатрии? Это не беда, никто же не родится специалистом. Врачи там первоклассные, сам увидишь! Ну, естественно, как это обычно бывает, врачи ведь люди, кто лучше, кто хуже. Но интересно все. И какие удобства! И словно нет никакой оккупации, да что там, как на другой планете!
Кшечотек так разошелся, что в его устах лечебница превратилась в некое подобие внеземной или космической обсерватории, этакий островок уютного одиночества, в котором человек, одаренный от природы выдающимся умом, может развиваться, как ему заблагорассудится. Они болтали так и болтали, и Стефан, хотя он был совершенно уверен, что ничего путного из этого не выйдет, охотно подыгрывал другу, словно ища в этом разговоре спасения от жуткой пустоты, обложившей его со всех сторон.
Кто-то постучал в дверь: тетка с дядей Анзельмом уже собрались на станцию. Приличествовало бы их проводить, но Стефан как-то отвертелся от этого, бросившись торопливо целовать ручки и отвешивать поклоны. Тетя Анеля, казалось, была в хорошем настроении; при иных обстоятельствах Стефан осудил бы ее – рассказ Ксаверия не выходил у него из головы, – но он слишком торопился вернуться к Кшечотеку, и ему некогда было морализировать. Очередное свидание с родней, барственность Анзельма, который обнял его, но не поцеловал, а лишь коснулся его лица колючей щекой, какие-то бессмысленные наставления и поручения тетки Меланьи – все это только прибавляло привлекательности неожиданному предложению Сташека. Но, едва увидев друга, с напускной небрежностью глазевшего на старинные гравюры, развешенные по стенам гостиной, он снова заколебался. Наконец после долгих размышлений над всеми «за» и «против» Стефан решил ехать домой, – мол, там ему надо уладить кое-какие дела (это была отговорка, никаких дел не существовало, но выглядела она внушительно и толково). Потом он вернется, то есть через некоторое время (Тшинецкий подчеркнул это, дабы не выглядеть законченной свиньей) приедет в Бежинец.
Ровно в полдень Стефан учтиво, но прохладно распрощался с дядей и пошел на станцию. Кшечотек его провожал, добраться до Бежинца он мог на том же поезде.
День был теплый и уже совсем весенний; снег таял, текли звонкие ручьи, превратившие дорогу в настоящее болото; приятели говорили мало, так как переправа через лужи требовала внимания, да и о чем было говорить? На станции еще немного поскучали, ища спасения в курении, – по студенческой привычке они, как в перерывах между лекциями, укрывали сигареты в кулаках. Но вот подкатил поезд. Он еще не успел остановиться, как Сташек, пораженный его видом, решил идти пешком – вагоны были набиты битком: люди свешивались из окон, облепили крыши, висели на всех поручнях, скобах, ступеньках. Когда поезд остановился и его атаковала толпа крестьян и мешочников, началась шумная драка. Стефан проявил ожесточенность, какой от себя и не ожидал; вопя, он почти вслепую таранил стену тулупов – так отчаянно, словно боролся за жизнь. Поезд, сопровождаемый всеобщим ревом, уже тронулся, когда Стефану удалось носком ботинка нащупать край деревянной ступеньки и обеими руками ухватиться за тулупы и пальто тех, кто уже висел выше него, вцепившись в дверь. Однако у него хватило ума сообразить, что так не продержаться и нескольких минут, и он спрыгнул на ходу, едва не рухнув в грязь. Однако обошлось, его лишь обдало с ног до головы снегом и грязной водой. Стефан, побагровевший от натуги и злости, пошел назад и увидел на платформе Сташека; тот снисходительно, хотя и сочувственно улыбался. Злость вспыхнула с новой силой, но приятель, оценивший его старания, еще издали закричал:
– Не злись, Стефан, сам видишь, это судьба, а не я. Давай сюда, вместе пойдем в Бежинец…
Стефан постоял в нерешительности, потом заговорил – уже не о каких-то там «делах, нуждающихся в урегулировании», а о белье и мыле, но Кшечотек с несвойственной ему энергией подхватил друга под руку и дал понять, что все необходимое найдется, и вышло у него это так по-свойски, сердечно, что Стефан, лишь теперь заметивший грязные потеки на своем пальто, вдруг рассмеялся, махнул рукой на условности и вместе с приятелем побрел по грязи к маячившим на светлеющем горизонте трем горбам бежинецких холмов.
Узлы пространства
От Нечав до Бежинца было двенадцать километров петляющей серпантином, раскисшей, глинистой дороги. Когда путники преодолели самый крутой подъем, дорога вползла в глубокую выемку, которая вывела их на проселок, такой же топкий, и наконец они увидели за рощицей пологий холм, с юга окаймленный мелколесьем. На его вершине – несколько сереньких зданий, окруженных кирпичной стеной. К центральным воротам тянулась дорога, вымощенная щебнем. До цели оставалось несколько сот метров, но друзья, запыхавшиеся от быстрой ходьбы, остановились. Отсюда, с высоты, Стефан окинул взглядом безбрежное, изборожденное мягкими складками пространство, над которым в лучах заходящего солнца проплывали кое-где клочья тумана. Размытые тона снегов выдавали невидимую работу тепла. Над темными воротами высилась прикрытая по бокам кустами щербатая каменная арка с поблекшей надписью. Когда они подошли поближе, Стефан смог ее разобрать: CHRISTO TRANSFIGURATO.[4]4
Преображение во Христе (лат.).
[Закрыть]
Прибавив шагу и давя сохранившиеся в тенистых местах оконца замерзших луж, друзья добрались до калитки. Толстый небритый привратник впустил их. Теперь Кшечотек развил бурную, хотя и не очень заметную деятельность. Велел Стефану ждать в боковой пустой комнате первого этажа, а сам помчался к главному врачу. Стефан кружил по каменным плиткам пола, лениво разглядывая роспись, частично закрытую штукатуркой: какой-то бледно-золотистый нимб и – уже под слоем голубоватой штукатурки – разверстый то ли кричащий, то ли поющий рот. Заслыша шаги, Стефан оглянулся – неожиданно быстро возвращался Сташек. Он был в длинном, почти до пят белом халате со слегка обтрепанными от частой стирки рукавами и как будто даже стал стройнее и выше ростом. Его круглая физиономия прямо-таки расплывалась в радостной улыбке.
– Ну, прекрасно, я все уже обговорил с Пайпаком, – объявил он, беря Стефана под руку. – Это наш главный, понимаешь. Фамилия его на деле – Паенчковский, он заикается – оттого такое прозвище, – но ты, верно, есть хочешь? Признавайся! Ну, сейчас все организуем.
Врачи жили в отдельном красивом здании, очень уютном и светлом. Тут все было продумано до мелочей. В комнатке, куда препроводил его Сташек, Стефан нашел и горячую воду в умывальнике, и опрятную, не очень-то больничного вида кровать, и мебель, в меру светлую, хотя довольно-таки строгого стиля, и даже три подснежника в стакане на столике. Самое же главное, здесь вовсе не было запаха иодоформа, вообще не пахло больницей. Под неумолчную болтовню приятеля Стефан открыл по очереди каждый кран, осмотрел ванную, насладился ласковым шумом душа, вернулся в комнату, выпил кофе с молоком, намазывал чем-то соленым и желтым хлеб, ел, но все это проделывал, в сущности, ради дружбы, чтобы Сташек мог порадоваться результатам своей расторопности.
– Теперь садись здесь, рядом со мной. Ну что? Как оно будет-то? – спросил Сташек, когда все наконец было осмотрено и съедено.
– Ты о чем?
– Ну, вообще, разумеется, – что будет с миром и с тобой?
– Вызываешь на серьезный разговор? – Стефан не сдержал улыбки.
– Нет, что ты! Какие там споры! Мир – это теперь немцы. Все считают, что им врежут, хотя я в это не очень-то верю… к сожалению. Уже поговаривают о смене руководства – поляк якобы не имеет права быть директором… но это еще не наверняка. Ну а что касается тебя – ты должен потихоньку со всем тут познакомиться. И только потом выберешь себе отделение. Не спеши, сперва оглядись.
Сташек говорит почти как тетка Скочинская, подумал Стефан, а вслух спросил:
– А где… они?
Из окна он видел окутанные туманом клумбы, зыбкие очертания выстроившихся друг за другом корпусов; над самым дальним возвышалась башня не то в турецком, не то в мавританском стиле – в этом Тшинецкий не разбирался.
– Все увидишь. Они вон там, и с другой стороны – тоже. Скоро именины нашего старика. Повеселишься. Сегодня, разумеется, еще не пойдешь по палатам, я тебе все обстоятельно растолкую, чтобы ты не запутался. Ты, дорогуша, в больнице для чокнутых.
– Это я знаю.
– Тебе только так кажется. Ты сдавал психиатрию и наблюдал одного пациента, наверняка какого-нибудь невропата, верно?
– Да.
– Вот видишь. Терапия – ничего особенного: до сорока лет сумасшедший – это dementia praecox:[5]5
шизофрения (лат.).
[Закрыть] скополамин, бром и холодный душ. После сорока – dementia senilis:[6]6
старческое слабоумие (лат.).
[Закрыть] холодный душ, скополамин, бром. Ну, и шоки. Вот, собственно, и вся психиатрия. А здесь, дорогуша, мы – крошечный островок в удивительнейшем море. И скажу тебе, что, если бы не персонал, если бы… ну да ладно, со временем сам все поймешь – стоило бы тут провести всю жизнь, если даже и не врачом…
– То сумасшедшим, ты это хочешь сказать?
– Ну что ты несешь? Я имел в виду – гостем. У нас и такие есть. С выдающимися людьми можешь тут познакомиться, не смейся, я серьезно.
– Ну, ну?
– Например, с Секуловским.
– Что ты говоришь, с этим поэтом? Так он…
– Вовсе нет! Просто отсиживается у нас, то есть как бы это сказать? Наркоман. Морфий, кокаин, даже гашиш, но он уже от этого избавился. Живет у нас, как на даче. От немцев прячется, короче говоря. Пишет целыми днями, причем не стихи, а мечет философские громы и молнии! Сам увидишь! А теперь у меня вечерний обход, брошу тебя на полчаса, ладно?
Сташек ушел. Стефан долго стоял у окна, потом неторопливо осмотрел свое новое жилище. Как, однако, важно то, что вокруг нас. Все это каким-то непостижимым образом проникало в него, и вовсе не тогда, когда он пристально, словно через лупу, рассматривал то или другое, но когда стоял просто так, отдыхал. Стефан чувствовал, как пережитое в последние дни начинает покрываться новым, иным слоем, как этот геологический пласт воспоминаний затвердевает снизу, подтачиваемый только снами, сверху же остается размягченным и зыбким и поддается влияниям внешнего мира.
Он остановился перед зеркалом. Долго и напряженно всматривался в свое, выплывшее из глубины стекла лицо. Лоб мог быть и повыше, а волосы – поопределеннее: или уж светлые, или черные, как смоль; между тем бесспорно черной была только щетина на лице, от чего он вечно выглядел небритым. Ну а глаза – сам он говорил, что они ореховые, другие считали, что карие. Значит, и тут какая-то неопределенность. Только нос, унаследованный от отца, тонкий, загнутый; «алчный нос» – говаривала мать. Он слегка напряг мышцы лица, чтобы черты заострились, сделались благороднее. За этой гримасой последовала другая, он стал строить рожи, потом резко отвернулся от зеркала и подошел к окну.
«Хватит самого себя передразнивать! – подумал Стефан зло. – Стану прагматиком. Действовать, действовать и действовать!» Он вспомнил слова отца: «человек, у которого нет цели в жизни, должен ее себе придумать». Впрочем, хорошо, когда есть целая череда целей, ближайших и отдаленных. И это – не какое-то расплывчатое: «быть доблестным», «добрым», а «починить бачок в уборной». Это наверняка принесет больше удовлетворения. Ему вдруг до боли захотелось прожить жизнь простого человека.
«Господи! Если бы я мог пахать, сеять, жать и опять пахать. Или табуретки какие-нибудь сколачивать, корзины плести, торговать ими на базаре». Карьера деревенского скульптора – изготовителя фигурок святых – либо гончара, обжигающего красных глазурованных петушков, представлялась ему вершиной счастья. Спокойствие. Простота. Дерево было бы деревом – и точка. Никакого идиотского, бессмысленного и чертовски мучительного рассусоливания: на кой ляд оно растет, что значит «оно живое», зачем существуют растения, почему ты – это ты, а не кто-то другой, состоит ли душа из атомов – и вообще, чтобы раз и навсегда с этим покончить! Стефан нервно заходил взад-вперед по комнате. К счастью, пришел Сташек. Стефан подозревал, что Кшечотек чувствует себя в больнице так же хорошо, как одноглазый среди слепцов. Он был тихим сумасшедшим в миниатюре, а значит, на живописном фоне пышно цветущих безумств производил впечатление человека, необычайно цельного психически.
– А теперь пошли ужинать…
Столовая для врачей помещалась наверху, под самой крышей, по соседству с просторной бильярдной и другой комнатой, поменьше, со столиками для карт или еще для каких-то игр. Стефан, проходя мимо, заглянул туда.
Покормили недурно: после зраз с кашей и салата из фасоли – хрустящие оладьи. Потом кофе; его подали в кувшинах.
– Война, коллега, а la guerre comme а la guerre,[7]7
на войне как на войне (фр.).
[Закрыть] – сказал Стефану сосед. Справа сидел Сташек; можно было понаблюдать за сотрапезниками. Как всегда, когда видишь новые лица, некоторые из них не различаешь; Стефан в них путался, они ничем не задевали его чувств. Тот, который глубокомысленно изрек афоризм о войне, доктор Дигер или Ригер – представился он невнятно, – был низкорослый, носатый, смуглолицый, со шрамом в глубокой вмятине на лобной кости. Он носил крошечное пенсне в золотой оправе, оно постоянно сползало, и доктор привычным движением водворял его на место. Вскоре это стало раздражать Стефана. Они вполголоса перекидывались замечаниями на нейтральные темы: закончилась ли наконец зима, как с углем, много ли работы, сколько теперь платят. Доктор Ригер (все-таки оказался на «Р») пил мелкими глотками кофе, выбирал оладушки поподжаристее и говорил в нос, не проявляя к беседе особого интереса. Как-то так получилось, что, разговаривая, оба они смотрели на Паенчковского. Этот старикан, смахивающий на недожаренного голубя из-за своей реденькой перистой эспаньолки, сквозь серебряные прядки которой просвечивала розовая кожица подбородка, со слегка трясущимися, морщинистыми ручками, тщедушный и заикающийся, прихлебывал кофе, а когда начинал говорить, порой дергал головой, словно не соглашаясь сам с собой.
– Так вы у нас хотели бы поработать, да?.. – спрашивал он Стефана и тут же возражал себе покачиванием головы.
– Да, хотел бы…
– Ну, конечно… конечно… стоит…
– Ведь практика… необходима… пригодилась бы… – бормотал Стефан. Он ужасно не любил старикашек, официальных представлений и скучных разговоров, а тут получил все разом.
– Ну, так мы вам все капитально… как только сами… – говорил Пайпак и продолжал возражать сам себе, мотая головой.
Рядом с ним сидел высокий, тощий врач в халате, испачканном ляписом. Страшно, но как-то симпатично безобразный, со следами швов после операции заячьей губы, приплюснутым носом и широким ртом, он улыбался сдержанно, бледно. Когда он положил руку на стол, Стефан подивился ее размерам и изяществу. Стефан считал важными две вещи: форму ногтя и соотношение длины кисти с шириной. У доктора Марглевского и то и другое свидетельствовало о породе.
За столом сидела одна женщина. Она привлекла внимание Стефана, едва он вошел; он здоровался со всеми, и его поразил тогда безжизненный холод ее ладони, узкой и упругой. Мысль о том, что можно ласкать такую руку, и отталкивала, и возбуждала.
У госпожи (или барышни) доктора Носилевской было бледное лицо, обрамленное разметавшимися каштановыми волосами, отливающими, когда на них падал свет, медом и золотом. Под чистым красивым лбом – поистине крылатый разлет бровей, а под ними – строгие голубые глаза, в которых, казалось, то и дело вспыхивали электрические разряды. Она была идеально красива, и потому красота ее не бросалась в глаза сразу: ни одно пятнышко не раздражало взгляда. В спокойствии ее было что-то материнское, как у Афродиты, но стоило ей улыбнуться, как яркими искорками начинали улыбаться и волосы, и глаза, и крошечная впадинка на левой щеке – не ямочка, а игривый на нее намек.
Из разговоров Стефан понял, что работа хотя тяжелая и надоедливая, но интересная; что нет лучше призвания, чем психиатрия, хотя большинство присутствующих, если бы только представился случай, переменили бы специальность; что больные совершенно несносны, хотя спокойны и тихи, и что вообще не стоит лезть из кожи вон, поскольку в психиатры идут люди ненормальные, – следовательно, все вместе должны лечиться электрошоком, и точка. Противоречия эти объяснялись, разумеется, различием индивидуальных воззрений собеседников. О политике почти не вспоминали. Было тут как на морском дне: движения ленивы и медлительны, а мощнейшие бури на поверхности отзывались здесь какими-то новыми болезненными отклонениями, которые облекались в форму соответствующих диагнозов. На другой день выяснилось, что Стефан познакомился не со всеми врачами лечебницы. Направляясь вместе с доктором Носилевской на утренний обход (его прикрепили к женскому отделению), он встретил на вымощенной щебнем, орошенной каплями с деревьев дорожке высокого мужчину в белом халате, Стефан не успел его толком разглядеть, но запомнил хорошо. Его некрасивое желтое лицо было словно вырезано из какого-то твердого материала вроде слоновой кости, глаза прикрыты дымчатыми стеклами, нос – заостренный, огромный; кожа губ туго, как пленка, обтягивала зубы; он напоминал мумию Рамзеса Второго, которую Стефан видел на рисунке в какой-то книге: аскетическая отрешенность от возраста, некая вневременность черт лица. Морщины не свидетельствовали о прошедших годах, они были неотъемлемой частью этого лица-изваяния. Кроме того, врач – Стефан узнал, что это лучший хирург санатория, – был тощ как скелет, страдал плоскостопием; широко разбрасывая ноги, шлепая ими по грязи, он небрежно поклонился Носилевской и взбежал на ступеньки наружной винтовой лестницы красного павильона.
Носилевская держала в своей белой руке ключ, которым отперла дверь, ведущую в следующий корпус. Практически все здания соединялись длинными, остекленными сверху галереями, так что врачам, обходящим палаты, не страшны были ни холод, ни дождь. Галереи эти походили на тамбур оранжереи, крытый стеклом. Но стоило войти в корпус, как впечатление менялось. Все стены выкрашены светло-голубым масляным лаком. Никаких кранов, выступов, выключателей, дверных ручек: гладкие стены до уровня двух с половиной метров. В палатах, холодных и светлых, с ненавязчиво зарешеченными или затянутыми сеткой окнами, на подоконниках которых стояли в длинных ящиках цветы, вдоль двух рядов аккуратно, почти по-военному заправленных коек, прогуливались больные в вишневых халатах, шаркая шлепанцами на картонной подошве.
Доктор Носилевская, выходя из палаты, как-то машинально, едва заметным движением, словно во сне запирала за собой дверь, затем точно так же открывала следующую. У Стефана уже был свой ключ, но у него не получилось бы так ловко.
Вереница лиц – бледных и осунувшихся, будто обвисших на костях, или распухших, похожих на гриб-дождевик, полыхавших нездоровым румянцем, заросших щетиной. Мужчины были острижены наголо, а это стирает индивидуальность. Не прикрытые волосами шишки и прочие диковинные изъяны черепов своим безобразием, казалось, изгоняли с лиц всякое выражение. Оттопыренные уши, взгляд отсутствующий или упершийся в какой-нибудь предмет, словно скользящий к нему по стеклянной нитке, – именно это отличало большинство больных; по крайней мере такое представление складывалось во время стремительного обхода. В коридоре они встретили санитара, который тянул за собой больного. Обращался он с ним не то чтобы жестоко, но просто не как с человеком; однако, завидя Стефана и Носилевскую, на миг вроде смягчился. Откуда-то издалека доносился довольно миролюбивый рев, точно кто-то голосил не по принуждению, не от боли, а в охотку, словно тренируясь. Впрочем, Носилевская была особой незаурядной; Стефан еще утром понял это. За завтраком он, будучи эстетом, пытался запечатлеть в памяти ее черты, чтобы потом можно было их мысленно посмаковать. Тогда-то он и заметил, как она, по-лебединому склонив голову над дымящейся кружкой, устремила взгляд в никуда – решительно в никуда – и словно бы перестала существовать. Он, правда, видел, явственные признаки жизни: нежную пульсацию в ямочке на шее, безмятежный сумрак зрачков, трепет ресниц, но Стефан был уверен, что тень восторга, играющая на ее лице, выражает испытываемое ею наслаждение оцепенением, бездумным, полным небытием. Когда она пришла в себя и неторопливо перевела на него взгляд своих голубых и немного еще отрешенных глаз, он готов был испугаться, а минуту спустя отдернул ногу, когда колени их случайно соприкоснулись, – прикосновение это показалось ему угрожающим.
Кабинет Носилевской, уютно обставленный, помещался в женском отделении. Хотя не было здесь ни одной ее личной вещи, присутствие женщины чувствовалось даже в воздухе, – впрочем, естественно, это был всего лишь запах духов. Они сели за белый никелированный стол, Носилевская достала из ящика истории болезни. Как и всем женщинам-врачам, ей приходилось отказываться от маникюра, но ее коротко остриженные, закругленные ногти были по-мальчишески прекрасны. Высоко на стене висело распятие – маленькое, черное, придерживаемое двумя непропорционально массивными крюками. Стефана это поразило, но надо было сосредоточиться: докторица деловито растолковывала ему его обязанности. Голос ее подрагивал; казалось, ей очень трудно сдерживать его, чтобы он не рассыпался трелью. Стефан никогда еще не заносил в истории результатов наблюдений за психическими больными: готовясь к экзамену, он, разумеется, списывал. Узнав, что пока не придется заводить новые истории, а только продолжать вести записи в старых, он по достоинству оценил благорасположение к нему Носилевской – она, как и он, понимала, что вся эта писанина чертовски скучна и нелепа, но так надо, такова традиция.
– Ну вот, коллега, вы уже все знаете.
Стефан поблагодарил, и они приступили к пробному приему. Потом Стефан ломал себе голову: представляла ли эта элегантная женщина в чулках «паутинка» и со вкусом скроенном белом халате (застегнутом на пуговицу из искусственного жемчуга), как будет выглядеть эта жанровая сцена. Носилевская позвонила, вызвав санитарку – конопатую, приземистую девицу.
– Обычно мы обходим палаты и расспрашиваем больных о самочувствии и фантазиях, то есть симптомах, вы понимаете, коллега, но я хочу продемонстрировать вам часть моего царства.
Это действительно было ее царство: хотя он и не страдал клаустрофобией, но чувствовал себя паршиво, когда за ним магическим ключом одна за другой запирались двери. Даже здесь, в кабинете, на окне темнела решетка, а в углу, за шкафчиком с лекарствами, бесформенной кучей лежала небрежно скомканная парусина: смирительная рубаха. Привели больную; она выглядела дико в чересчур длинных и узких пижамных штанах. Бедра вызывающе выпирали. На ногах – черные башмаки. Лицо – застывшая маска, но чувствовалось, от нее можно ждать чего угодно. Она накрасилась; ее можно было посчитать даже привлекательной. Брови начернила прямо-таки нахально – наверное, углем, – продлив их до самых висков; вероятно, это и производило впечатление чудаковатости, но Стефану некогда было заниматься наблюдениями, так его шокировала первая же реплика вошедшей. На вопрос, что нового, заданный нейтральным тоном, без тени заинтересованности, больная многообещающе ухмыльнулась.
– Проведали меня, – сообщила она тонким, певучим голосом.
– Ну и кто же у вас, Сусанна, был?
– Господь Иисус. Он ночью приходил.
– Неужели?
– Да. Залез на кровать и… – Она употребила наиболее вульгарное определение полового акта, глядя Стефану в лицо с любопытством, словно говоря: «И что ты на это?..»
Стефан, хоть и был врачом, попросту остолбенел и так смутился, что не знал, куда девать глаза. Между тем Носилевская вытянула из кармана миниатюрный портсигар, угостила его, закурила сама и стала расспрашивать больную о подробностях. Они были такие, что у Стефана тряслись руки, когда он подавал коллеге огонь. Сломал три спички. Его уже чуть ли не тошнило, а Носилевская попросила его проверить рефлексы – он с грехом пополам справился с этим. Потом санитарка, все это время равнодушно стоявшая поодаль, взяла больную за руку, дернула, словно узел с бельем, и, не дав ей договорить, вывела за дверь.
– Паранойя, – сказала Носилевская, – у нее часто бывают галлюцинации. Разумеется, коллега, все записывать не надо, но пару слов все-таки черкните.
Следующая больная – старая тучная женщина с рыжевато-седыми волосами и пористым лицом – проделывала сотни движений, замиравших в зародыше, словно хотела отбиться от державшей ее сзади за складки халата санитарки. Говорила она без умолку; поток слепленных друг с другом слов, без склада и лада, не иссякал даже тогда, когда ей задавали вопросы. Неожиданно она дернулась сильнее – Стефан невольно отпрянул вместе со стулом. Носилевская распорядилась ее вывести.
Третья потеряла уже всякий человеческий облик. От нее валил пустой и приторный смрад. Тшинецкому пришлось собрать вес силы, чтобы усидеть на месте. Трудно было догадаться, какого пола это долговязое истощенное создание. Сквозь дыры халата на вздутых, похожих на яблоки суставах проглядывала синеватая кожа. Лицо было костистое, широкое, тупое, как у куклы. Носилевская что-то сказала больной – Стефан не разобрал что. Тогда та, не сдвинувшись с места, откинув в сторону руку, заговорила:
– Menin aeide thea…[8]8
Гнев, о богиня, воспой… (греч.)
[Закрыть]
Больная декламировала «Илиаду», правильно выделяя цезуры гекзаметра. Когда санитарка вывела ее, Носилевская сказала Стефану:
– Она – доктор философии. Некоторое время находилась в кататонии. Я специально ее вам показала, это почти классический случай: идеально сохранившаяся память.
– Но какой же вид… – не выдержал Стефан.
– Не корите нас за это. Дали бы ей чистые вещи, через не сколько часов они стали бы точно такими же, невозможно возле каждого копрофага[9]9
Здесь: пожиратель экскрементов (греч.).
[Закрыть] поставить санитарку, особенно теперь… Мне надо сходить в аптеку, а вы соблаговолите заполнить истории болезни, потом впишите номера и даты в книгу. Эту бюрократическую формальность мы, к сожалению, должны выполнять сами.
У Стефана так и вертелся на языке вопрос, часто ли приходится выслушивать такие мерзости, какие рассказывала первая больная, но это обнаружило бы его полнейшее невежество, поэтому он промолчал. Стал перебирать бумаги. Носилевская вышла. Когда он закончил, ему стоило больших усилий взять себя в руки, чтобы выйти в палату. Там прохаживались женщины. Некоторые, хихикая без устали, украшали себя бумажками, лоскутками, тесемочками. В углу стояла кровать с боковыми сетками и таким же веревочным верхом. Пустая. Когда Стефан проходил вдоль стены (он инстинктивно старался не поворачиваться к больным спиной), откуда-то сбоку раздался протяжный, плаксивый вой. За очень толстым стеклом, вставленным в низкую дверь, виднелся освещенный лампой изолятор, по которому носилась голая женщина, колотясь всем телом, как мешком, в обитые стены. Когда глаза ее натолкнулись на лицо Стефана, она замерла. Какой-то миг побыла она нормальным человеком, устыдившимся отвратительного зрелища и собственной наготы. Потом что-то забормотала и стала приближаться к двери. Наконец, когда лица их разделяло только стекло, по которому разметались ее длинные, рыжеватые волосы, она раззявила посиневший рот и исцарапанным языком начала лизать стекло, оставляя на нем полосы розовой слюны.
Стефан кинулся прочь, даже не пытаясь себя сдерживать. Следующая палата встретила его криком. В умывальной санитарка пыталась затолкать в ванну больную – та ревела и вовсю брыкалась. Ноги ее были багрово-красными. Оказалось, что вода слишком горяча. Стефан велел добавить холодной. Он был чересчур учтив с санитаркой, понимал это, но не смог на нее накричать. Оправдываясь перед собой, что время для этого еще не пришло. В третьей палате – храп, хрипы и свист. Под темными одеялами на койках лежали женщины, усмиренные инсулиновым шоком. Порой из-под одеяла выглядывал чей-то светло-голубой глаз и бессмысленно, словно глаз насекомого, следил за ним. Какая-то больная провела пальцами по его халату – просто так. В коридоре он встретил Сташека. Видимо, Стефана выдавало лицо, так как друг похлопал его по плечу и быстро заговорил:
– Ну, что там еще? Ради Бога, не принимай этого так уж всерьез… – Сташек заметил, что белый халат Стефана потемнел под мышками. – Так вспотел? Ну и ну…
Стефан с облегчением исторг из себя рассказ о первой больной и о том, как выглядели другие. Кошмар!
– Ты ребенок. Это не высказывания и не суждения, а симптомы. Симптомы болезни, ясно?
– Не хочу тут больше оставаться.
– Женское отделение всегда похуже. Не болтай ерунды. Впрочем, я уже говорил с Пайпаком. – Стефан с удовлетворением отметил, что Сташек немного важничает. – Я это предвидел, но Носилевская действительно одна, и ей нужна помощь. Для проформы побудь у нее с неделю, потом тебя перебросят к Ригеру, а может, ты предпочитаешь… Погоди, это идея. Ведь ты же когда-то был анестезиологом у Влостовского?
Действительно, Стефан довольно прилично давал наркоз.
– Видишь ли, Каутерс как раз жалуется, что у него никого нет. Ну, Орибальд, знаешь.
– Что?
– Доктор Орибальд Каутерс, – по складам произнес Сташек. – Забавное имя, верно? Он смахивает на египтянина, а родом вроде бы из курляндских дворян. Нейрохирург. Неплохо оперирует!