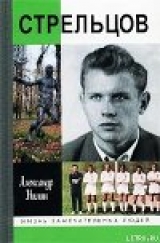
Текст книги "Стрельцов. Человек без локтей"
Автор книги: Александр Нилин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
С дипломом ВШТ можно было поехать работать куда-нибудь в провинцию старшим тренером. Но и сам Эдик из Москвы никуда не рвался. И Раиса сказала: «Все равно мы этих денег не увидим – прогуляет. Пусть уж будет под боком…» И он с дипломом продолжил работать в школе «Торпедо».
Алла рассказывает: «…Милашка собралась замуж, и у меня какие-то деньги случайно подошли: и страховка, и ссуду дали долгосрочную, и отпуск один и второй. В общем, у меня откуда ни возьмись деньги, а купить нечего, ребенка одеть не во что. Думаю, ну что же это, хоть раз надо ему позвонить. И позвонила. На Раису Михайловну наткнулась, говорю, мне бы поговорить с Эдуардом. Видно, он был хорош, она говорит: „А что вы хотите?“ Я говорю, у меня дочь замуж выходит, деньги-то есть, мне ничего не надо, но вот, может быть, что-нибудь достать может? У него какой-то круг есть. „Да что он может? – говорит она. – Это я вот могу, и я для вашей дочки сделаю, пусть она ко мне приезжает“. Милка с будущим мужем поехали к ней в ЦУМ, и она ее прекрасно одела. И шубку ей французскую, и сапожки, и два платья, и под кожу какой-то пиджак. Спасибо большое».
48
Ничего бы не случилось страшною – стань ветеранские матчи своего рода аналогом Музея восковых фигур мадам Тюссо.
Но мы не любопытны, мы так и живем с не поставленным, не привитым по-настоящему за столько лет футбольным вкусом, да и бедны – способны платить лишь за результат.
Правда, и в самих ветеранах дольше всего не угасает соревновательный дух – и выход наружу ему требуется.
В те давние времена начала ветеранских матчей и гастролей звезд по стране про законы шоу никто у нас не слышал. Но пока таланты были у нас в бесхозно неучтенном множестве, кое до чего и своим умом доходили. Шоу, пришедшие к нам из-за рубежа, просто умело (или неумело) оформили, привели в систему то, что возникало спонтанно.
На меня – если говорить искренне, а не из вежливости и почтения к мифу – ветеранский матч произвел впечатление лишь однажды – году, если память не изменяет, в пятьдесят седьмом.
В Москве на «Динамо» играли сборные ветеранов Москвы и Киева. Матч, как показалось мне, отличался богатым подтекстом. Ветераны в сущности были молоды – и футбол в их исполнении казался не замедленным, а укрупненным сниженным темпом для лучшего рассмотрения. Продолжалось соперничество и внутри столичной ветеранской команды. За Москву выступали динамовцы и армейцы. Во втором тайме Трофимов с Бесковым сменили Гринина с Николаевым – и радовались, когда им говорили, что сыграли они лучше коллег из ЦСКА, из ЦДКА, вернее.
Но первым номером все равно прошли Бобров с Федотовым. Григорий Иванович незадолго до смерти своей в сорок один год забил красивейший гол в федотовском стиле – с плавного разворота в девятку. Забил – к пущему восторгу ценителей – с бобровской подачи…
Вчерашний день не стал еще историей – публика не успела свыкнуться с неизбежным расставанием с главными величинами. А то, что превратилось в историю, продолжало живо волновать.
Но дальше действие и зрелище постепенно перенесли в провинцию – большую глубинку – и многосерийность ожившей кинохроники закрутилась безостановочно.
Для сошедших знаменитостей выступления за ветеранов превратились в самый верняковый и веселый заработок. В продление образа жизни, в самоутверждение и необходимое для присутствия духа общение. Пребывание на людях, ими восторгавшихся, искупало ветеранам ту безнадегу, в какую большинству из них приходилось впадать в буднях московского быта.
Выступление за ветеранов становилось для тех из них, кто помоложе, исполнением и неосуществленной некогда футбольной мечты – сыграть вместе с теми, кого в детстве брали за образец. И с умом укомплектованная команда могла служить учебником футбольной истории.
Нравы в поездках царили свободные, хотя блюстители принятой строгости общественного поведения – Игорь Нетто, Никита Симонян, в меньшей степени Сергей Сальников – мешали совсем уж развернуться банкетным запевалам. Но генералы, тяготевшие к морали, кроме Сергея Сергеевича, вскоре перестали ездить регулярно – заняли посты, не позволявшие срываться с места то и дело.
Не захотел участвовать в поездках по стране с ветеранами и Яшин. Лев Иванович говорил, что наигрался в футбол под завязку, – и новых приключений не хочет. Но вратарю и труднее поддерживать репутацию. Часто пропускающий голы Яшин разрушал миф о себе. И, конечно, особое положение все-таки сделало Льва и менее коммуникабельным – представить его себе участвующим в проказах, в которых на выездах озорные ветераны не считали нужным себе отказывать, было уже невозможно.
Словом, фигурой № 1, гастролером, гарантирующим постоянные аншлаги, стал начиная со второй половины семидесятых годов Эдуард Анатольевич.
Без Стрельцова администраторы на серьезные гастроли и не решались.
Публика в некоторых городах выходила на улицы с плакатом: «Даешь Стрельцова!» И сам он – при всей уютно проклюнувшейся в нем домашности – полюбил поездки. Ездил и совсем больным, когда просили-умоляли только выйти на поле в трусах и майке…
Севидову показалось, что к работе в школе с детьми он поостыл, удостоверившись, что из Игоря большого игрока не выйдет. Интересно, что бабушка Софья Фроловна, разочек посмотрев, как внук играет, незамедлительно пришла к выводу, что он по стопам отца не пойдет. Раису футбольная будущность сына волновала постольку-поскольку. Она, конечно, спрашивала Эдуарда, когда приезжал он с мальчишеских матчей: «Ну как?» Папа, по словам Игоря, махнет рукой – и воздержится от комментариев. Но примириться с мыслью, что сын игроком не станет, Стрельцов не мог довольно долго. Мне он как-то на мой вопрос о будущем Игоря ответил, что рано еще говорить – надо подождать лет до двадцати пяти, не все созревают рано. Сын поиграл и за торпедовский дубль – я видел гол, лихо забитый им резервистам «Спартака». Ездил он и за провинциальный клуб играть…
В апээновском архиве осталась фотография, сделанная Димой Донским: на трибуне лужниковской – маленькие сыновья Стрельцова, Иванова и Воронина. Игорь, Валя и Миша. У всех троих находили способности, но и судьбы Володи Федотова никто из них не повторил. До команды мастеров дошел только Валя Иванов-младший, но что-то там тоже не задалось; по словам Валентина Козьмича, начальники не советовали ему ставить сына в основной состав. Зато Валентин Валентинович вырос в судью международной категории. Миша после всяческих метаний стал во главе Фонда Воронина. Игорь Стрельцов – капитан милиции. В милицию его сосватал Михаил Гершкович, когда руководил футбольными командами «Динамо». Неисповедимы пути Господни.
Севидову Эдик самокритично сказал в минуту откровенности, что не может считать себя детским тренером, раз из сына футболиста не смог сделать.
В поездках по стране рядом с Эдуардом всегда оказывался человек, на которого он мог во всех своих беспутствах положиться. Причем опекун не должен был быть трезвенником и монахом, но должен был знать меру, чтобы обязательно подстраховать Стрельцова. В команде торпедовских ветеранов таким «ангелом»-хранителем становился Георгий Янец. В сборной – Юрий Севидов, когда не тренировал команды, а ездил с ветеранами. Но Раиса всего спокойнее себя чувствовала, когда жизнью мужа в разъездах руководил динамовец Эдуард Мудрик. И Стрельцов любил везде бывать с Мудриком – свято верил во всесилие выданной тому МВД ксивы. Вот, кстати, о парадоксах советской действительности – человек из семьи репрессированных продвигался в динамовской системе беспрепятственно и пользовался абсолютным доверием начальства из строжайших ведомств.
Мудрик очень любил тезку. И даже не самым красивым эпизодам, случавшимся с Анатольевичем на выезде, придавал романтическое толкование. Скажем, живут они в люксе; загулявший с комсомольскими работниками Стрельцов отдыхает в дальних покоях – и вдруг динамовскому другу кажется, что у спящего выросли на лысой голове черные волосы, в брюнета превратился. Оказалось, что мухи облепили потную лысину – дело происходило в Молдавии, в жару. И что же на это Мудрик сказал? Русскому медведю лень даже мух от себя отогнать – богатырский сон.
На гастроли с футболистами по Молдавии поехал Евгений Александрович Евтушенко.
У Евгения Александровича была своя заветная мечта – сыграть вратарем за команду мастеров. Он когда-то экзаменовался у Якушина – и говорят, что выдержал экзамен, но почему-то предпочел в юности футболу гуманитарную деятельность. И вот по прошествии лет захотелось наверстать упущенное. В престижные ворота поэта так и не поставили – держали в запасе. Но на банкетах одной всемирной звездой стало больше.
На гулянке у виноделов директор поставил на стол, за которым сидели главные футболисты вместе с Евтушенко, графин драгоценного французского коньяка. И к ужасу винодела коньяк этот выхлестали стаканами. Директор, забыв про величие гостей, стал их отчитывать за преступную простоту нравов. Евтушенко с некоторым опозданием присоединился к нему, подтвердив, что такой коньяк надо целовать, греть в бокале ладонью, дуть на него с осторожностью перед тем, как пригубить… Рассказ заинтересовал Стрельцова – ему захотелось лучше распробовать ненароком проглоченный напиток. И они с Мудриком двинулись вслед за покинувшим собрание директором. Стрельцову директор, разочаровавшийся было в футболистах, не сумел отказать – завел к себе в кабинет, вынул из сейфа другой графин и разрешил выпить, не выходя, однако, из комнаты…
За столом продолжавшегося до петухов банкета Евгений Александрович рассказал и кое-что, относящееся к поездке в Чили, где он был одновременно с футболистами сборной СССР. Не подтвердив во всех деталях стрельцовское воспоминание о том, как у него не хватило денег на премию за голы, забитые центрфорвардом сборной, он задержался на другом эпизоде этой латиноамериканской эпопеи.
Евтушенко позвонил в номер отеля шеф тайной полиции Чили, их Андропов, как перевел мне Мудрик, и настоятельно посоветовал подъехать в бордель мадам такой-то. Предупредил, что находившимся там футболистам грозит неприятность – вряд ли они смогут расплатиться по счету. Они сделали заказ, сообразуясь с теми ценами на выпивку, какие существовали в магазинах. В борделе же существовала значительная наценка. Евгений Александрович сказал полицейскому, что у него нет наличных денег. Местный Андропов порекомендовал воспользоваться кредитной карточкой…
Короче говоря, честь советского спорта была спасена. Фамилий заседавших в борделе господ футболистов Евтушенко и в Молдавии из конспирации не назвал. По ухмылке Стрельцова Мудрик не понял: был ли тот среди спасенных автором забытого к тому времени рассказа «Третья Мещанская»?
Или бенефис Яшина.
Решили провести в Туле представительный ветеранский матч – и денег никому из игроков не брать, весь сбор отдать Леве.
Участие, Стрельцова в таком матче само собой разумелось. Но загодя предупрежденный, он, по обыкновению, чего-то перепутал – и накануне поездки в город оружейников переусердствовал в каких-то гостях. И Раиса с Мудриком по всей квартире собирали ему вещи в сумку – сам футболист (между прочим, прозвище Эдуарду ветераны придумывали исчерпывающее – Сам: почтение в нем маскировалось иронией, а ирония – почтением) ни о чем не позаботился: ни о трусах, ни о гетрах, ни о бутсах. Внизу у подъезда двух Эдиков ждал Валерий Маслов с приятелем-официантом какого-то ресторана.
Не успели выехать за черту Москвы, как увидевший сельпо Стрельцов потребовал остановки – так рано вином торговать не разрешалось, но страждущий надеялся на эмвэдэшное удостоверение Мудрика. Замка на дверях он не углядел.
На следующем сельпо тоже висел замок. Маслов не выдержал страданий товарища, но для порядка прикинулся непонимающим: «Ты что, Эдик, выпить хочешь? У меня есть – жена завернула. Но давай только до леска доедем, там остановимся…» При виде первых же трех сосен Стрельцов воскликнул: «Все, Масло, лес!»
Стрельцов вышел на поле в полном порядке – порадовал бенефицианта. На банкет оставаться центрфорвард не пожелал: «Мне полегче стало, не стоит заводиться – поехали, Масло!» Но на темном шоссе человека, проявившего характер, посетили сомнения: правильно ли он сделал, отказавшись выпить рюмку за здоровье Левы? К счастью, дорожный буфет Маслова не совсем опустел. И теперь повеселевший Эдик с нетерпением ждал прибытия в Москву – надо было успеть до закрытия магазинов. Валерий сделал вид, что не заметил сделанного ему знака – и они промчались мимо еще не закрытой торговой точки. Подвез Стрельцова прямо к парадному его дома. Но домой никто не торопился. Эдик-старший (Мудрик на год моложе Стрельцова) попросил карандаш и бумагу – и командировал попутчика-официанта с запиской к мясникам за кулисы прекратившего торговлю напитками родного магазина. Подателю письма со стрельцовским автографом без проволочек продали две бутылки водки. Домой Эдуард Анатольевич поднялся в том виде, в каком и ожидали его увидеть после банкета по случаю бенефиса Левы Яшина.
Не выдержал и проявивший чудеса стойкости водитель Маслов. Возле Часового завода он притормозил – и предложил Мудрику зайти в мало кому известное питейное заведение, напичканное кагэбэшной аппаратурой, о чем напомнил одноклубнику Эдик-младший. «Мы лишнего болтать не будем, выпьем коньяку, – заверил Валерий, – а три километра до Покровского-Стрешнево я уж как-нибудь доеду».
За этими веселыми историями (типа: администратора Полякова Стрельцов спрашивает: «Мне раздеваться?» – «Обязательно». – «А играть буду?» – «Ни в коем случае»; или севидовский рассказ, как Эдик, пробудившись поутру, спрашивает: «Был ли вчера матч?» – «Был!» – «А я играл?») можно, как за деревьями леса, не увидеть Стрельцова – футболиста, на которого и стекался посмотреть народ.
Но вот серьезный парень Евгений Ловчев – игрок № 1 сезона семьдесят второго года и к тому же непьющий (за всю жизнь – два бокала шампанского на свадьбе) – в своих устных ветеранских мемуарах упор делает на ощущения от партнерства со Стрельцовым только на поле: «Не успеешь открыться – мяч уже у тебя». Ловчеву и в мемориальных матчах интереснее всего Эдуард – игрок. И у самого Эдуарда юмор проецировался чаще на происходившее в игре, а не в гостиничных номерах и коридорах. В Германию он ездил в составе, где преобладали киевляне – Блохин и другие. В киевском «Динамо» Стрельцов выделял «умницу Веремеева». К другим относился прохладнее – их игра была ему не близка. И про матч с немцами он рассказывал, выделяя разногласия: «Я им говорил, что для их передач мне нужно лестницу подставлять…»
И все же вряд ли есть резон в академическом ключе рассматривать стрельцовский футбол в его чисто ветеранском варианте.
Мне кажется, что, вспоминая гастроли по стране, лучше сказать о даре общения, проявленном Эдиком. Да, тоже даре, при том, что в общепринятом понимании он далеко не всегда казался общительным. В том смысле, что сам Стрельцов в обществе не очень и нуждался. Но в общении никому не отказывал. На протяжении своего рассказа я давал слово тем, кто видел в открытости и безотказности желанию свести с ним компанию причину преследовавших Стрельцова бед. Но всенародный интерес к нему – в чем-то и оборотная сторона удручавшей многих особенности Эдика.
Он оправдывал надежды всех, кто хотел с ним познакомиться. Он сполна отвечал представлениям о себе всех тех, кто видел его на поле – и разглядел в нем своего человека. Разглядел, может быть, самого себя в несказанно улучшенном варианте. Он оправдывал ожидания и тех, кто знал историю его жизни. В стране, где тюрьмы не избежал едва ли не каждый третий, Стрельцов, потянувший срок, но все равно свое себе вернувший, и с меньшим футбольным талантом претендовал бы на признание национального героя.
Среди тех, кто обступал Эдуарда после матчей ветеранов, обязательно преобладали бывшие зеки. И девять из десяти утверждали, что сидели с Эдиком вместе в лагерях. И он ни от кого не отрекался, не желая огорчать – делал вид, что припомнил, узнал того, кто набивался ему в тюремные земели.
Мудрик и сейчас содрогается, вспоминая, как согласился он поехать за сорок километров от Бухары вместе с пригласившими Стрельцова господами, уверившими, что делили с ним нары. Приехали в какое-то дикое селение, откуда и не чаяли вернуться, озираясь на населявший его криминальный контингент: кто бы и догадался там искать пропавших футболистов? И ничего же – попили, поговорили, повспоминали небывшее…
И мог ли Эдуард Стрельцов в русле положенной ему судьбы миновать Чернобыль? Что, скажите, обошло стороной его на коротком веку? Война? Она не убила отца Эдика, но из семьи увела. Суму с послевоенным голодом он узнал. Тюрьму в якобы оттепельные времена – по полной программе…
Ехали на матч – шел восемьдесят седьмой год – мимо мертвых садов. Поле, на котором играли, находилось от Чернобыля километрах в двадцати. Людям, оставшимся здесь жить, платили добавочные пятнадцать рублей – гробовых, как по-черному острили. Посмотреть игру сборной СССР (Пшеничников, Гусаров, Шустиков…) народу собралось достаточно. Но, вспоминает Севидов, казалось, что никого на трибунах нет, так тихо смотрели местные жители футбол. И после матча в тех, кто подошел к футболистам, угнетала полная подавленность эмоций.
49
Алла рассказывает: «Я Эдика и видела иногда, но видела в таком виде, что, думаю, он не захотел бы, чтобы я его видела таким. И я проходила мимо…» Вот такая история, нравится она вам или нет…
«…ДО КЛАДБИЩА НЕ ДОЙДЕШЬ»
50
Перед каким-то праздником в самом конце восьмидесятых, чуть ли не перед Новым годом, Эдик позвонил мне по телефону – поздравить. Единственный за все времена нашего знакомства и общей работы раз. У нас и не было заведено, чтобы звонить без дела. У нас были деловые отношения, просто мы их умели разнообразить – и превращали иногда трудовые будни в затяжной праздник. Стрельцов, когда хотел быть деловым, выглядел, конечно, своеобразно.
Однажды он разыскал меня в писательском Доме творчества – и упрекал, что я вот куда-то запропал, а пришел из Ташкента (снова Ташкент, что же это за наваждение?) договор на перевод мемуаров на узбекский язык. И надо этот договор поскорее подписать. Я знал, что ни в каком договоре не фигурирую, остаюсь за кадром – и для юристов и бухгалтерии требуется одна подпись Стрельцова. Я сказал в телефонную трубку: «Ну прочти, что они там пишут?» – «Они так и пишут: Саша Нилин должен…» – «Ты по бумаге читаешь или сам сочиняешь?» – «По бумаге, но я без очков не вижу…»
В поздравительном звонке мне не понравился его голос – хриплый, как будто Высоцкий звонит. Но говорил он весело, с той ласковостью обращения, какая бывала у него, когда выпивши.
Потом мы встретились в динамовском Дворце на улице Лавочкина. Там проводили шоу с участием спортсменов, актеров и различных деятелей искусства. Чего-то со сцены угадывали-отгадывали. Мне поручили два номера – с Владиславом Третьяком и со Стрельцовым. Иванов с Лидой тоже пришли, но сидели в зале – на сцену не поднимались.
В толпе почетных гостей к нам привязался какой-то седой человек и восклицал: «Вы посмотрите! Мы с Валентином Козьмичом – ровесники. Но как выгляжу я – и как сохранился в неприкосновенности он!» – «Жена молодая!» – подарил реплику знаменитый штангист Воробьев. «Спасибо, Аркадий Иванович!» – поблагодарила Лида.
За кулисами расставили столы с огромным количеством бутербродов с дорогой колбасой разных сортов – в магазинах той поры, напомню, ничего на прилавках не было, – с пирожными, конфетами, фруктами, сладкой водой. Но выпивки не было совсем. Никто этому не удивлялся – Горбачев оставался у власти, хотя с тем, что алкогольная кампания провалилась, он, похоже, сам уже соглашался.
Стрельцов пришел, когда до начала шоу оставалось минут десять. Бледность его лица сразу показалась мне нездоровой. По той решительности, с какой оставил он спутников – известных футболистов и куда-то потащил меня в глубь закулисья, я предположил, что Эдик бледный с похмелья – и есть у него какой-то план. Так оно и было. В помещении, где почему-то оказалась дверь, ведущая на обыкновенную кухню, Стрельцова встретили обрадованные его приходом женщины. И одна из них завела нас на эту самую кухню с газовой плитой. И вытащила откуда-то – не из холодильника – бутылку коньяку и чашечки. «Разлей, Санюля!» – сказал Эдик. Я стал открывать бутылку. Но тут вместе с женщиной, чей коньяк, подошел к нам солидный господин. Его нам – точнее, Стрельцову – представили как спонсора шоу. Я предупредительно налил дефицитного напитка и спонсору. Он, когда чокнулись и выпили, сказал, что не может забыть про гол, забитый Эдуардом Анатольевичем в Тирасполе. «А я в Тирасполе никогда и не играл», – огорошил любителя футбола Эдик. Коньяк еще не был допит – и я шепнул Стрельцову на ухо: «Тебе трудно сказать, что был?» Он меня понял – и спохватился: «Ну, может быть, играли не на первенство Союза, тогда может быть…» Всем нам сделалось легче на душе. Спонсор извинился занятостью – и оставил нас с коньяком. Мы еще немножечко выпили, но, как люди хорошего воспитания, оставили грамм сто двадцать в бутылке. О чем Эдуард пожалел, не успели отойти мы от кухни и десяти шагов. Но не возвращаться же, правда?
Собственно на шоу Стрельцов не остался – с началом затянули, а он опаздывал на поезд в Горький, еще не переименованный обратно в Нижний Новгород.
…Я не был на похоронах Яшина. Но от тех, кто приходил попрощаться со Львом Ивановичем, слышал, что Эдуард Стрельцов приходил на панихиду из больницы, вид у него был ужасающий – и о том, что и у него рак, шептались по всем углам.
Я узнал, что он на Каширке, – и собрался к нему. Но Раиса сказала, что на выходные Игорь привозит его домой. Я и забыл, что у них снова есть машина. В свое время Раиса тотчас же продала автомобиль, как только, возвращаясь из ЦУМа после работы, застала мужа спящим на газоне возле подъезда – Эдика хватило на то, чтобы мастерски припарковать машину, но уж подняться на одиннадцатый этаж он был не в состоянии. Но когда Игорь поступил в институт – Центральный институт физкультуры, как с выражением и уважением произнес, говоря мне об этом, счастливый отец, получавший образование в Малаховке, – Эдуард счел необходимым опять обзавестись машиной, поскольку в семье вырос еще один водитель. В те времена и для Стрельцова приобретение автомашины превращалось в трудноразрешимую проблему. Он долго надеялся на благоволение зиловского начальства. Пришла на помощь Раисина сестра – очередь Надежды за шестыми «жигулями» на ее предприятии подошла, и она оформила родственнику доверенность. Но в конце жизни появилась все-таки у Эдуарда и «восьмерка» – и на ней Игорь возил отца из больницы и в больницу.
Я застал Эдика заметно исхудавшим. (Надежда говорит, что похудел он на несколько размеров, с пятьдесят восьмого до пятьдесят второго, а Игорь, вспоминавший, как они в старое время не могли вдвоем с матерью на кровать папу переложить – одна его нога казалась сыну неподъемной, – теперь мог отца на руках носить.) Но в первый момент не показался он мне безнадежно больным. При том, что Эдик с места в карьер сказал, заговорив про яшинские похороны, что, подойдя к гробу, непроизвольно подумал: ну вот и я за Левой следующим.
Яшин болел долго – и в своей грозной продолжительности болезнь его, разветвляясь, все усиливалась. Ампутация ноги почти не повлияла на привычное нам за столько лет впечатление от образа и облика первого вратаря. Лев Иванович и на протезе ни у кого не вызывал инвалидской жалости. Яшин выглядел воином, потерявшим ногу в знаменитом сражении. Так оно и было – развивавшиеся в спортсмене болезни так или иначе оказывались следствием сверхдолгой футбольной карьеры.
То, что теперь Яшин передвигался на протезе, ни в ком не вызывало мысли, что круг деятельности Льва будет ограничен. Но все очевиднее становилось, что места в действующей футбольной жизни ему не найдено. Ни возраст, ни болезни не освобождали лучшего в истории вратаря от необходимости оставаться и дальше в раме парадного портрета – и тяжелый багет этой рамы давит на Льва Ивановича в будни, мешая справляться с заботами, в которых Яшин приравнивался к прочим. Не думаю, чтобы он совсем уж бедствовал в материальном отношении. Офицерская аттестация в солидном чине (хотя какой чин мог сопрягаться с величием заслуженного имени?), должность, постепенно теряющая практическое очертание функций… Ни на что Яшин не влиял, регулярно представительствуя где-либо. Такая жизнь, вынуждая без нужды быть все время на виду, еще больше закрепощала Льва, лишая всякой инициативы в распоряжении своей жизнью и в возможности ее улучшения. Рискну предположить, что и развитию болезней он обязан в равной степени и футболу, и тому, как протекала его жизнь после футбола.
Время от времени в кругу посвященных возникали разговоры об ухудшении Левиного состояния, которое может привести к ампутации и второй ноги. Но прогресс другого заболевания развернул недуг в другую сторону.
Угасание началось сразу после пышно отпразднованного шестидесятилетия. Праздник Яшина стал одним из последних советских праздников. И время, пощадившее репутацию великого вратаря, омрачило остаток жизни Льва Ивановича недостойной гримасой происходящего со страной. Чуть ли не год тянулась отвратительная комедия с присвоением Льву Яшину золотой звезды героя социалистического труда. Сомнений в том, что он-то в самом большом смысле – герой этого, оцениваемого, как крепостной, труда, ни у кого не возникало. Но с вручением постыдно-издевательски тянули – и достаточно комическому в общественном сознании начальнику Рафику Нишанову пришлось ехать с наградной коробочкой и дипломом к Яшину домой, в Чапаевский переулок. Дотянули до ситуации, когда герою мучительно трудным оказалось надеть на себя выходной костюм. Звезду прицепили к пиджаку страдальца, чьих дней на этом свете совсем уж не оставалось.
…Игорь Стрельцов говорит, что болезнь отца, выражавшаяся сначала в постоянных воспалениях легких, приобрела зримо опасные черты, может быть, в середине восьмидесятых, когда ему пришлось обращаться к врачам с ушибом в области пятого ребра. Он неудачно упал, когда играл в футбол с детьми – и один ребенок неловко под него подкатился, а Эдуард, чтобы не зашибить его тяжестью своего тела, сумел кувыркнуться в другую сторону, приземлившись на левый бок.
Игорь вспоминает, что тогда и был сделан, как он выразился, отщип, не понравившийся онкологам. Но то ли повторных анализов не сделали, то ли не подтвердилось подозрение. Что-то, в общем, по медицинскому недосмотру прошляпили – и лечили потом запущенную болезнь.
После первого же обстоятельного разговора с врачами на Каширке Раиса вернулась в слезах – узнала диагноз. От нее не скрыли, что жить мужу остается месяца три.
Каширка началась осенью восемьдесят девятого – и с короткими перерывами продолжалась до июля девяностого.
Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь Эдуарда от мыслей о скором конце, высказываемых им прямо, – позже я слышал и читал, что Стрельцов не верил в смертельный исход болезни и говорил, что вот-вот вернется из больницы домой, но это он просто мечтал умереть дома, иллюзий у него не было – я придумал расширение и дополнение вышедшей книги. Никаких издательских предложений и договоров я предъявить не мог. Но ему и не нужны были ничьи гарантии – ему просто надоело оставаться наедине со своими мыслями, и мои мечты о возможном переиздании книги его развлекали. Единственное, на чем он настаивал, – разговаривать о ней дома, а не на Каширке.
Разговоры о смерти, которых он не боялся – жаловался, что чувствует, как от него пахнет мертвечиной, – ничего не меняли в давно установившемся характере наших отношений. Я не старался говорить ему что-то в утешение, зная, что не примет он моих утешений. Но быть со Стрельцовым неискренним я бы не согласился.
И мы интуитивно пришли к единственно, наверное, возможному на время встреч согласию. К тому, что неизбежное слишком велико, чтобы вмещаться в суету заведенных между нами разговоров. Но эта суета и уведет нас на неопределенное время от темы. И смерть превратилась в наших беседах вроде бы в ту данность, которую и стороной не обойдешь, но и вспоминать поминутно какой же теперь смысл… Смерть незаметно ушла в подтекст ничего не значащих, как вчера еще казалось, слов – слов, противоречащих обыденностью тона тому, чего не миновать.
При одной из наших последних встреч он много выпил, ничем не закусывая, – и барахтался в полудреме, полубреду, из которых вдруг вынырнул, спросив безотносительно к предыдущему бормотанию: «Одного не пойму… за что меня посадили?»
В середине мая я уезжал на два с половиной месяца в Ялту, где вплотную и собирался заняться новой редакцией книги. Эдуард, когда я зашел к нему попрощаться, спохватился вдруг, что в доме нет не только рекомендованного ему врачами красного вина, выгоняющего, как понял Стрельцов, из организма радиацию, но и никакой выпивки вообще…
Антиалкогольный абсурд продолжался – и в чужом (в его то есть) районе я ничем не мог ему помочь. Кто поверит, если я скажу, что пришел за водкой для Стрельцова? Но записки мясникам он почему-то писать не захотел – сказал, что сходим вместе – и не к мясникам, а есть другое место.
И он начал одеваться.
Рубашку, вельветовые брюки, башмаки он натягивал на себя не меньше получаса. Потом, не вставая с табурета, он зажмурил от усталости глаза – и, не размыкая век, попросил меня дотянуться до верха шкафа: «Возьми деньги!» На шкафу лежала зеленая пачечка пятидесятирублевок – заначка умирающего от жены – деньги, скорее всего заработанные Стрельцовым последним в его жизни выходом на поле. А может быть, и нет – просто деньги, полученные по больничному листу. Какая разница?
Мы спустились на лифте вниз – и пошли вокруг дома длиной в полквартала. Я вспомнил Баталова в фильме про облученного физика. Мы шли вместе со Стрельцовым, но в этом походе он оставался один. От облучения у него вылезли последние волосы – он стеснялся голой головы и носил серый Раисин берет, залихватски сдвинутый на ухо…
В пункте приема стеклотары сделали вид, что не замечают изменений во внешности Анатольевича. Он купил две бутылки водки – одной, подумал я, он не обошелся бы и на смертном одре. Но когда мы с продолжительными остановками добрались до квартиры, Эдик сказал, что вот сегодня выпьет, а завтра пить не будет.
И действительно, он больше не курил и не пил. Врачи на Каширке настоятельно советовали ему пить хотя бы по рюмочке коньяку. Но коньяк так и стоял у него в палате, а он за оставшиеся ему месяцы сделал, может быть, несколько глоточков.








