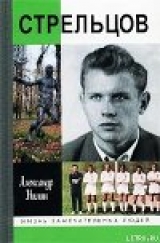
Текст книги "Стрельцов. Человек без локтей"
Автор книги: Александр Нилин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
Воронин тем более – и тем более мне – не собирался (да и вряд ли смог бы) объяснять: почему же он с таким странным для добровольного реформатора равнодушием стал относиться к своему личному участию в игре команды, где столько от него зависело? Неужели отстранение Морозова оказывалось важнее результата? Вообще-то так тоже бывает, а иногда – и даже часто – только так.
Может быть, и не стоило сосредоточиваться на конфликте Воронина с тренером, но нам для сюжета книги о Стрельцове совсем небезразлично, кого же намечал Валерий Иванович на место Морозова. По-моему, смелость его затеи извиняет некоторую инертность знаменитого футболиста в играх первого круга. Сложность взятой им на себя задачи отвлекала Воронина от непосредственных обязанностей игрока…
…Валентину Иванову устроили торжественные проводы. Газеты и журналы обошел снимок: Валерий Воронин с киношной улыбкой посадил себе на плечи провожаемого с почестями капитана, а рядом шагает с широкой улыбкой Стрельцов, поддерживая Кузьму двумя руками за ногу, чтобы он не потерял равновесия. Позднее Эдуард острил: «Вот, Валера, посадил на шею…»
Но после всех торжеств великому форварду, кроме роли четвертого тренера на ставке не самого высокооплачиваемого игрока, ничего и не придумали. Он, как я понял, и дублем не вполне руководил, не единолично. И кое-кто поторопился стать с недостижимым вчера Ивановым на равную ногу, держаться чуть ли не запанибрата – у игроков в тренерском штабе величиной принято считать лишь старшего тренера. «А старшим, – брякнул как-то тактичный Щербак, – еще очень нескоро будет». Володю, как все еще молодого по разуму человека, Воронин, очевидно, не посвящал в свои планы.
Сам Иванов говорил – и я ему абсолютно верю, – что и не помышлял в тридцать три года возглавить команду мастеров, тем более свое «Торпедо» – команду с высокими целями. Не знаю, искренне и сильно ли сопротивлялся он предложению сменить Николая Петровича Морозова, но не сомневаюсь, что для него в тот момент главным доводом были заверения Воронина и Стрельцова, что их всегдашняя поддержка ему обеспечена – и он за ними, как за каменной стеной.
Вспоминаю, что в радостном для «Торпедо» чемпионском году на банкетах и в домашних застольях, достигнув определенного состояния, начинали говорить о будущем команды, которое в дни большой победы виделось пусть и не до конца безоблачным, но все равно весьма обнадеживающим для тех, кто играет сегодня и не мыслит себя в дальнейшем без «Торпедо». И торпедовская идиллия в грядущем непременно связывалась с фамилиями Иванова, Стрельцова, Воронина, образующими руководящий союз. Тренерская роль отводилась Кузьме. Воронина видели начальником команды, перед которым все двери везде распахнутся. А Эдик… Эдик будет формально, наверное, вторым все-таки тренером. Но таким вторым, перед которым старший никогда носа не задерет, а к которому будет, наоборот, за советами обращаться и к этим советам прислушиваться, понимая, что такому человеку, как Стрельцов, и должности не надо. Все Стрельцова с удовольствием послушаются только за то, что он – Стрельцов…
Но ведь жили всю весну и почти два летних месяца в ситуации, когда Стрельцов, Воронин и с ними Кавазашвили уезжали в сборную, возвращались, а Кузьма, конечно, не сетку с мячами носил, не выглядел бедным родственником, но неприкаянность и некоторую небрежность по отношению к себе в команде успел почувствовать.
И вдруг все меняется – с первого августа Валентин Козьмич вновь самый главный человек в «Торпедо». Формально даже главнее, чем был когда-либо. Причем назначен не сверху, что иногда обрекает на противостояние с группой ведущих игроков, а поднят самой этой группой на тренерский мостик. Не та ли это идиллия, что возникала в банкетных мечтах? Только произошло все гораздо быстрее… И быстрота произошедшего не могла не вызвать непредвиденных сложностей.
…31 июля – за день до подписания приказа о назначении Валентина Козьмича Иванова старшим тренером команды мастеров «Торпедо» – ко мне на день рождения пришел Володя Щербаков. И сразу – с порога – предупредил, что пить много не будет. Не та ситуация – их, первых игроков «Торпедо», святой долг сейчас поддержать Кузьму. И хотя свое благое намерение Щербаку удалось осуществить не вполне, мне показалось, что сам он себе очень нравится в той ответственности, какую взял на себя вместе с Ворониным и Стрельцовым.
По всем законам советской драматургии, с таким бы воодушевлением «Торпедо» должно было уже назавтра проявить себя во всей своей красе. И если не выиграть первенство, то хотя бы дать лидерам понять, что есть им конкурент в лице команды, возглавляемой тренером Валентином Ивановым.
Но закончило «Торпедо» сезон на двенадцатом месте.
В «Торпедо» считали, что Морозов мало того что пришел к ним без четкой программы, но и требует от игроков на тренировках недостаточно. Стрельцов говорил, что ему о том трудно судить: «Меня Петрович хорошо знал, доверял, наверное, моей самостоятельности, щадил, может быть, за возраст, как некогда за молодость. Однако торпедовцам нового набора (в тот год в команду пришло довольно много игроков) нагрузок тренировочных явно недоставало. Я когда пришел после перерыва из-за травмы, говорю Бредневу: „Не знаю, хватит ли меня на трехразовые тренировки?“ А он: „Не бойся. Так и шесть раз в день можно тренироваться“. Правда, Володька был работягой. Денисов, например, назад после атаки вернуться не спешил, а Бреднев и после рывка идет назад и честно отрабатывает в защите. Без таких, как он, команда не может существовать».
Казалось бы, чего проще. Исправить огрехи отставленного тренера, увеличить нагрузки, договориться со старыми товарищами, чтобы отдали игре побольше, чем отдавали при Морозове… Но, как говорил мой знакомый тренер по боксу, распустить себя легче всего, проблема, как собрать обратно. В подсознание торпедовцев запала мысль, что сезон провален. И новую жизнь правильнее будет начать со следующего сезона. И в общем не склонный никого осуждать Эдуард, вспоминая провальный (не для него) сезон, и тот не удержался от критических замечаний. Конечно, сказанное им в адрес тех, кого сегодня мало кто сможет, если и захочет, вспомнить, актуальным уже не покажется. Но Эдик так редко выступал как педагог и критик, что не удержусь и приведу некоторые из его суждений о партнерах – в них же и сам Стрельцов очевиднее для тех, кто не застал его. Ну, например: «Этот сезон для Щербака оказался последним, а я успел к нему привязаться, привыкнуть. Он провел тридцать игр, а нужной физической кондиции так, по-моему, и не достиг. Гершкович и Шалимов выходили на поле пореже, но вписывались в игру удачнее. Я Володю пойму, если ревновал он нашу команду к ним. Мыслил-то Щербаков по-торпедовски – приобрел понимание нашей игры. А вот силы, которой вчера еще было в избытке, стало недоставать – и не вдруг такое с ним произошло, вот что самое-то за него обидное.
Володя Михайлов играл в «Торпедо» третий сезон – и по своему опыту должен был бы уже ходить в тех, кто организует игру. Он многое умел – и техника была, и накрутить, убежать мог – не поймаешь его, когда он в порядке, и удар у него правой отменный. Но все по настроению. Вдруг встанет – и отстоит всю игру (это, обратите внимание, подлинные слова Стрельцова. – А. Н.). В таком настроении и незачем заявлять его в составе…
Мы все радовались, что наши поредевшие ряды пополнил такой способный мальчишка, как Миша Гершкович. Ему сначала по каким-то соображениям не разрешили перейти в «Торпедо». Но он вместе с нами тренировался, выступал в товарищеских матчах – и многие из нас к нему стали относиться как к своему человеку и до официальных игр. Я же видел, что пришел он к нам не случайно. И слышал, что выбор у парня, уже зарекомендовавшего себя в «Локомотиве», был большой. Но считаю, что Миша не прогадал. Известность молодого игрока иногда идет ему во вред. В том смысле, что ведущим он считался в команде, занимавшей пятнадцатое – семнадцатое место и ни о каких призовых местах не помышлявшей. Не скажу ничего плохого про «Локомотив» – там известные тренеры работали, – но если сравнивать бывшую команду Гершковича с нашей, то у них, на мой взгляд, не было ни лица, ни почерка, ни стиля. Конечно, про парня, который тренировался у Бескова, играл у него за основной состав, не скажешь, что он игрок без школы. И, конечно, техника Мишина, особенно отличный дриблинг, удовольствие от работы с мячом выделяли Гершковича из всех молодых талантов. И своим отношением к тренировкам Михаил обещал вырасти в хорошего мастера. Но мы – чего уж скрывать – побаивались, что раннее лидерство в посредственной команде, на фоне неизобретательных игроков, игроков без настоящего самолюбия, могло и не пройти для него даром. И меня еще настораживала поначалу в игре Гершковича безоглядность в индивидуальных действиях. Я заметил, как только начал играть с ним, что Миша, при всей своей толковости и способности обвести разом нескольких защитников (а может быть, из-за нее как раз), с мячом расстаться не торопится. Все вроде бы знают, что мяч при своевременном пасе пересечет середину поля гораздо скорее, чем при самом стремительном дриблинге… Но когда человек таким дриблингом владеет, он себе в нем, как в наркотике, отказать не может…»
Но в самое неловкое положение нового тренера ставил Воронин. Иванов не делал ему внушений, и не только потому, что считал себя ему обязанным, – он чувствовал, что происходит с Валерой что-то и тренеру, и ему самому не до конца понятное. Он видел, что Воронин не хочет играть – не за сборную или за «Торпедо», – вообще не хочет, но себе в том не сознается. Сознаться в таком страшно – самому себе особенно. Кузьма постарался отнестись к происходящему с товарищеской иронией. Воронин – как смеялся Иванов – горстями принимал таблетки – потерял сон. Он уехал в разгар сезона в Сочи с подругой-балериной. Его щипали газетчики, отчитывал Вольский. И только Валентин Козьмич тактично воздерживался от необходимых, наверное, но неэтичных по отношению к такому игроку, как Воронин, замечаний. Тренер, вероятно, рассчитывал, что Валерий оценит его деликатность. И вспомнит, может быть, что обещал всяческую поддержку Иванову. А какая уж тут поддержка, когда на четвертьфинальный матч Кубка против «Динамо» Бескова ведущий игрок не приехал – не только на сбор в Мячково, но и на стадион? В состав, между прочим, одиннадцать полноценных игроков еле-еле набиралось. Стрельцов согласился играть с новокаиновой блокадой. Сознавал, что само его присутствие на поле многое решит.
В автобусе, выехавшем из Мячкова в Москву, Эдик сразу сел на табурет рядом с водителем и до самых Северных ворот динамовского стадиона настраивал транзистор на музыку, соответствующую тому, что им предстоит…
Проиграли 0:1. Неразлучные друзья Аничкин с Масловым справились с торпедовским нападением, а Валера Маслов еще и гол забил.
ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ СССР
26
В шестьдесят седьмом году лучшим футболистом страны избран был Эдуард Стрельцов.
Редактор «Футбола» Мартын Мержанов ушел на пенсию, а еженедельник, популярность которого сегодня не вообразить – очередь за ним по воскресеньям занимали с ночи, при том, что тираж рос, опять же до невообразимых нынче шестизначных цифр, – возглавил Лев Филатов. Между прочим, назначение Филатова имело отношение и к моей карьере. У нас в АПН командиром среднего звена служил поэт Николай Тарасов (о нем как о своем учителе немало написал в «Автобиографии» и книге мемуаров Евгений Евтушенко), всю почти жизнь вынужденный для заработка заниматься спортивной журналистикой, никаких чувств к спорту, в общем, не испытывая. Когда после перехода Филатова в еженедельник освободилась должность главного редактора газеты «Советский спорт», шеф Новоскольцев предложил вакансию нашему Тарасову. В этом был футбольный, точнее антифутбольный, подтекст – главный редактор «Спорта» футболом не интересовался. Запретить партийно-правительственный жанр он (зять, кстати, секретаря ЦК КПСС Поспелова) не мог, но засилью футбола в газете сопротивлялся. Отделение «главного футболтуса» (так называл Филатова его однокашник по ИФЛИ Тарасов) в подведомственный «центральной усадьбе» еженедельник Новоскольцева устраивало, а в далеком от футбола Николае Александровиче он надеялся найти союзника. Хотя более разных, чем он и Тарасов, людей я редко в своей жизни встречал.
Переходя из АПН в «Спорт», Тарасов пригласил меня и моего тогдашнего приятеля Марьямова последовать за ним. Мы к тому времени чуточку повзрослели – и начали догадываться, что в своей веселой разведывательной организации скоро и буквы забудем.
Но мы не учли парадоксальность ситуации, в какой неминуемо окажемся. Нам – как мы считали, ближайшим друзьям Иванова, Воронина и Стрельцова – никто в редакции спортивной газеты не позволил бы и на пушечный выстрел подойти к футболу, видя в нас людей Тарасова, в «Спорте» немало в пятидесятые годы прослужившего и известного своим отношением к народной игре. В футбольном отделе «Советского спорта» собрались журналисты разных возрастов, в том числе и молодые люди, которых сегодня относят уже к цеховым достопримечательностям. А тогда руководитель отдела дядя Саша Вит сетовал на их круглосуточную погруженность в футбол – и говорил, что мечтал бы о дне, когда Валерка Винокуров прибежал бы в редакцию со свежим номером «Нового мира», а не сразу бы стал рассказывать о вчерашнем матче дублей. С дядей Сашей, как видно из приведенного высказывания, у нас сложились товарищеские отношения, но и за бутылкой коньяку, распиваемой в служебное время, он деликатно и в мягкой форме намекал, что мне не только о футболе, а и вообще о спорте писать не следует, у меня, он считал, другое предназначение, в чем я с ним, прожив жизнь, наконец согласен…
Я ни разу не ходил на футбол с журналистами из «Советского спорта», а по-прежнему в апээновской компании. Мы сидели в одном и том же загончике для прессы на верхотуре Лужников, но сослуживцы по «Спорту» держались здесь со мной как незнакомые – газетчики, вероятно, презирали меня как блатаря, сюда случайно просочившегося, – и были по-своему правы: я в Лужниках аккредитован не был, пришел по чужому пропуску, но у нас, в АПН, так и было принято по двум ксивам ходить чуть ли не вдесятером.
Но летом проходило обязательное помпезное мероприятие, которого в повествовании я уже касался, вспоминая об участии в нем двадцатилетнего Эдика Стрельцова, – Спартакиада народов СССР. Меня как сотрудника газеты привлекли к репортажам с этих соревнований, но официально я почему-то аккредитован не был. Для свободы передвижения в Лужниках мне дали пригласительный билет. И я со своим билетом, когда начался матч между сборными нашей страны и Польши, пришедшийся на день торжественного закрытия домашнего аналога Олимпийских игр, очутился в проходе, отделяющем самые нижние ряды и расположенном примерно на уровне футбольного поля. По кодексу непременных советских запретов даже с пригласительным билетом, написанным золотыми буквами на мелованной бумаге, стоять в проходе категорически запрещалось. И на меня уже стали покрикивать контролеры. Но как раз начался матч – и я увидел начало атаки: мяч, обретший от стрельцовского прикосновения бутсой осмысленное направление, стремительным вращением по интенсивной зелени газона достиг ноги сгруппировавшегося в спринтерском беге Численко… Я смотрел на футбол под неожиданным углом, поле расширялось под вобравшим его в себя взглядом, растягивалось до моих подошв и вот-вот унесло бы всего меня, смыв с трибуны. Меня, однако, уже чувствительно подталкивали, а я тяжелел, упираясь под воздействием той энергии, что излучала укрупнившаяся фигура Стрельцова – торс, растянувший красную майку, ноги в гетрах, как в облегающих коротких пальто. Сестра стрельцовской жены Надя рассказывала, что, увидев впервые нового родственника на футбольном поле – Стрельцов играл за первую мужскую ЗИЛа, – она поразилась абсолютностью отличия этой фигуры с аурой неизбывной мощи от уже привычного домашнего Эдика. И я сразу ее понял, вспомнив ощущение, когда оказался как бы на одной с ним плоскости в момент игры, мизансценированной пластикой их совместного с Численко движения…
Для большей выразительности я хотел написать, что меня вытолкнули со стадиона взашей. Но на самом деле было чуть иначе – просто мне пригрозили отобрать билет, которым я в оправдание своей позиции размахивал, точнее, отмахивался от вламывающихся в мою завороженность рьяных сторожей. И я отдал им свой билет – почти без сожаления: измененный ракурс наблюдения все равно смазал бы первоначальное ощущение, оно бы все равно не повторилось…
Эдуард Стрельцов был избран лучшим футболистом страны. Не в том даже амплуа, где год назад его не признали первым.
«Футбол» Филатова опубликовал длинный перечень тех представителей прессы, кто отдал за него свои голоса. Среди поставивших Стрельцова в своих анкетах первым были и знатоки, и профаны, и конъюнктурщики. Одни выражали сугубо свое мнение – мнение, выношенное в годы отсутствия Эдуарда и подтвержденное прежде всего его сегодняшней игрой. Другие, может быть, уловили, как антенны, волны тех настроений, что бытовали в советском обществе конца шестидесятых годов.
В обожании Эдика сходились люди, во всех своих прочих взглядах не пришедшие бы и к тени согласия – ни при каких обстоятельствах.
Стадион сороковых годов, куда Эдик попал по самым дешевым билетам, был некой заповедной зоной на оккупированной советской властью жизненной территории, где самого разного статуса люди полтора часа отчего-то чувствовали себя в забытой ими давно безопасности, становились на два футбольных тайма похожими на самих себя в невозвратном генетическом прошлом, проникались на краткий срок чувством взаимного добра, без агрессивных поправок на болельщицкие пристрастия (помню единственного на Южной трибуне пьяного, который всех забавлял, будто дело происходило на вечеринке или чьем-нибудь дне рождения).
Трибуны конца шестидесятых годов были иными – территория быта и всего прочего за оградой стадиона несла в себе меньше, чем в сталинские времена, боязливого ожесточения, но и ничего заповедного в ярусах, окружающих гладиаторскую арену, не осталось.
И лишь Стрельцов на поле становился частью того утраченного заповедного, перенесенного им из детских впечатлений на отвоеванное суверенностью своего таланта зеленое пространство. Лучше ли, хуже ли играл он тот или иной матч, но жгучий интерес неизменно вызывала каждая из минут проживаемых этим парнем на поле. Внешне он отчасти погрубел, заматерел в превращенных жизнью (жизнью, а не игрой) в гладиаторские чертах лица. Правда, в самой игре его ничего гладиаторского не было, напротив, Игрок вытеснял в стрельцовском толковании футбола Бойца, но я бы не назвал Стрельцова артистом в расхожем понимании понятия. Он был не исполнителем, а жителем футбола, хотя его футбол чаще всего выглядел островом, где Эдик оказывался единственным обитателем. Впрочем, тем лучше удавалось нам рассмотреть Эдуарда.
Лучшим футболистом признали игрока команды, занявшей в чемпионате Советского Союза двенадцатое место.
Центрфорвард забил, выступая за эту команду, шесть мячей. Мало. Как ни превозноси некоторые из них за произведенное впечатление, эстетическую вескость и важность для исхода матчей. Стрельцов забивал и «Спартаку», и московским армейцам – даже два мяча. Мяч, забитый им «Мотору» из Цвиккау, продлил участие «Торпедо» в международном Кубке. Но арифметика, хотя по заверениям статистиков у него и с нею все более чем в порядке, к измерению значения футболиста Эдуарда Стрельцова приложима с ненужной относительностью.
Упомянешь, спустя десятилетия, в разговоре с кем-нибудь, кто любит футбол, забитый Стрельцовым мяч – и почти в каждом, то есть в каждом (какое тут: почти?) случае не можешь отказать себе в удовольствии подробного рассказа. Пусть не всегда играл он на поле, как сказали бы теперь, истории, но всегда на поле эстетики.
Его голы – структурны, скажу я, несомненно увлекаясь. Для гола Стрельцову обычно требовалось пространство всего поля. Зрителям после забитого им мяча вдруг – пусть и ненадолго (озарения не затягиваются, миг истинного потрясения краток) – становились яснее занимательные сложности организации действий игроков на поле, горизонты их взаимозависимости и возможность самостоятельности.
Начинал ли он атаку, как любил в молодости, из глубины, застревал ли надолго в ожидании подходящего момента впереди, доводя защитников до гипертонического криза статикой, пугающей неизвестностью хода, который сможет он предпринять, в большинстве случаев побольше, чем сам ход. Потому что когда он делал свой ход, защитникам уже не оставалось ни времени, ни пространства на кошмар фантазий.
В поздние времена своей карьеры он полюбил сочинение голов с привлечением как можно большего числа партнеров. И в такой своей ипостаси напоминал архитектора – и никто долго не решался ему сказать (а в глаза ему так и не решился), что практическому футболу чаще требуется прораб: для многоходовок не находилось исполнителей. Но это уж был удел Стрельцова – напоминать гимназиста из чеховского рассказа, которого детвора, играющая в лото по копейке, не принимает с его неразмененным рублем. Но Эдик отличался от того гимназиста тем, что разрешения ни у кого не спрашивал, бросал свой рубль в копеечную игру, не требуя сдачи.
Забив за сезон мало, он, конечно, не оправдывал себя качеством тех редких (в обоих смыслах) голов. Но кто вспоминает те времена, обязательно расскажет, как, оказавшись спиной к воротам ЦСКА, принял он мяч на грудь и, развернувшись, пробил под перекладину. А уж гол «Мотору»…
Он подрезал мяч тогда таким образом, что поднявшийся вверх, тот облетел защитников и вернулся форварду на ногу. Сам Эдик несколько детализировал удавшийся ему эпизод: «Щербак низом сделал мне передачу из глубины поля, я привел мяч в штрафную, подрезал его через двух защитников, они проскочили мимо, а я тогда развернулся и пробил по неприземленному мячу – приятно вспомнить. Эффектно, но все по делу…»
В Кубке обладателей кубков («Торпедо» туда включили за участие в финале отечественного приза в шестьдесят шестом году) команда очень старалась показать новому тренеру свое искреннее и обоснованное несогласие с местом, занятым ими в турнире.
Противник в одной восьмой финала – «Спартак» из Трнавы – был посильнее немцев. Шесть спартаковцев входили в сборную Чехословакии.
Играли в Ташкенте – на дворе стоял конец ноября. Почему-то об этом матче Стрельцов, вспоминая, говорил в нравоучительном, не своем тоне: «В таких играх самое основное – снять психологический груз. Чтобы на поле выйти – и сразу включиться. Попасть в такое состояние, когда знаешь, что сегодня у тебя все получится. Мы догадывались, что „Спартак“ в Ташкенте рассчитывает на ничью. Но мы играли без оглядки на свои неприятности в прошедшем первенстве – и, по-моему, ошеломили их».
Гол забили быстро – на семнадцатой минуте. Щербаков совершенно правильно понял, что от него хочет Эдуард, – и получил мяч в позиции, где становился королем, если, конечно, хорошо был готов физически. С помощью Стрельцова забили и третий мяч на шестьдесят восьмой минуте – Воронин откликнулся на пас своего центрального нападающего. Эдик сам голов в Ташкенте не забил, но приз лучшему нападающему – бубен – вручили ему. Щербаков выхватил у него бубен и побежал с ним вокруг поля.
В Трнаву летели из Ташкента в одном самолете с чехословацкой командой. Игроки «Спартака» впрямую говорили, что дома выиграют. В тоне их слышалась и угроза. И свои обещания спартаковцы выполнили – играли зло, грубо провоцируя москвичей на драку. Стычки на поле завязывались беспрерывно. Ну и трибуны – отношение в Чехословакии к русским, зная последующие события, угадать не трудно – отнеслись к торпедовцам как к посланцам из стана врага.
Неприятная обстановка тем не менее облегчала игру «Торпедо» в тактическом плане. Если в Ташкенте «Спартак» оборонялся – и Стрельцов мучился с толпой обступивших его защитников, – то в Трнаве хозяева мчались под крик трибун вперед и только вперед. И как тут их было не поймать на контратаках? Форварды «Торпедо» иногда выходили вдвоем на одного защитника.
Эдуард потом очень хвалил Давида Паиса, постоянно критикуемого тренером Ивановым за нелюбовь к жесткой игре.
Паис, вовлеченный Эдуардом в комбинационную игру, в Трнаве не робел. И забив первый гол, ассистировал Стрельцову в двух остальных.
Стрельцов, когда мы работали над мемуарами, слегка морщился, если заводил я разговор о несовершенстве его партнеров по сборной Якушина. Не хотел, по-моему, выглядеть ворчуном, не способным стереть в памяти обиду, что менее великие игроки оставались в сборной, а ему пришлось из нее уйти. Ему приятнее было говорить о том, что кого-то дальнейшая футбольная реальность изменила к лучшему. Он замечал, что вот Геннадия Еврюжихина многие хвалили за неутомимую настырность, за прямолинейность. А сам Гена запомнил случай в Италии, когда отдал мяч прямо в ноги чужому игроку, а Якушин вскочил со своей скамеечки и закричал: «Товарищ судья, у них двенадцатый игрок!..» И постепенно игра Еврюжихина изменилась. «С возрастом, – хвалил динамовца Стрельцов, – обзор у него появился, стал на поле смотреть, чувствовать партнеров. Промчаться и прострелить неизвестно кому и зачем – с этим он покончил. Играл в пас, навешивал очень аккуратно. В последние сезоны он мне нравился. И Миша Гершкович (ему в „Динамо“ нелегко приходилось, найденное им в „Торпедо“ новым партнерам не по душе было) рассказывал: „Генка сейчас совсем по-другому играет, мне с ним бы только и поиграть…“»
Про Бышовца Стрельцов сначала вообще избегал говорить, не желая, видимо, быть заподозренным в предвзятости к игроку противоположного – даже не Эдику, а всему «Торпедо» – направления. К тому же в отношении к масловскому выдвиженцу торпедовцам негоже было быть излишне критичными…
Когда перед матчем второго круга в сезоне шестьдесят седьмого «Торпедо» предстояло встречаться с киевлянами, не могло быть двух мнений, кто в состязании фаворит. Но не показавшее большого игрового сердца в ряде досадно смазанных выступлений «Торпедо» традиционно по-боевому боролось с лидерами. Главную для себя опасность у киевлян они видели в Бышовце – и сыграть против него персонально поручили Валерию Воронину. Бышовец – не Пеле, Воронин разменял его элементарно. Тем не менее если про Еврюжихина как про конкурента Эдуарду никто никогда не говорил, хотя Еврюжихину и отдал Якушин в мае шестьдесят восьмого стрельцовское место, то Бышовца с торпедовским форвардом уже начинали сравнивать и даже противопоставлять ему. Индивидуальные действия киевской звезды кому-то казались поэффективнее игровой мудрости Стрельцова.
И вряд ли этих кого-то можно было убедить тогда, что, существуй и в футболе деление на архаистов и новаторов, молодой Бышовец по настоящему счету предстал бы архаичнее тридцатилетнего Эдуарда, для которого и определение «новатор» скучно и пошловато, поскольку самой сути его не отвечает.
Стрельцов имел право сказать про Бышовца: «Мне не нравилось, что он прямо-таки больным себя чувствовал, если двух-трех защитников не обведет. Нужно не нужно, а обведет. В пас сыграть ему не по нутру. Упирался он в мяч – без мяча ему не по себе делалось. Молодец он, что с мячом мог сделать многое. Но большим игроком он бы стал, если бы смог пошире мыслить и без мяча в ногах».
Стрельцов не счел нужным добавить, что сыграть за всех проще, чем за всех думать.
Признанный первым игроком Эдуард Стрельцов – и вряд ли с его ведома – превращался в фигуру символическую. Определенная – и отнюдь не худшая – часть публики приветствовала в нем пострадавшего от властей человека, возвратившегося к славе вопреки властям. Он стал лучшим футболистом в те времена, когда ссылали Синявского и Даниэля, душили «Новый мир» Твардовского, вводили (уже летом шестьдесят восьмого) танки в Прагу; он интерпретировал футбольную классику, когда на Таганке и на Бронной Любимов и Эфрос, каждый по-своему, обнадеживали публику смелостью аллюзий, – и понятно желание самой прогрессивной общественности присоединить к приметным достижениям вольнодумства и стрельцовский дар.
И все же к вечным темам он был ближе, чем к современным, – и притягивать его за уши к злобе дня (и вообще всякой злобе), наверное, – перебор, хотя есть и в притягивании некоторый резон (пусть и плоско публицистического свойства).
На мой взгляд, важнее сказать не столько о гражданском признании Стрельцова, сколько о противостоянии Эдуарда – как идеи – футбольной индустрии.
Индустрия эта – в персоналиях своих идеологов, инициаторов и заправил – вовсе не тупа, не ограниченна. Коммерция нередко спасает мир футбола, компенсируя утраченную красоту зрелища, объявленную старомодной, нагнетанием всевозможных информационных страстей, аккумулирующих спортивный рынок, все более отождествляя большой спорт с шоу-бизнесом, современным ему.
Индустрия приемлет классных, выдающихся и великих игроков. В ней нашлось бы место и Бышовцу, и уж без всяких сомнений Воронину.
Однако и само существование Стрельцова, и память о нем, передаваемые по наследству детям болельщиков футбола гены впечатления, мешают нам, землякам Эдика, видеть индустрию игры истиной в последней инстанции. Даже коммерческой…
Появись бы снова Эдуард – со всей своей нестабильностью как главным признаком неполноценности профессионала – и законы футбольного рынка могли бы оказаться опровергнутыми. За Эдиком публика могла бы пойти в неизвестное, позабыв про сиюминутность результата. Правда, как проверишь? – Стрельцовы чаще, чем раз в столетие, не рождаются. И за рыночную экономику футбола можно быть спокойным.
27
Скажу и так: десять лет, включая годы заключения и запрета играть в футбол, ушли у Стрельцова на то, чтобы стать официально признанным первым игроком. Де-факто он им был и десять лет назад, но де-юре стал в конце шестидесятых.
У власти хватало теперь ума, чтобы не мешать жить тридцатилетнему великому футболисту, как мешала она ему в его двадцать.
Но своими действиями по отношению к Эдуарду Стрельцову власти в чем-то и загнали себя в тупик – в то, что можно загнать себя в тупик непрерывностью осознанного и неосознанного (инстинктивного) преследования и затирания, замалчивания талантов, власть, распоряжавшаяся огромной страной, не верила, а когда очутилась в тупике и вынуждена была в этом признаться, расписавшись в собственном бессилии, – оказалось, что спохватились поздно, и сама власть сменилась, то есть видоизменилась, что нас тоже поначалу радовало.








