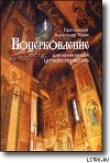Текст книги ""Ведро незабудок" и другие рассказы"
Автор книги: Александр Богатырев
Жанры:
Прочая религиозная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)

Агриппина Степановна хихикнула: «Простите нас». Антонина посмотрела на нее сердито.
– Бог простит.
Следующее искушение было посерьезнее. Пока Анастасия собиралась к мужу, на службах пели четыре прихожанки. Одна из них – Валентина, крепкая старушка со следами былой красоты, – читала Шес– топсалмие и Апостол. А вместе с Агриппиной Степановной и каноны, и паремии.
Голоса у певчих были слабые. Пока просто говорили – ничего. А как начинали петь – беда. Начиналось такое жалобное дребезжание, что казалось, еще минута – и всех четверых придется отпевать. С появлением Анастасии все решительно изменилось. Она стала петь одна. Или с отцом Олегом.
Отец Олег служил вдохновенно. У него был поставленный баритон. И когда он произносил ектеньи, чуткому сердцу казалось, что после очередного прошения Сам Господь ответит ему и исполнит просимое. А когда пели вместе с матушкой, то, по словам Агриппины Степановны, душа улетала прямо на небо. Но не все были в восторге от красивого пения. Валентина вместе с одной из уволенных певчих затаили нешуточную обиду. Особенно на матушку. Они стали писать письма в епархию. Одно из этих писем каким-то образом не было отправлено. Оно оказалось в одной стопке вместе с поминальными записками. Отец Олег стал читать его и загрустил. Та же история. И служат-то они не по-православному, а, как было написано, «кукарекают вдвоем, а хор изгнали из храма». Он вернул письмо свечнице и решил писательниц публично не обличать. Стал ждать гостей из епархиального управления.
А тем временем слух о необыкновенном пении батюшки и матушки привлек целую дюжину новых прихожан. Среди них было несколько энергичных мужчин среднего возраста (оба прошли через «горячие точки»), С их помощью начала налаживаться приходская и хозяйственная жизнь. И село незаметно преобразилось. Появилось несколько фермеров. Они привели в церковь своих детей. После службы начались занятия в воскресной школе. В одно из воскресений батюшка обвенчал сразу три пары. Это были мужья и жены, прожившие в светском браке много лет. У одних уже и внуки были. За ними потянулись и молодые. Матушка привезла на лето всех детей. До этого они жили с двумя младшими. Установились неплохие отношения с поселковым начальством. Отцу Олегу по многочадию выделили две двухкомнатные квартиры в доме в расформированном военном городке. Теперь они жили не в избе с тонкой перегородкой от печки до окна, а в четырех комнатах с двумя ванными и двумя кухнями.
Жизнь, как говорится, налаживалась. Но какого-то просвета в духовном состоянии большинства своих пасомых отец Олег не видел. Старушки были неискренни. Они ластились к нему, воевали друг с другом за право быть самыми приближенными. Ябедничали, норовили рассказать друг о дружке всякое непотребство. Он это решительно пресекал, а доносчицы за это на него обижались. Рассказывать о чужих неприглядных делах народ любил, а о своих – никоим образом. И исповеди были, как правило, не раскаянием в собственных грехах, а жалобами на соседок. За всю свою священническую практику отец Олег ни разу не был свидетелем искреннего покаяния. Было что угодно: истерический плач, но не о грехах, а от очередной обиды, формальное перечисление соделанного, заявления о том, что «грешна во всем» или «да какие у меня, батюшка, по моему возрасту грехи?» Иногда признавались и в страшных грехах, но с холодным сердцем и без признаков сердечного сокрушения.
Он не знал, как растопить сердца, что нужно сделать, чтобы они открылись, ужаснулись, увидев свою жизнь с бесконечными изменами, пьянством, драками, абортами, воровством и тотальной ложью. Как и чем протереть замутненные глаза души, чтобы увидеть свои грехи и содрогнуться от понимания, в какой грязи прожита жизнь.

На одной из проповедей он слезно молил не утаивать своих грехов. Говорил о безмерной любви Божией: «Бог всех простит. Только покайтесь. Искренно покайтесь. Ничего не утаивая. Господь наглядно показал нам, до какой степени безмерно Его милосердие. Кто населяет рай? Раскаявшийся разбойник, распятый вместе с Господом. Бывшая блудница. Она даже не знала, куда плывет корабль. Только увидела, что на нем много мужчин, и прыгнула в него. Но потом каково было ее раскаяние! Семнадцать лет в пустыне без еды, без одежды, в холоде и невыносимом зное. И Господь простил ее. А апостол Петр, трижды предавший Его! А Павел – лютый зверь, гнавший христиан! А теперь он вместе с Петром – первоверховные апостолы. А царь Давид! Убийца и прелюбодей. Послал на смерть Урию Хеттеянина и завладел его женой. Но Господь не только простил его. Он не постеснялся Себя назвать Сыном Давидовым. А почему? А потому, что Давид не просто шепнул первосвященнику: “Грешен в убийстве и прелюбодеянии”, а каялся и плакал всю свою жизнь. И никто в мире за несколько тысяч лет не написал таких покаянных слов, как он в своих псалмах. Нет такого греха, который Господь не простил бы за искреннее покаяние. Не стесняйтесь. Не бойтесь».
Через несколько дней после этой проповеди к отцу Олегу приехал благочинный – архимандрит Афанасий.
– Вот, заехал к тебе познакомиться.
Он расспросил, как тот устроился. Осмотрел храм, побывал у него дома. Матушку и на сей раз не застали врасплох. И обед у нее был замечательный, и несколько произнесенных ею фраз перед тем, как оставить священников наедине, расположили к ней благочинного. Они остались с отцом Олегом в гостиной. Благочинный достал несколько конвертов, надел очки, молча просмотрел несколько листов.
– Вот сколько о твоих художествах написано. Ты действительно говорил, что рай придуман для воров и проституток? – спросил он тихо, не поднимая глаз.
Отец Олег слово в слово пересказал свою проповедь. Благочинный вздохнул и продолжил перебирать листы.
– А что это ты про самоубийц говорил? Почему они испытывают удовольствие?
– Да это я говорил о необходимости соблюдения заповедей. И то, что Господь не наказывает сразу, лишь свидетельство Его долготерпения и любви. Господь один раз не наказал за наше преступление, другой. Нам кажется, что так всегда и будет.
Нет, не будет. Все равно закончится наказанием. Если не в этой жизни, то в будущей. И привел метафору: прыгнул человек в пропасть (а ему говорили: не прыгай, разобьешься). А он летит и даже удовольствие получает от ощущения свободы в этом полете. И думает: вот оно, как сладостно. А меня отговаривали.
Отец Афанасий покачал головой и снова вздохнул.
– А про несправедливость Бога?
– Я сказал, что Бог – это любовь. Если бы Бог был справедлив, то нас давно бы не было на этом свете с такими грехами...
– Ты вот что. Говори проще. Без метафор. Без притч. А то нас толкованием твоих притч завалят по горло.
Отец Олег пообещал. Они поговорили о том, как трудно привести в чувство оторванный от духовных корней народ. Целое столетие продержать в богоборческом помрачении... А теперь слово с амвона скажешь – и нет уверенности, что поймут, не извратят и не напишут «телегу» начальству.
Очень трудно расшевелить народ.
– Не каются они, ваше высокопреподобие. Одно формальное перечисление грехов. Я перечислю грехи, а они за мной и повторят.
– Да знаю, что не каются. Меня этим не удивишь. Сорок лет служу.
– А что же делать?
– Терпи и служи. И разберись, кто это у тебя доносами занимается, и сделай так, чтобы она не досаждала архиерею. Одной рукой написано. А то я с нее для начала возьму две тысячи за такси. Будет знать.
– Хорошая идея. Давайте пригласим ее.
– Нет, ты уж сам давай. Я никаких разбирательств устраивать не стану. Вижу тебя. И верю, что ты иерей правильный.
Он немного помолчал, а потом, прищурившись, спросил:
– А с тех мест за что тебя шуганули? Про пожар и кражу знаю, а с первого прихода за что тебя из чтецов, а матушку из регентов?
– Да мы стали знаменный распев вводить.
– Чудак. Это в селе? Хоть бы обиход нормально пели... Да и в городах мало кто знаменный-то уважает. Я знаменное пение люблю, но его по современной жизни не привить. У людей души на иной лад настроены. Отовсюду грохот да скрежет адский. Да уголовные песенки либо что-нибудь про любовь, да понеприличнее и пострастнее... Нет. Как сказал один питерский старец, чтобы знаменно петь, нужно зна– менно жить.
Благочинный немного помолчал, рассматривая библиотеку.
– А фисгармония твоя знаменитая где?
– Вы и про фисгармонию знаете!
Отец архимандрит усмехнулся.
– Так, показывай. Может, матушка и сыграет для гостя.
– Да мы ее еще не перевезли.
– Так перевози поскорей. Я тебе и «газельку» грузовую дам. Я фисгармонию люблю. Да не сподобился достать. Играю на пианино. Так что вези и зови в гости. Мы с твоей матушкой в четыре руки поиграем.
Отец Олег удивился и был рад такому повороту. Благочинный смотрел на него весело.
– А больше никаких преступлений не совершил?
– Нет. Это все. Правда, может быть, мы кому-то не нравимся как люди.
– Это ладно. Мне вы как люди понравились. А насчет того, чтобы народ каялся, – погоди. Ты тут без году неделя. Если не сбежишь в Москву, то, даст Бог, со временем и растопишь лед. А я тебе на прощание на твою метафору свою расскажу.

– Расскажите.
– Солнце к закату склонилось и разволновалось: кто же без него светить во мраке будет? Спрашивает, а все молчат. Долго спрашивало солнце. Все молчат, и только маленькая лампадка под иконой тихо ответила: «Постараюсь, как смогу». Вот и ты старайся. Свети помаленьку. Только не угасай. И не скорби попусту. И не возносись. Ты ведь не солнце. Вот и свети в меру лампадки. И помни, что народ у тебя простой. Так что давай без метафор. Будь проще.
Визит благочинного не только успокоил отца Олега, а даже окрылил. Он решил вообще не обличать Валентину, а подождать, когда она сама поймет, что доносы – не лучшее дело. Они с матушкой обидели ее тем, что распустили хор. Надо бы ей какой-нибудь чин придумать. Какое-нибудь заметное дело. А пока ничего не придумал, то на ближайшей
литургии объявил о том, что назначает Валентину заместителем старосты. Удивлению Валентины не было предела. После службы староста пыталась выяснить, в чем будут заключаться обязанности ее заместительницы. Батюшка ответил неопределенно и без особых раздумий сказал, что дел на приходе скоро будет много, а первое, что он поручает Валентине, – организовать паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Вернее, записать желающих. О деталях обещал поговорить с ней на неделе. Он вышел из храма, а староста с Валентиной и Антониной остались в храме на уборку.
Батюшка уже подъезжал на своем «жигуленке» к магазину, где его ждала матушка, ушедшая из храма раньше его, и вдруг вспомнил, что забыл в алтаре телефон. Вот незадача! Пришлось вернуться.
Валентина с Антониной стояли перегнувшись через барьер, за которым сидела Агриппина Степановна, и с жаром что-то обсуждали. Отца Олега они не заметили, и он тихонько вошел в алтарь через дьяконские двери. Телефон лежал на подоконнике. Батюшка взял его и повернулся, чтобы выйти, но неожиданно услышал нечто, что заставило его задержаться. Антонина гневно выговаривала Валентине: «Ты думаешь, люди тебе спасибо скажут за твои письма?!»
– Да ладно тебе, – огрызнулась та. – Чего удумала. Какие письма?
– А такие. Верка-то все сказывала. Как ты митрополиту жалобы на нашего батюшку пишешь. И ее пристегнула сочинять.
– А что, не правда? Я правду пишу. Он тут всяко мелет. Его и понять нельзя. Отец Михаил молебен отслужит – и домой. А этот разводит тут турусы. И к чему призывает, не понять.
– А чего понимать. Он говорит, каяться надо. А мы не каемся. Клуб себе придумали. Ходят кому не лень. Может, и в Бога не веруют, а ходят.
– Да откуда ты знаешь, кто верует, а кто нет. Сама– то ты в кого веруешь?
– Я-то в Господа нашего верую. А Господь сказал, надо каяться. Вот ты, Валь, и покайся батюшке, что кляузы пишешь.
– Вот еще. Чего удумала.
– Так зачем ты тогда в церковь ходишь! Батюшке гадишь и каяться не хочешь.
– То мое дело.
– Да не твое, а наше. Мы, как батюшка говорит, одно тело. Мы один организм духовный. И если ты в этот организм дерьма наклала, то мы его и вытряхнем. Если не покаешься.
– Ты погоди грозить. А то я тебе такого устрою! Сама-то больно каешься?
– Я-то каюсь. А у меня и таких заслуг перед бесом нет, как у тебя. Ты мужиков-то полрайона пропустила.
– А твое какое дело? Я в том покаялась.
– А как каялась? Поди, сказала: «Грешна по блудной части» – и все.
– А тебе-то что?..
– Так какое с того покаяние.
– Да такое...
– А ты пальцы загибала?
– Какие пальцы? – А вот с тем-то да тем-то... Главного агронома бы помянула.
– Да молчи ты...
– Да у ней пальцов-то не хватит ни на руках, ни на ногах, – засмеялась староста.
– Вы сами-то хороши. У тебя, Степановна, тоже Кузьмич был после смерти мужа.
– А я молчу. Да и созналась в том.
– Чо созналась. Антонина вон с батюшкой слезу требуют. Ты поплакала-то?
– А чего плакать. Кузьмич мужик-то справный был. Непьющий. Не обидел ни разу. Я его тоже.
– А все ж блуд, – вздохнула Антонина.
– Блуд-то, он разный, – оправдывалась Степановна. – Сошлась с хорошим человеком. Он вдовец. Я вдова. С ним жила честно. Я, по правде, и не знаю, как тут каяться. Свадьбу что ль надо было с гармошкой аль под венец! Нам же уж по шестьдесят было. Я долго отказывалась. Перед внуками срам. А он: одиноко мне, хоть в петлю лезь. Так что тут как поглядеть. Один скажет: душу погубила в грехе, другой: человека от петли спасла.
– Ну, уж от петли.
– Форменно от петли. Тоскливо жил. Хотел удавиться. Так что не знаю, какое покаяние мне батюшке принести. Рассказать все – так он сам говорит: мне не истории нужны, а сердца ваши. А сердце мое теперь по двум моим мужикам тоскует. И молюсь я за них. А что не венчано прожила, так то Господь разберет. А и где венчаться-то было? В клубе, что ль? Может, соберусь да слезно и покаюсь. Рюмочку для слезы и для храбрости пропущу – и на исповедь.
С минуту помолчали. Отец Олег хотел выйти, но тут Валентина сердито набросилась на Антонину:
– А что ты вообще понимаешь?! Каяться. Тебе хорошо. У тебя ни кожи, ни рожи. И смолоду страшная была. А меня парни чуть не с пеленок зазывали. На тебя бы столько внимания, так еще бы поглядели, какая ты святоша. Мужики к тебе не лезли – на тебе и греха нет. А ко мне лезли. Думаешь, легко по молодости удержаться? Так я и слова такого не знала – «грех».

Жила, как все жили. А кто у нас себя грешницами считал? Кто? Хоть одну бабу назови.
– Моя мать, – тихо вздохнула Антонина.
– Она-то что? Она и не у нас в селе жила. Мы о ней ничего не знаем.
– Она, покойница. Царство ей Небесное... До самой смерти чемодан с кирпичами носила.
– Какой еще чемодан?
Антонина всхлипнула, утерла нос передником.
– За грех убийства. Братик у меня был Яшенька. Кроткий, славный. Божие дите. А мальчишки все дразнили и колотили его за то, что он в их проказах не участвовал. Трусом обзывали. Они, как яблоки поспевать начнут, чисто грачи на деревьях сидят.
– Понятное дело. Я и сама по чужим садам лазала, – перебила ее Валентина. – И стекла в школе били, и сарай подожгли вредной Акулине, и белье могли с веревок сорвать да в грязь. Корову у Коркина хвостом к хвосту лошади привязали. Да чего там...проказа на проказе. Хулиганье сплошное. А Яшенька все с мамкой сидел. Вот они его однажды поймали и говорят: «Иди у Кисляковой огурцы сорви». Мешок дали. «А не нарвешь – мы тебе уши оборвем да накостыляем. Иди, не трусь». Яшенька и пополз по огороду, чтобы не быть трусом. А Петровна-то Кислякова у окна сидит. Видит Яшеньку-то. Он только огурец сорвал, а она уже бежит с кочергой. Ну, он деру. А она орет на всю деревню: «Ворюга проклятый!» А он-то, бедный... Ему и огурцы-то даром не нужны. Своих полно. Он-то битья мальчишек испугался. Во двор забег, а мамка– то наша выскочила из избы. Что за гром с соседского огорода? А Петровна ей и орет: «Тихоня-то твой вор поносный. Огурцы мои скрал». А маменька-то, Царство ей Небесное, схватила лучину от дранки. Изба-то дранкой крыта. Шиферов-то не было. Да этой лучиной и шлепнула его по голове. А в лучине-то гвоздь ржавый. Да как раз в ямочку, что в голове. В темечко. Яшенька упал, ножками задрыгал и затих.
– И что,убила?
Антонина опять всхлипнула и кивнула.
– Насмерть убила?
– Убила мать сыночка. Братика моего кроткого... За огурец. Свою надежу. Нас-то девок пятеро и один брат. Что там было... И суд был. Говорят, вот времена суровые были. Суровые. И жили впроголодь. Никаких «дошираков» в лавках не продавали, чтоб за три минуты суп был. Жидким щам рады были до смерти. Траву для коровушки по канавам серпом резали. Я режу, а Валюшка четырех годов на страже стоит. Чтоб никто не увидел. А поймают – отберут. И позор. И посадят. А все равно резали. Куда денешься. Корова – не наш брат, чтоб уговорить не есть вовсе... Да вы помните.
– Чего не помнить. У меня самой мать на три года посадили за траву – колхозное добро, – поддакнула Валентина. – Ну, дальше-то что? Не тяни.
– Так вот, со всем своим суровством, судья мать– го отпустил, да еще и тайно ей потом денег сунул на похороны. А мальчишек-то, что подбили Яшеньку, наказал. Самых заводил главных в колонию для малолеток. А маменька... Суд человеческий одно. А она сама себя крепко осудила. Ела потом по куску хлеба в день да водицы кружечку. И так целый год. В чем только душа держалась. Работы-то с пятерыми! Мы, конечно, помогали. А все одно – только поворачивайся. И в колхозе, и дома. А потом свалилась она. Язва пошла – чуть не померла. Истощение – довела себя. Определили ей инвалидность. Так вот тогда она и придумала себе чемодан. Нагрузила камнями и повсюду с ним. Это с язвой-то. А еще придумала себе тайные подвиги: по ночам общественные работы делала. Мосту нас провалился. Так она и починила. Откуда силы! Да как она бревна-то достала. Явно из леса. Ведь и посадить могли. Это потом мы узнали: ей Сашка-дурачок помогал. У него силища была аховая. Когда электричество тянули, мужики столбы носили. Один столб вшестером. А Сашка взваливал на плечо столб да версту без передыху один нес. Он и помогал. Она и вдовам втайне помочь творила. Иной раз по неделе дома не было – все чего-то людям делала. Еще спала в поле. Прямо на земле. А дома – не знаю, спала ли. Всю ночь лампада горела да головой об пол бухалась. Да плач слышен: «Господи, прости окаянную!»
Так она по Яшеньке убивалась. А потом успокоилась маленько. Мы уже подросли, по дому все сами делали, а Людмила – старшая – уже и работать пошла.
Задумала маменька до Киева дойти. Ногами своими. Попрощалась с нами...
– Это с кирпичами?
– Нет, чемодан на сей раз оставила. Попрощалась с нами, благословила и ушла. Целый год мы ее не видели. Вернулась. Говорит, видела Яшеньку в светлых одеждах. Сидит у ног Матери Божией и веночек из цветов плетет. А цветы эти красоты – не рассказать. А простил ли меня Господь, не знаю. А Яшеньку принял в Свои светлые обители. Это ей киевские угодники показали. Там в пещерах у нее видение было. Месяц за бродяжничество в тюрьме отсидела. Били несколько раз крепко... Может, и простил ее Господь. Про свое богомолье нам не сказывала. Да мы бы и не поняли. Мы-то, дурехи, думали, что маменька наша с горя-то с ума сошла. И народ-то ей хоть и сочувствовал, но все чокнутой прозывали. Мы чемодан ейный в печке сожгли. А кирпичи на дворе горкой сложили. Так она другой себе из фанерок сотворила. Наложила кирпичей и снова с ним заходила. Так с ним в руках и рухнула. Язва открылась. До больницы двадцать верст. Пока довезли, она и померла. Царство ей Небесное!
Все перекрестились и затихли. Долго стояла тишина. Потом староста Агриппина Степановна подошла и поцеловала Антонину в щеку. Прижала к себе и всплакнула:
– Какая жизнь... Как мы, бабоньки, жили. А матушка твоя... Мы и не знали.
– Дак она тогда не в нашем районе жила, – стала опять перечить Валентина.
– Надо бы нам, сестры, подумать. Каяться не умеем, так что-то хорошее надо делать, – продолжала староста. – Вон у Марины Берестовой дети оборванцы. Неужто не найдем, чем им срам прикрыть.
– Дак Маринка пьяница, – фыркнула Валентина.
– А дети-то при чем? Я вот пойду, соберу одежду для них.
– Да мало ли народа бедствует. Давайте и к Ольге Дувахиной заходить. Ведь болеет давно.
– Дак она ж ведьма. И не скрывает. К ней пойдешь – она такого тебе нацепляет, – опять возмутилась Валентина.
– Нет, бабоньки, чтоб церковь наша действительно была не клубом, а Домом Божиим, давайте делать добрые дела, – сказала Антонина.
– А у нас денег – дай Бог до пенсии дотянуть, – опять огрызнулась Валентина.
– Да чего ты-то нудишь. Много ли нам, старухам, надо. Овощ свой. Одну-другую консерву купила – и хватит, – отмахнулась Степановна.
– А мясца купить? – не успокаивалась Валентина.
– По нашим годам уже давно пора от мяса отказаться.
– А хотца порой.
– Хотца – перехотца. Вот и сотвори малый подвиг. Перетерпи. А денюжку на бедных. Да и не полезно мясо-то.
– Да что вы про мясо-то, – перебила их Антонина. – У нас батюшка копейки получает. А у него пятеро. В Москву ездит на требы. А шутка ли мотаться. Без семьи и дорога денег стоит. Давайте ему больше помогать.
– Дак помогаем. Я вон всегда на канун то картошки, то моркошки.
– Моркошки. Надо чего-то посущественней. Давайте думать. Вон у Романовны сын в Питере большой начальник по строительству. Надо уговорить ее настроить сына, чтоб он десятину на наш храм да на батюшку высылал.
– Дак десятина-то, поди, миллионом запахнет.
– Да хоть триллионом. Он, стервец, первым хулиганом был. А родина ему бесплатно образование дала. Выучился на народные деньги. Пусть совесть имеет, – выпалила Валентина.
Тут уж отец Олег не выдержал и вышел из алтаря. Все ахнули.
– Батюшка, вы ведь ушодцы. Когда ж вы вернулись?
– Ушодцы, да пришодцы, – улыбнулся отец Олег. – Вы так склонились над Агриппиной Степановной и увлеклись, что не заметили меня. А я вдоль стеночки да в алтарь.
– Так вы все слышали?
– Каюсь, слышал.
– Стыд-то какой. Мы ведь про блуд наш сказывали.
– Про это мимо ушей пролетело. А вот про мать да чемодан с кирпичами слушал затаив дыхание. Очень меня эта история тронула. А насчет ведьмы – не спешите судить. Может, это наговоры.
– Да какие, батюшка, наговоры. К ней вся губерния ездит. Заговоры-приговоры. Колдует она. И помереть не может. Ей уж давно за 80.
– Какие 80. Ей уж 90.
– И все-таки... Где она живет? Надо зайти. Может, покается.
Степановна принялась объяснять, как найти избу Дувахиной. А Валентина с Антониной стали шептаться: «Вот срам-то. Слыхал все!»
– Да не слыхал. Сам же сказал. Да и неинтересно про блуд устаревших бабок слушать.
Повздыхали. Отец Олег повернулся к Антонине: «Как звали вашу матушку?»
– Феклой.
– Редкое нынче имя. Будем молиться о Фекле. И вашем братце Яшеньке.
Антонина ухватила батюшкину руку и крепко поцеловала ее.
– Спаси вас Господи, батюшка.
Отец Олег помолчал немного.
– Да, рассказали вы историю. У Стендаля и Золя такое не найдешь.
Он попрощался. Благословил своих прихожанок. Сегодня он делал это с большим чувством: медленно, задерживая на несколько секунд пальцы у лбов, покорно склонившихся перед ним. И как никогда прежде почувствовал сильное сострадание и любовь к этим бедным женщинам. Какая великая милость дарована ему Господом. Утешать эти переполненные горем души, наполнять их надеждой на прощение.
Он остановился на площадке перед храмом, недавно застеленной бетонными плитами – остатками стен разоренной птицефермы. Справа под древними соснами виднелись могилы с пирамидками, наверху которых торчали серые, некогда красные звезды. Были и могилы с крестами: деревянными и металлическими, сваренными из водопроводных труб. Перед центральной аллеей еще недавно возвышался памятник герою Отечественной войны, уроженцу села Сосногорского. Теперь он словно уменьшился в размерах и был загорожен махиной из черного мрамора – плитой с изображенным во всю ее высоту конем. Конь словно выбежал из черных дымчатых далей и замер под портретом известного на всю округу цыганского барона.
Отец Олег перекрестился на храм и пошел по тропинке к своим стареньким «жигулям».
А в храме три подруги говорили о том, что с батюшкой им все же повезло. Какой он умный и сердечный. И теперь они будут ему усердно помогать.
Валентина сделала земной поклон перед распятием, выпрямилась и вдруг грузно упала, рыдая в голос. Утешали ее долго. А потом и сами разревелись. Валентина успокоилась первой.
Она сняла платок, утерла им слезы.
– Ну, Тонька, собака не кусаная. Довела!
Потом громко шмыгнула носом и удивленно произнесла:
– А чего это он в конце сказал про золу? Где он ее увидел? Все в храме чисто. Да и печку уж два месяца не топили.
Иван и vanitas
В последнее время я часто вспоминаю о нем. Мы познакомились в Тбилиси у нашего общего друга-художника в конце семидесятых и довольно часто общались лет пятнадцать. Он приезжал ко мне в Петербург, я навещал его в Москве. О себе он рассказывал немного. Большую часть сведений о его жизни я получил от его матери. Особенно впечатлила меня история его ухода из института. Об этом он рассказал сам. Он учился в Тбилиси на художественном факультете и собирался стать профессиональным художником. Но в начале пятидесятых будущих Брюлловых и Шишкиных заставляли писать портреты сталеваров Руставского металлургического завода и лучших работниц чайной фабрики из города Самтредиа. Студентов посылали и в другие места, но Рустави и Самтредиа стали для моего друга нарицательными именами. О том, что потрясло его в этих богоспасаемых городах, нетрудно догадаться. После их посещения ему пришла в голову странная идея. Он бросил институт, перебрался в Москву и устроился в металлургический цех огромного завода. Идея заключалась в том, чтобы, проработав на вредном производстве, рано уйти на пенсию и посвятить остаток жизни свободному творчеству. Его учитель – замечательный художник Василий Шухаев – просил оставить эту идею. Он видел в нем талант и говорил, что идеология и лживый пафос, которые не мог переносить мой друг, не помеха для настоящего живописца. Всегда можно написать два портрета одного и того же персонажа: один – парадный, идеологически выверенный, а другой – неподцензурный, отображающий истинный внутренний мир. Но мой друг был непреклонен. Странная затея для двадцатилетнего молодого человека: четверть века стиснув зубы толкать в чаду вагонетки с шихтой, чтобы потом ни от кого не зависеть и бродить с этюдником где пожелает душа. Он был честен, принципиален и невероятно упрям. Этой идее он остался верен и проработал на одном месте до вожделенной пенсии в пятьдесят лет.
Это был могучий, без трех сантиметров двухметровый человек с детскими печальными глазами. Его звали... Как его только не называли! Мать – Овиком, соседские дети – Вовиком, в институте с легкой руки одного приятеля – Вольдемаром, жена – Ваником. Мне он представился Иваном. Так я к нему и обращался. Он и по паспорту был Иваном. Но в свидетельстве о рождении записан Ованесом. Так его назвали в честь деда матери. А отец матери был русским офицером.
Мать Ивана – Сусанна Петровна – жила с ним в Москве. Он перевез ее к себе после того, как она перенесла инсульт. Она много рассказывала мне о своей невеселой жизни: о гибели родителей при попытке выбраться из Грузии, когда в нее вошли красные; об убийстве деда, о посадке ее мужа на «10 лет без права переписки» (что означало расстрел), о детстве Ивана. Ему, отпрыску репрессированных «врагов народа», крепко доставалось от сверстников. Но он был сильным и мог за себя постоять. За силу и смелость его уважали. И к двенадцати годам у него был непререкаемый авторитет даже среди парней намного его старше. Но он никогда не атаманствовал. Старался избегать дворовых драк и шумных игр. После школьных уроков брал этюдник и шел писать городские пейзажи или уезжал за город. Он с детства знал, что станет художником. И его уход из института и переезд в Москву для Сусанны Петровны были настоящей трагедией. Она так и не поняла, почему он это сделал.
Она была рада, что он перевез ее к себе. В Тбилиси никого из родных не осталось. Но в семье Ивана ей было невесело. Сын был добр и предупредителен, но разговаривал с ней редко. Невестка холодно здоровалась. На том их общение и заканчивалось. Внука она видела только когда кормила его. У него была своя, непонятная ей жизнь. Он в 15 лет мог прийти домой за полночь, а то и утром. Ни отец, ни мать из этого трагедии не делали. Несколько попыток поговорить сначала с внуком, а потом с сыном о ненормальности гулянок до утра были пресечены. Ей оставалось сидеть в своей светелке и готовить на всю семью. От ее вкусной стряпни никто не отказывался. Я был, пожалуй, единственным, кто мог часами слушать истории из ее жизни. Однажды она попросила меня рассказать о том, как мы познакомились с Иваном.
Она удивлялась тому, что у сына появился друг. Иван с детства был замкнут. Ни с кем не откровенничал, всегда держал дистанцию. Лишь один человек, тоже сын репрессированного, называл его своим другом. У него мы и познакомились.
Сусанна Петровна видела, как мы подолгу беседовали, как горячо Иван спорил со мной, словно его прорвало за полвека скрытной, молчаливой жизни. Она пыталась узнать у меня, как мне это удалось и чем я его так расположил. Но я и сам не мог этого понять.
Возможно, дело в том, что наше знакомство произошло в Тбилиси – городе его детства. И хотя он говорил, что ничего хорошего в его детстве и юности не было, я видел, как он был рад, что приехал на родину. Он менялся на глазах и через неделю из грустного молчаливого человека превратился чуть ли не в весельчака, свободно чувствовавшего себя в любой компании. Его радовали встречи с постаревшими однокурсниками, прогулки по улочкам, где он помнил каждый дом и кто в нем жил, споры об искусстве и политике, знакомство с работами молодых художников. Ничего подобного не было с ним за четверть века московской однообразной многотрудной жизни. Наверно, встречи со мной будили в нем воспоминания о тех тбилисских каникулах, когда он за день получал больше впечатлений, чем за все время своего столичного прозябания. Иначе трудно объяснить причину нашей дружбы. Он впервые раскрылся и мог со мной не залезать в свою скорлупу. Он получил опыт «вылезания из подполья». И время от времени вновь хотел его испытать. Мои приезды к нему давали эту возможность.
А мне он был интересен по многим причинам. Я никогда прежде не встречал людей такой твердости, силы и неколебимой принципиальности при мягкости и даже застенчивости. В нем сочетались полярные качества: щедрость с другими и предельная экономность с самим собой, умение твердо стоять на своем в принципиальных вещах и поразительная уступчивость в том, что он принципиальным не считал.