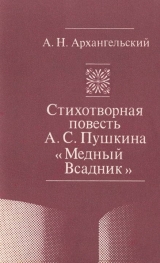
Текст книги "Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный Всадник»"
Автор книги: Александр Архангельский
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Причем, если в цитированной выше рецензии «Московского Телеграфа» всеразрушительные стихийные силы природы служат доказательством «божественности» социальных потрясений, то в мире пушкинской повести они сами предстают как результат сугубо человеческих социальных действий, и слова, вложенные в уста меланхолического потомка Петра, императора Александра I: «С божией стихией // Царям не совладеть», – звучат здесь так же нелогично, как и упрек Евгения, направленный «не по адресу», – небу; в «Медном Всаднике» сметающая все на своем пути стихия не Божия, а вполне человечья, т. е. вызванная к жизни людьми.
4. Обратимся теперь к образу царя-меланхолика; выясним его роль во «внутреннем» сюжете повести.
Прежде всего, зачем Пушкин убрал из «галереи» царствующих особ, чьи портреты запечатлены в «Медном Всаднике», лики Екатерины и Павла, оставив лишь Петра и Александра, хотя тема наводнения 1777 г. в черновиках варьировалась? Видимо, затем, чтобы возникла своего рода прямая перспектива смыслового сюжета; чтобы у деятельного, волевого, покоряющего природу основателя города появилось (зеркальное, «перевернутое» отражение в образе царя, бессильного что-либо изменить в страшной ситуации; чтобы эти герои были осмыслены как олицетворение двух полярных – но одинаково неистинных – позиций государственных деятелей по отношению к стихии, в каком бы из своих обликов она ни представала – природном, историческом, социальном.
Вводя Александра в действие, Пушкин (в который раз!) использует прием контраста, сталкивая привычную формулу придворного речевого этикета «со славой правил», с описанием, словно бы принадлежащим нежному перу элегика:
На балкон
Печален, смутен, вышел он
И молвил:
«С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Разрыв между формулой и элегическим этюдом очевиден. Но эпизод с царем взят еще и в кольцо из жестких, подробных, детальных картин наводнения. С одной стороны – «Гроба с размытого кладбища // Плывут по улицам!»; с другой – «На звере мраморном верхом, // Без шляпы, руки сжав крестом, // Сидел недвижно, страшно бледный // Евгений». А посредине этой катастрофы – неприступный дворец, который «казался островом печальным» и был лишен государственной мощи, спасительной, деятельной энергии.
Царь молвил – из конца в конец
По ближним улицам и дальним
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.
Помощь, которую готов оказать правитель великой страны пострадавшим, несоизмерима ни с масштабами опасности, ни с масштабами ответственности, на него возложенной. Да и кто эти мужественные генералы? Читаем в пушкинской сноске: «Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф». Военный губернатор Петербурга, убитый 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади Каховским, и начальник III отделения…
Пушкинскую повесть, как подчеркивал еще Б. В. Томашевский, следует прочитывать сквозь призму упомянутой в предисловии к ней книги В. Н. Берха. Так, находим у Булгарина – Берха[68]68
Статья Ф. В. Булгарина «Письмо к приятелю» в «Литературных листках» начиналась с вступления (цитата из которого приводится), не воспроизведенного в статье Берха.
[Закрыть] такой пассаж: «Счастлив народ, который в несчастий испытывает не огорчительное равнодушие, но отеческую и пламенную к себе любовь своего правительства и находит между согражданами великие примеры добродетели!» Мысль Пушкина противостоит монархолюбивому пафосу Булгарина и Берха. Как подчеркивал Н. В. Измайлов, «царь, созерцавший с балкона Зимнего дворца „злое бедствие”, может только признать свое бессилие». Тот же исследователь отмечал: «Пушкину этот эпизод был нужен, и он обрабатывал его весьма тщательно… (…) Здесь внешне почтительное „со славой” в сопоставлении с „печален, смутен”, с признанием царем своего бессилия перед стихией звучит скрыто иронически…»[69]69
См.: Пушкин А. С. Медный Всадник… С. 105, 203.
[Закрыть]
Создается впечатление, что Пушкин – развитием «внутреннего» сюжета – постоянно испытывает своих героев. Как раз когда царь произносит свою аморфную тираду, свершается гибель Параши. «Благодаря» его историческому безволию стихия, вышедшая из повиновения, свободно совершает свои страшные действия, прорывая монолитное сооружение сюжета, как волна – дамбу, и обрушиваясь на самое действие повести. Однако безволие государя совсем не то же самое, что бездействие еще одного неподвластного стихии персонажа повести, вызвавшего совсем другую оценочную реакцию автора.
5. Как державный основатель имеет свою историческую тень – печального царя, так бедный Евгений – рыбака, связанного с ним тем же эпитетом. Почему этот периферийный, в динамичном развитии событий никакой роли не играющий образ «развернут» не только в пространстве, но и во времени и действует (точнее – без-действует!) на всем протяжении повести – в течение столетия?[70]70
Оговоримся: речь идет не о герое, т. е. личности, существующей в определенных пространственно-временных границах и, разумеется, не могущей действовать на протяжении столетия, но именно об образе, т. е. символической фигуре. Так, державный основатель и Всадник – разные герои, но они составляют один образ.
[Закрыть] Почему он появляется в самых важных для художественного произведения эпизодах – во вступлении: «…финский рыболов, // Печальный пасынок природы…», а затем в финальной сцене погребения «на острове малом»: «Рыбак, на ловле запоздалый…»? Какую роль играет он во «внутреннем» сюжете?
Мы ничего не сможем понять, если не посмотрим на него сквозь призму общеизвестного «источника» этого образа – идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки» (1821), популярную в пушкинском кругу[71]71
См.: Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки» // Ученые записки (ЛГУ. <№ 46). Л., 1939. С. 284–320.
[Закрыть]. Пушкин не раз творчески обращался к «Рыбакам», в том числе в стихотворении «Когда порой воспоминанье…» (1830), где у поэта впервые появляется ставший затем излюбленным пейзаж: «Сюда порою приплывает // Отважный северный рыбак,//Здесь невод мокрый расстилает // И свой разводит он очаг». Между прочим, идиллия «Рыбаки» была перепечатана в сборнике Гнедича[72]72
Гнедич Н. И. Стихотворения. Поэмы. М., 1984. С. 159, 164–165.Гнедич Н. И. Стихотворения. Поэмы. М., 1984. С. 159, 164–165.
[Закрыть] 1832 г., так что в момент создания Пушкиным повести «Медный Всадник» была у поэта «на слуху»; к тому же в 1833 г. Пушкин присутствовал на похоронах переводчика Гомера, состоявшихся 8 февраля в Александро-Невской лавре.
Сравним:
На острове Невском, омытом рекою и морем,
Под кущей одною два рыбаря жили пришельцы; (…)
Лишь честную бедность они принесли за спиною (…)
Все спит: над деревнею дым пи единый не вьется.
Огонь лишь дымится пред кущею рыбаря-старца.
Котел у огнища стоит уже снятый с тренога:
Старик заварил в нем уху в ожидании друга; (…)
Не ужинал он и скучал, земляка ожидая; (…)
Финал «петербургской повести»: «и бедный ужин свой варит» – узнаваем.
Но возьмем другой ряд цитат из «Рыбаков» и убедимся в том, что параллель с ним содержится и в начальных стихах «Медного Всадника», во Вступлении:
При чтении этих стихов легко вспоминаются описания леса («неведомый лучам» солнца), челна, не замеченного царем, и изб, не интересующих его, наконец, как бы всуе помянутого финского рыболова («печальный пасынок природы»), бросавшего некогда «ветхий невод» в «неведомые воды».
Так что перекличка с Гнедичем оказывается сквозной, значимой в равной степени и для завязки сюжета «Медного Всадника», и для конца его. Ее цементирующая сила заставляет и нас сцепить в своем восприятии как бы разорванные и далеко разведенные в пространстве пушкинской повести звенья еще одной сюжетной цепи, которая (в продолжение разговора, начатого в предыдущей главе) невидимо спаяна связью с идиллией.
Сравним два текста.
Идея идиллии Гнедича нескрываемо выражена в автоэпиграфе к ней: «Таланты от бога, богатство – от рук человека». Все ее сюжетное движение направлено к подтверждению, «иллюстрации» этой истины: бескорыстно «взыгравший» в саду на свирели Младший рыбак получает в награду от сребровласого боярина новый невод и возможность продавать лучший лов на трапезу боярину. В мире идиллии Гнедича совершаются незначительные изменения, но они совершаются: благость и умиротворение «материальными» результатами духовного труда от начала к концу нарастают, становятся интенсивнее, вплоть до того, что Старший рыбак «устает» от радости сердца.
В пушкинском отголоске этого сюжета никакие перемены невозможны. Образ, целиком погруженный в пространство «внутреннего» сюжета, словно замер в одном состоянии – бедной честности: рыбак ни к чему не стремится, ничего не желает; время для него действительно движется по кругу, как того и требует идиллия, – ничего не прибавляя и не убавляя в составе его бытия. При этом в сюжете «внешнем» – сплошной калейдоскоп событий. На берег Невы приходит царь, замышляет город; творческая сила обрушивается на жизнь рыбацких селений; идиллик Евгений как бы пытается реализовать сюжетный замысел Гнедича, в полном согласии с ним полагая, что «таланты от бога» («…мог бы бог ему прибавить // Ума и денег»), а «богатство – от рук человека» («…трудом // Он должен был себе доставить // И независимость и честь»). Но замысел этот рушится, не осуществившись: Евгений сходит с ума, пытается поссориться с кумиром; одическое величие и идиллическая невечность вступают в неравный конфликт. А рыбак все тот же, и жизнь все та же. Созидаются царства и рушатся судьбы – а человеческое бытие идет своим чередом. Такова неидиллическая огласовка идиллического сюжета Гнедича у Пушкина. И потому нельзя сказать, «хорошо» или «плохо», что так происходит в мире; можно лишь констатировать, что это – так. Затем и понадобился Пушкину такой «неизменный» образ, помещенный на противоположных полюсах сюжетной цепи, чтобы его «извечностью» оттенить драматическую неправомерность «одического», надчеловеческого замысла царя, «идиллического», частного жизненного намерения Евгения и безволия Александра I.
Образ этот художественно связан с образом рыбака из «Сказки о рыбаке и рыбке» (тоже – 1833 г.), и оба они генетически восходят к «речной идиллии», столь популярной в начале века. Но ведь родословная Евгения берет начало в той же жанровой традиции, однако как круто расходится его путь с предначертанной ему идиллическим каноном дорогой! Достаточно вспомнить, что в 1818 г. «Вестник Европы» (№ 19. С. 168–177) поместил идиллию А. Ф. Воейкова «Первый мореплаватель», герой которой, Дамон, живет на острове, «долиной и ручья межою отделен» от «уютного домика» своей возлюбленной Алины. Подобно Евгению, Дамон на закате бредет домой «мечтами веселясь» о невесте, о счастии – и тут начинается буря, воды вздымаются – «И гневный Океан на сушу устремлен… // (…) // От основания оторван по долину, // Алинин холм идет в кипящую пучину». Дальше начинаются не просто сюжетные, но уже текстуальные переклички двух произведений: «За ночью адскою восходит райский день // (…) // Один Дамон стоит, мертвец непогребенный, // Недвижный взор вперя на волны разъяренны», которые «в гранитный берег хлестали». Любовь, заставившая Евгения ринуться на утлом челне через волны, чтобы узнать о страшной утрате («Судьба с неведомым известьем…»), Дамону «мужество и средство подала // Челн выдолбить, преплыть безвестную пучину, // И удивить судьбу – отнять у ней Алину». На этом переклички кончаются, начинаются разногласия. Ибо вопреки Воейкову, вопреки всей философии идиллии с ее упованием на житейское благо, Пушкин направляет вектор сюжета к трагедии, ставшей «заменой счастия». И если какая-то мысль «Первого мореплавателя» ему и близка, то это мысль, высказанная Воейковым в начале, а затем опровергаемая финалом:
Но ах! что прочно здесь и верно? и каких
Неизменяемых благ в мире сем желаем,
В котором сами мы как призраки мелькаем?
В «Медном Всаднике» тот, кто смирился с непрочностью бытия (рыбак даже не земледелец, его улов – полностью дело случая!), тот сохранил данное ему от века. Кто сделал ставку на тихое, но прочное счастье – тот потерял все.
6. Ломаная линия «внешнего» сюжета пушкинской повести как бы повторила страшный узор трещины, которую под ударом исторической стихии дал в самой своей сердцевине изображенный в «Медном Всаднике» мир.
Но едва ли не главный парадокс сюжета «Медного Всадника» заключен в том, что развязка дана в нем фактически одновременно с завязкой, хотя и убрана в ее тень. Вспомним выделенный пробелами отрывок Вступления: «Люблю тебя, Петра творенье…» Прежде чем поведать о расколе мира, поэт намечает – как духовный противовес этому расколу – образ цельной, истинной, распахнутой настежь жизни, где все объединено его любовью!
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И, чуя вешни дни, ликует.
В этом описании совмещены контрасты – державное течение Невы и задумчивые ночи; полнощная царица – и синий лед реки; да и сама река дана в двух «ипостасях»: государственной, державной и – природной. Но границы между этими сферами бытия словно разомкнуты; они не противоречат и не противостоят друг другу, а вполне мирно и дружественно соседствуют. В монологе «Люблю тебя, Петра творенье…» явлена амбивалентность, многосторонность мира, уравновешивающая разные, порой даже противоположные, его стороны. Вот выход из драмы разъединения, легшей в основу «внутреннего» и «внешнего» сюжетов повести, выход, требующий не социальных потрясений, не государственных переворотов, крови и стихии, но всего лишь переживания каждым человеком родства с бытием, готовности своей жизнью ответить, откликнуться на его многомерность: «Люблю тебя…»
В повести сплетаются два сюжета – «внешний», событийный, где ничто ни с чем как бы не связано, и «внутренний», символический, в котором все связано со всем. Во «внутреннем» сюжете герои своими помыслами пробуждают дремлющую в недрах исторического бытия стихию, которая в сюжете «внешнем» оборачивается разрушительным наводнением, угрожающим счастью человека. Разрешение драматического конфликта Пушкин видит в преодолении разрыва между величием государственных задач и кругозором частной личности. Но выход этот в повести дан лишь намеком, к его проблеме поэту предстояло еще раз вернуться.
ГЛАВА 4
В ПОИСКАХ ВЫХОДА:
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» И СТИХОТВОРЕНИЕ «ПИР ПЕТРА ПЕРВОГО»
Возвращение к теме «Медного Всадника»; причина и смысл повторения пройденного. Жанровое, идейное, сюжетное разрешение проблем «петербургской повести». Ода на человечность – жанровая формула пушкинского гуманизма.
1. Тема «петербургской повести» – драматический разрыв всего со всем, взаимная (хотя и неравная) неправота враждующих социальных сил, рассогласование намерений государства и личности. Разрыв и есть разрыв, неправота и есть неправота. Страшные проблемы названы своими именами – разве этого мало? Разве нужно что-то еще? И все же читатели повести (в том числе читатели профессиональные – критики и литературоведы) не устают искать ответ: где выход из обнаженных противоречий? В чем спасение от стихии? Судьба бедного рыбака, о котором речь шла в предыдущей главе, тоже не панацея от бед: в этом образе скорее отражается реальное положение дел, чем символически воплощается идеал поэта. Конечно, подсказка присутствует в «Медном Всаднике», но в неявной, «снятой» форме; монолог «Люблю тебя, Петра творенье…» растворен в структуре Вступления. Окончательное разрешение конфликта – идейного, сюжетного, жанрового – перенесено в некую затекстовую плоскость, в область предположений и догадок. Оно брезжит, но никак не пробьется сквозь пелену стихии. Не потому ли Пушкин еще раз – два года спустя – вернулся к давней теме и окончательно поставил все точки над «i»?
Имеется в виду стихотворение «Пир Петра Первого» (1835), в основу которого положен реальный факт, известный Пушкину по записи М. В. Ломоносова: Петр простил знатных преступников и пушечной пальбой праздновал свое с ними примирение. В «Пире Петра Первого» следует видеть духовный, политический и художественный манифест Пушкина, сознательно вынесенный в качестве «программы» на первую страницу первого тома журнала «Современник». Торжественные хореи «Пира Петра Первого» приходят на смену возвышенным ямбам Вступления, а тема его как бы «разворачивается» из монолога во Вступлении. Вот строки «Медного Всадника»:
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует…
А вот для сравнения текст «Пира Петра Первого»:
Пересечение, совпадение не только тематическое, но и – интонационное, темповое, жанровое.
Видимо, Пушкин не был окончательно удовлетворен болезненной неясностью ответов на поднятые в «петербургской повести» вопросы. Нужно было поставить точку в затянувшемся споре между внечеловечной государственностью и внеисторической человечностью. И тут добрую службу ему сослужил выработанный русской литературой устойчивый ассоциативный «ход» – от символического образа Медного Всадника к теме прощения, примирения, милости. Причем это могла быть связь и по противоположности (именно так – у Пушкина), и по смежности [например, А. Н. Радищев, воссоздавая в «Письме к другу» (1782) картину посвящения «монумента, Петру Первому в честь воздвигнутого, то есть открытие его статуи, работы г. Фальконета» и употребляя многие общериторические приемы, которыми затем воспользуется во Вступлении и Пушкин, в то же время невольно повторял ломоносовскую формулу: «Сей день ознаменован прощением разных преступников (…)»]. «Пир Петра Первого» и есть «затекстовое» продолжение «Медного Всадника», его отзвук, его смысловой итог.
Выше речь шла о контрастах одического стиля, о противоречиях идиллического мира, о парадоксах сюжета повести. И каждый раз Пушкин ставил нас в тупик своими художественными решениями, своими негативами традиционных приемов. Теперь мы пройдем шаг за шагом тот же путь: от оды через идиллию к сюжету в пространстве «Пира Петра Первого», где затемненный мир «Медного Всадника» был повернут лицом к свету.
2. Как то было и в повести, в «Пире Петра Первого» Пушкин подчеркнуто соотносит свое произведение с классической одой[75]75
Здесь и выше «Пир Петра Первого» назван стихотворением, а затем будет именоваться одой и даже «идиллической одой». Никакого противоречия в этом нет. Произведение создавалось в эпоху, когда классическая система жанров лирики уже завершила свое развитие, но еще не окончательно ушла в историко-литературное прошлое. Любой поэт мог пользоваться в стихах ассоциативными перекличками (стилистическими, интонационными, ритмическими) с тем или иным классическим жанром, не воплощая полностью его канон, а при необходимости даже «скрещивая» самые разные жанры в пределах одного текста.
[Закрыть], посвящавшейся обычно военной победе («Ода на взятие…»), рождению наследника в царской семье («…на рождение… порфирородного отрока…»), именинам государя или государыни («…на тезоименитство…»)… Но тут появляется существенное отличие. Все эти мотивы Пушкин включаёт в отрицающее перечисление, как бы заранее предсказывая, что не они будут главной темой его «новой» оды:
Нет! Он с подданым мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.
Вот и первый ответ на поставленный в «Медном Всаднике» вопрос. Там одическое начало оказывалось незримо связанным с абстрактно-волевым усилием царя, приведшим к бунту стихии, а значит, ода становилась символом рациональной узости, обедняющей содержание человеческой жизни; здесь древний лирический жанр преобразован: поэт вдохнул в него новое, гуманистическое содержание.
Задумаемся: что было необходимо для этого? Наверное, прежде всего нахождение особой точки зрения, которая примирила бы споривших в повести «одического витию» и «сердечного повествователя». Казалось бы, это немыслимо. Проблематика оды – государственная, повествователя – этическая, и примирить их может только небывало двуединая категория – государственно-этическая.
И все же Пушкин такую категорию нашел. Имя ей – милосердие, в одно и то же время возвышенный акт, государственный поступок, возможный лишь в условиях общественного благополучия и уверенности в незыблемой крепости государства, и реальный, направленный на человека. Когда государь милосерден, он одновременно и велик и человечен. Для Пушкина это было чрезвычайно важно. Долго (и – увы! – напрасно) пытался он внушить эту мысль своим власть предержащим современникам. Еще в стансах «Друзьям» милость была названа первым из державных прав. Это очень важно: этическая категория входит в круг государственных интересов.
Или в стихотворении «Герой» на вопрос, поставленный в эпиграфе: «Что есть истина?» – Пушкин отвечал:
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
Это истина всеобщая, которой должен следовать не только философ или поэт, но и государственный деятель. Слова эпиграфа не случайно взяты из евангельского текста. Принадлежат они Понтию Пилату, государственному мужу, в отличие от фарисеев и книжников считавшему, что «нет на сем Человеке» «вины», но выбравшему не мужественное милосердие (ведь пришлось бы пойти против всего народа Иудеи и даже поставить под удар свою репутацию как верного слуги кесаря), а соглашательскую жестокость. См. также в «Стансах»: будь «памятью, как он, незлобен», т. е. милосерден, государственно-человечен. Финский филолог Э. Пеуранен не случайно услышал в «Стансах» отголосок оды[76]76
См.: Пеуранен Э. Лирика А. С. Пушкина 1830-х годов. Поэтика: темы, мотивы, жанры поздней лирики. Ювяскюля, 1978 (на рус. яз.).
[Закрыть]. Торжественная стройность стиля, величественность тона, сопутствующая теме Петра, и задушевная мягкость, сопутствующая мотиву милосердия, уже предсказывают рождение новой оды в пушкинской лирике, где государственное и человеческое начала объединяются в праздновании милосердия.
Такой новой одой и оказался «Пир Петра Первого». Здесь Пушкин поставил в центр личность державного основателя в момент его просветления, в миг, когда самодержец побеждает не стихию вовне, но стихию в себе: «И прощенье торжествует, // Как победу над врагом». И, конечно, победа над собой, торжество милосердия достойны ехать предметом «новой», этической оды Пушкина – оды на человечность, где прямо намечен выход из драмы размежевания, показанной в «Медном Всаднике». Петр весь в заботе о мире в стране, о судьбах ее граждан. Милость в данном случае – поступок, и поступок весьма активный, с которым несопоставимо бездействие «покойного царя» из «Медного Всадника». Эту мысль Пушкин вынашивал долго. Уже в стихотворной повести «Анджело», создававшейся параллельно с «Медным Всадником», лицом к лицу встречаются два противостоящих типа правителя – Дук и Анджело, в чьих образах угадывался намек на Александра I (по слухам, не умершего, но ушедшего «по градам и весям») и Николая I. В начале повести «предобрый, старый Дук» не может справиться с государством: «власть верховная не терпит слабых рук», – а в конце тот же Дук именно добрым, милостивым поступком – прощением – восстанавливает порядок в стране. Вся разница в том, что прекраснодушное бездействие государя губит державу, а благодатное, решительное милосердие спасает ее. Не закон правит миром, а либо беззаконие жесткости (как в случае с Анджело), либо сверх-законие милости («И Дук его простил»). Та же смысловая модель и в «Пире Петра Первого». Государственная, историческая, масштабная человечность… Она, по мысли поэта, и есть та историческая сила, которая способна восстановить далеко разошедшиеся сферы человеческой жизни, одолеть стихию истории безо всякого покорения. И уж тем более – возвратить оде утраченные ею «права гражданства» в культуре[77]77
(Хотя бы с помощью неявной пародии – в «Пире…» вывернут наизнанку прием стилизованной под «народную песню» оды В. А. Жуковского «Многолетие» (1834). См.: Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 3 т. / Под ред. проф. А. С. Архангельского. Пг., 1918. Т. 1. С. 402.
[Закрыть].
3. «Примирение» недаром в корневом родстве с «умиротворением». Пафос, пронизывающий «Пир Петра Первого», неизбежно вызывает жанровую ассоциацию с идиллией, которая медленно, но неуклонно проступает сквозь полупрозрачный слой одической темы стихотворения. В «Пире Петра Первого» идиллична не только интонация рассказа, но – что важнее – сама позиция рассказчика. Кто он? Как Пушкин моделирует его образ? Заметим, просторечие здесь всерьез выступает в роли высокого одического стиля: «В Питербурге-городке» (хотя орфография требовала «в Петербурге»). Все в «Пире Петра Первого» увидено одновременно и пушкинским умудренным взглядом и глазами простосердечного «человека из народа», которому ничего не стоит не услышать тавтологии в сочетании «Питербург-городок» («бург» и есть «город», «крепость»), ибо название столицы неразложимо для него на составные немецкие корни.
«Примирительной» идиллии «Пира Петра Первого» – в отличие от рушащейся идиллии «Медного Всадника» – ничто не угрожает: она основана на прочном фундаменте человечности. Впрочем, такая возможность была предусмотрена и в «петербургской повести», но там ей не суждено было осуществиться, стать действительностью. И тут настала пора вернуться к еще одному звену идиллического сюжета повести, связанному с «Рыбаками» Гнедича. Звено это образует тот самый выделенный пробелами отрывок Вступления «Люблю тебя, Петра творенье…», где, как помним, Пушкин открыто выразил свою позицию, свое мироощущение, свое понимание истинных взаимоотношений между личностью и государством, между природой и городом. Если взглянуть на образы этого отрывка сквозь призму «Рыбаков», то обнаружится, что прежде всего перекликаются между собой описания петербургских ночей, полусумрачных, полупрозрачных.
У Гнедича:
У Пушкина:
(…) Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, (…)
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Велик соблазн сделать из этого сопоставительного ряда, где общим оказывается не только переживание «смещенного» петербургского времени, не только световой эффект описания, но даже и его цветовая гамма – золото небес, отчетливо выделенное на фоне полупрозрачного воздуха, – вывод о нескрываемо-«идиллическом» идеале Пушкина, контрастно противопоставленном «одическому» началу предшествующего отрывка («(…) // Как перед новою царицей // Порфироносная вдова»).
К подобному выводу подталкивает и очевидно личностный, субъективно-поэтический принцип пушкинского словоупотребления, выбранный здесь и выделяющий в мире все изменчивое, неуловимое, мгновенное: задумчивость ночей, безлунность блеска, недвижность воздуха… Узорные ограды, прогулки, наслаждение полнотой бытия: чтением, балами, холостой пирушкой – все это приметы «частной», выведенной за рамки государственной сферы жизни. Интересная деталь: используя едва ли не единственную выпадающую из общего идиллического настроя и явно тяготеющую к одической торжественности строку Гнедича «Шпиц тверди Петровой, возвышенный, вспыхнул над градом», – Пушкин возвращает ей утраченную мягкость, субъективность: «..и светла // Адмиралтейская игла». Да и авторская сноска, сопровождающая именно стихи 43–58, отсылает нас к художественному опыту П. А. Вяземского, в свою очередь также – пусть полемически![79]79
Вяземский «еще в 1823 г. (…) усомнился в том, что она (идиллия Гнедича. – А.А.) открывает путь к национальной идиллии». – См.: Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма… С. 135.
[Закрыть] – связанному с «Рыбаками» Н. И. Гнедича.
Но при этом описание частного мира дано у Пушкина в оправе из державных образов, воссозданных поэтическим словом, тяготеющим к весомой точности оды:
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит. (…)
В этом месте Пушкин находит единственно возможный путь перерастания «одического» импульса в «идиллический», и, значит, идеал его не «умиротворение», свободное от государственного величия, но именно возможность проникновения одного в другое, проницание одного другим. В следующей строке – «Твоих оград узор чугунный» – речь также пойдет о материале (гранит → чугун), и пока читатель будет следить за чисто внешним описанием, поэт незаметно заведет разговор о том, что воплощено в этом материале. Ибо одно дело – державно сковывающие стихию реки гранитные берега, и совсем другое – чугунные решетки садов с тенистыми и уединенными уголками. Точно так же, исподволь, поэт переключает свой текст из одного жанрового регистра в другой, когда настает время вернуться в одическую тональность: после слов о голубом пламени пунша вполне естественно звучит рассуждение о «воинственной живости» потешных «Марсовых полей». Мы даже не успеваем уследить, как и когда Пушкин окончательно переводит тему в «высокий план», ведь «однообразная красивость» – образ, в равной степени могущий выражать и «частное» восхищение, и «державный» восторг. Но переход на новые позиции совершен; поэт восклицает: «люблю» —
(…) Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром (…)
Здесь и далее воспроизводится перечислительный ряд тем канонической оды (на рождение «порфирородного отрока», на «взятие» и т. д.), который станет ведущим приемом в «Пире Петра Первого». Но – и тут Пушкин ставит перед читателем еще одну жанровую загадку – в тот же ряд встает вдруг, без всякой паузы, весна, которая могла служить темой сентименталистской (ср. у М. Н. Муравьева: «Ода десятая. Весна»), однако никак не классицистической оды. А ведь именно на последнюю сознательно сориентированы все предшествующие строки. Тем не менее текст есть текст:
(…) Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И чуя вешни дни, ликует.
Ликование весны соотнесено и с ликованием народа, узнавшего о рождении будущего своего главы, и с духовным подъемом, вызванным военной победой. Жанры перетекают друг в друга; происходит как бы «снятие» оды через идиллию, а идиллии через оду. Сферы человеческого бытия оказываются взаимопроницаемыми; любовь поэта объемлет собой весь мир в его двойственном проявлении – общем и частном. Ибо в том и заключен основной сюжетный конфликт повести (а значит, и его жанровый «конфликт»), что бытие распалось на противостоящие друг другу начала – великое и малое, общественное и гражданское, одическое и идиллическое. Пушкин же не с одой и не с идиллией. Он – как повествователь – над ними и лишь вынужден пользоваться масками: «одического витии», воспевающего несуществующее величие Всадника, и «идиллика», передающего жизнеощущение «бедного» Евгения.
Необходимо воссоединение разошедшихся сфер человеческой жизни. Таков идейный и жанровый итог «Медного Всадника», в скрытой форме выраженный еще до начала развития основного действия – в авторском монологе. Между прочим, в этом «предваряющем итоге» впервые появляется имя Петра: царю как бы возвращается его индивидуальность. Жизнь самой Истории не знает различия между «высоким» и «низким», а победа весны так же важна, так же «исторична», как и победа над врагом.
Указать миру на это Пушкин и считал своим долгом. В посвящении Н. И. Гнедичу, созданном за год до начала работы над «Медным Всадником», он прославлял переводчика «Илиады» именно за умение «сочетать» малое и великое в мире: «Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты // Жужжанью пчел над розой алой», – ибо «Таков прямой поэт».
Прямым поэтом был и сам Пушкин.
Тем страшнее то, что уже во Вступлении к «Медному Всаднику» голос поэта расслаивался на спорящие «слова о мире»: одического витии, идиллика и сердечного повествователя. Теперь, в «Пире Петра Первого», стиль един. И выражает он простосердечную точку зрения одического рассказчика, соединившего возвышенность и доброту, семейственную идилличность и одическую восторженность. Рядом здесь можно встретить архаическую и «новую» формы слова, которые выступают как стилистически равноправные: «И в чело его целует, // Светел… лицом» (курсив мой. – А.А.). В один ряд с «челом» просится «лик», а с «лицом» – «лоб». Но Пушкин принципиально поступает иначе. Если в традиционной оде (равно как и в идиллии) слово должно выступать или в прямом, логическом своем значении, или в переносном, а одновременное сочетание двух значений не допускается, то в пушкинской оде слова раскрываются навстречу друг другу, звуча в лирическом диалоге.








