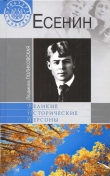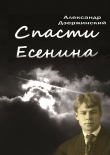Текст книги "Загадочная петля. Тайна последних дней Сергея Есенина"
Автор книги: Александр Маслов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Загадка «вдавленной борозды»
Тем не менее С. Куняев продолжает: «Что же помешало Есенину выпрыгнуть в любую минуту? Не та ли пресловутая вдавленная борозда? Или он был подвешен к трубе парового отопления уже в полубессознательном состоянии, когда рука уже сжимала трубу чисто интуитивно?» Заметим, что в бессознательном состоянии наступает полное расслабление мышц, и сжимать что-либо «интуитивно», в том числе и трубу, невозможно.
О, вот это уже действительно интересно! Что за «пресловутая вдавленная борозда»?
Этой «вдавленной борозде», которую в разных работах называют по-разному, уделяется очень много внимания. Еще бы, ведь речь идет едва ли не о следах побоев на лице поэта. Более того, среди построений, переходящих из одной работы в другую, постоянно встречаются утверждения о нанесенном поэту «страшном» ударе по голове.
Вновь обратимся к Акту судебно-медицинского исследования трупа: «…посредине лба, над переносьем – вдавленная борозда длиной около 4 сант. и шириной 1,5 сант.». Значит некая борозда действительно существует. Откуда же она могла возникнуть? В заключении к Акту судебно-медицинский эксперт Гиляревский записал: «Вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении». Отвечая на запрос председателя Всесоюзного Есенинского комитета, еще в декабре 1991 года автор отмечал: «Из Акта осмотра трупа известно, что лицо обращено к трубе, а вследствие бокового расположения узла петли голова была наклонена. Таким образом, вдавление в лобной области могло образоваться от прижатия головы к вертикально расположенной трубе парового отопления. Как следует из Акта вскрытия, кости черепа целы».
Это же подтверждается и другими исследованиями. Судебно-медицинский эксперт Э. И. Хомякова исследовала маску, представленную Ю. Л. Прокушевым, и пришла к выводу: «В области лба над переносицей (область лобной ямки) имеется углубление – вдавление слегка дугообразной формы, выпуклостью обращенное вниз и влево, идущее в направлении вверх и влево, концы закруглены, верхний край углубления более выражен по отношению нижнего края, общей длиной 40 мм. <…> При исследовании представленной гипсовой маски установлено следующее:
Каких-либо морфологических признаков, характерных для действия острых, рубящих, колото-режущих и огнестрельных орудий на представленной гипсовой маске не выявлено.
Обнаруженное углубление – вдавление в области лобной ямки образовалось в результате контакта с твердым предметом цилиндрической формы».
Об этом же мне довелось говорить и на одном из заседаний Есенинского комитета: «Описано вдавление на лбу, которое трактуется как след вдавления от трубы. Нам была представлена посмертная маска Есенина, на которой отразилась эта борозда. Кстати, до написания этого заключения мы маску не видели. Наибольшая глубина вдавления 3–5 мм. Следовательно, только на глубину кожных покровов. Откуда могло это взяться? Мы не можем гадать, не можем фантазировать. Но здесь надо сопоставить два факта. Косое расположение борозды – голова трупа была склонена к левому плечу. Лицо трупа, как следует из протокола осмотра, было обращено к трубе. При исследовании гипсовой маски эксперт пришел к выводу: обнаружено углубление, вдавление в области лобной ямки, которое образовалось от контакта с твердым цилиндрическим предметом. Данных о наличии повреждений в области лобной кости не имеется. Значит, черепно-мозговую травму как таковую, учитывая еще и описание мозга, в данной ситуации можно отбросить».
То есть ничто нам не указывает на некий «страшный удар», который нанесли по голове Есенина в последние минуты его жизни. Вообще ничто!
Помните, мы еще во введении говорили – есть факт или источник и адекватный метод его исследования. Это значит, что в данном случае надо точно оценить сам факт (наличие и форма повреждений, глубину и т. д.), а уже затем делать выводы. И ловушкой для многих в этом случае стала именно неверная оценка (или вообще не-оценка) факта.
Естественно, подобное утверждение не могло удовлетворить адептов версии убийства поэта, так как рушились их построения об ударах, огнестрельных повреждениях и пр. И здесь полемический задор, эмоциональность и, самое главное, желание любой ценой «загипнотизировать» читателей и слушателей криминальной версией убийства заставляет уважаемых оппонентов, не слушая никаких аргументов, отбросить научные доводы, приводимые специалистами. Досталось, естественно, и мне. И здесь эмоции застят факты: «Исследование судебно-медицинского эксперта А. Маслова, опубликованное в журнале «Врач» (1991, № 5), невозможно было признать даже в некоторой степени аргументированным, поскольку он ознакомился только с двумя документами: Актом осмотра места происшествия, составленного крайне поверхностно, и Актом судебно-медицинского эксперта А. Г. Гиляревского, причем даже без восстановления утраченной части этого документа», – возмущается Н. Сидорина. Примечательно, что теми же самыми документами пользовались и любители, отстаивая свою версию убийства. Поэтесса продолжает: «Копию маски (не оригинал!) Маслову представили только за одну неделю до печально юбилейного заседания Есенинского комитета – расследование велось два года. Проведя столь поверхностное исследование материалов, специалист Маслов не постеснялся выступить в печати в мае 1991 года, а также по радио в преддверии 66-й годовщины гибели поэта.
На мой вопрос о травме носа, которая отчетливо видна и на следственных фотографиях, к которым специалист не прикоснулся, и на посмертной маске, А. Маслов ответил: «А может быть, у Есенина и при жизни был такой нос». Никаких сопоставлений с прижизненными фотографиями тогда не проводилось.
И, тем не менее, позиция у молодого (спасибо за комплимент. – А. М.) специалиста твердая, поскольку в соавторстве с ним выступил директор Научно-исследовательского института судебной экспертизы (такого института нет, в то время существовал НИИ судебной медицины. – А. М.), председатель научного общества экспертов (увы, и такого общества нет. – А. М.), член-корр. АМН СССР А. П. Громов. А от своих скороспелых выводов, высказываний – пусть даже в соавторстве! – маститые ученые, как известно, не любят отрекаться».
Сразу уточним: профессор А. П. Громов не исследовал маску, в журнале «Врач» статья была опубликована лишь за моей подписью. Точность фактов – это профессиональная вежливость ученого и тяжкий крест всякого непрофессионала. Будем считать слова о «столь поверхностном исследовании материалов» произнесенными в полемическом запале – факты исследуются по определенной форме и процедуре, которая и гарантирует точность исследования. Судебно-медицинское исследование – вообще вещь «сухая», и если кому удавалось познакомиться с Актом судебно-медицинского исследования, то он вряд ли может насладиться красотой слова, стилистикой изложения или приравнять Акт к эмоциональной беллетристике. Но именно в этой «сухости» и здравом консерватизме и заключена возможность непредвзято оценить факты. Кстати, искривление спинки носа хорошо заметно на прижизненных фотографиях, что в дальнейшем была вынуждена признать и сама Н.Сидорина.
Можно опровергнуть мнение эксперта (хотя все же делать это надо на определенном уровне наличия профессиональных знаний), но нельзя опровергнуть наличие факта. Мне вспоминается дискуссия, развернувшаяся 24 декабря 1991 года на заседании комиссии Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта:
«Н. К. Сидорина: На маске мы видим, что переломлен нос. У Есенина никогда не было носа с горбинкой. Как Вы практически это объясняете?
А. В. Маслов: Насчет перелома костей носа. При исследовании под бинокулярным микроскопом я обратил внимание на искривление носовой кости влево. Кости носа там довольно тонкие, нос прямой, искривление и все. Я не могу трактовать это как след перелома. Может быть, врожденное искривление носовой перегородки.
И. К. Сидорина: Нет, у Есенина нос не был горбатым.
А. В. Маслов: А он не является горбатым по маске. Может быть искривление носовой перегородки, может быть старый перелом».
Читателям, очевидно, ясно, что эксперт ни в чем не убедил поэтессу.
Кстати, на фотографии Есенина и Леонова, сделанной в марте 1925 года, прекрасно видно, что форма спинки носа Есенина с «горбинкой». Допускаю, что Н. Сидорина не видела этой фотографии. Но, может быть, она читала письмо Есенина: «Галя милая! Ничего не случилось, только так, немного катался на лошади и разбил нос. У меня от этого съехал горб (полученный тоже при падении с лошади). Хотели и правили, но, вероятно, очень трудно. Вломилась внутрь боковая кость. Очень незаметно с виду, но дышать плохо. В субботу ложусь на операцию. <…> С носом вообще чепуха, ничего делать не буду. Это больше раздуто от моей мнительности. Слышал я, что обо мне в Москве ходят слухи, будто бы я очень сильно разбился с лошади. Да! Я правда ушибся, но не очень, просто немного проехал носом».
Признаюсь, я раньше не знал этого письма. Хочется верить, что и член Есенинского комитета Н. Сидорина тоже не читала его, иначе получается что-то от лукавого. Нет, все-таки читала: «И не надо объяснять перелом носа падением с лошади летом 1924 года и выискивать горбинку на фотографиях 1925 года. В лучшем случае найден один сомнительный снимок, только один (с Л. Леоновым)».
Почему «сомнительный снимок»? Может быть, это фотомонтаж, который в течение десятилетий кочевал из одной книги в другую, чтобы доказать наличие искривления носа у Есенина? Нет, конечно, это просто очередное бездоказательное утверждение. К тому же письмо-то написано самим Сергеем Александровичем! Но вот незадача – оно не укладывается в очередную «криминальную» версию, и опять появляется безапелляционное: «И не надо объяснять перелом носа падением с лошади». А собственно почему? К текстам Есенина – а личные письма вообще важнейший исторический источник – следует относиться бережнее или, по крайней мере, профессиональнее.
Кроме общих трескучих фраз, никаких научных доводов, опровергающих мои высказывания, не приводится. «Радикальные консерваторы и радикал-демократы нашли общий язык», – провозгласила Н. Сидорина. Мое твердое убеждение: ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в суждения о кончине великого поэта России вмешивались политические и идеологические моменты. Но всегда находятся люди, которые пытаются навязать свой вариант истории.
«Страшный удар утюгом»
Обратимся к мнениям исследователей. Невольно приходится много цитировать, но без этого непредвзятому читателю не представить глубины и эмоциональности развернувшейся вокруг «вмятины» дискуссии, которая не утихает до сих пор.
«Четверть века назад я увидел один из самых ужасных снимков мертвого Сергея Есенина. Покойный был заснят в анатомичке ленин-градской больницы имени Нечаева на Обуховке, где проводилось вскрытие и медицинское исследование тела поэта. Фотография сделана по завершению экспертизы, хирургический разрез живота погибшего был стянут суровой нитью», – писал И. Лысцов.
Могу подтвердить, что фотографии тела мертвого Есенина даже на профессионалов производят неприятное впечатление – очевидно, из-за огромного чувства жалости к великому поэту России. Не скрою, Есенин – мой поэт и мне, судебному медику, больно смотреть на его мертвое тело.
И далее: «Невозможно без душевного содрогания и сердечной боли смотреть на изуродованное лицо Есенина, на его скорбное, страдальческое выражение, особенно проявившееся в опущенных веках сомкнутых глаз и уголках губ, с которых слетел последний мучительный вздох великого русского поэта. Открытый лоб, от корешков выпрямившихся волос и до переносицы, в самой середине был обезображен глубоким проломом треугольной формы. Такую страшную рану можно нанести лишь тяжелым металлическим предметом, наподобие чугунного пустотелого утюга, нагреваемого древесными углями, которым еще и в наши дни пользуются домохозяйки. Именно из этой раны на лбу Сергея Есенина, по свидетельству участников прощания с телом поэта, вышло… около двадцати граммов мозгового вещества».
Сразу же обратим внимание – во всех этих утверждениях типа «чугунного пустотелого утюга, нагреваемого древесными углями» (какая точность!) немало попыток просто создать впечатление некой солидности и точности. Непонятно, каким образом «участники прощания с телом поэта» определили, что через неповрежденную кожу «вышло около двадцати граммов мозгового вещества»?
С «утюгом» получилось еще похлеще. Пожалуй, одним из самых сложных вопросов судебно-медицинской экспертизы является установление травмирующего предмета по особенностям повреждений. А тут после только лишь взгляда на фотографию делается вывод – «пустотелый чугунный утюг». Если бы определение травмирующего предмета «на глазок» было вообще возможным, то вряд ли стоило бы разрабатывать десятилетиями методы исследования и диагностики. Чем подтверждается столь категоричное заключение автора, каковы особенности повреждений, причиняемых предметом, имеющим грань и ребро? Кстати, автор путает такие понятия, как «пролом» (возможно, перелом? – А. М.) и «вмятина». Но, как говорится, не до таких «пустяков», главное – сенсация!
Откуда вообще взялся «чугунный пустотелый утюг» в номере гостиницы, где обычно постояльцы отдают вещи в глажку, или таинственный убийца принес его с собой как наиболее «сподручное» орудие убийства? И как можно по фотографии лица умершего установить, что утюг именно «пустотелый»? И почему именно утюг, а не подсвечник, не пресс-папье, не ножка дубового стула? Если бы речь шла не о трагедии, то можно было бы еще долго проявлять насмешливый скептицизм по поводу этих версий.
Но чтобы усилить эффект от почти «точно установленной» версии убийства, да к тому же, как оказывается «утюгом», автор развивает эту мысль. «Широко известна и самая первая по времени посмертная фотография Сергея Есенина, сделанная сразу после снятия его с вертикальной пятиметровой (уже пятиметровой! Раньше, кажется, она была все же ниже. – А. М.) трубы парового отопления в разгромленном пятом номере гостиницы «Англетер» и положения на цветистую кушетку. Страшную вмятину на лбу поэта не сумели сгладить профессиональные ухищрения даже такого, по аттестации его в «Энциклопедическом словаре», «мастера психологических характеристик и светотеневых эффектов», как знаменитый фотограф Моисей Соломонович Наппельбаум, сверхоперативно оказавшийся в есенинском «люксе», – продолжает И. Лысцов.
Бывший сотрудник милиции Э. Хлысталов придерживается этой же версии и тоже решает все определить «на глазок». Он начинает издалека и не без литературного изящества: «Лет пятнадцать назад мне в следственное управление неизвестное лицо прислало письмо. Оно, как и полагается, было зарегистрировано в канцелярии и затем передано мне. В конверте текста не оказалось. В нем лежали две фотографии. На них был изображен мертвый молодой мужчина. Сначала я не понял, какое отношение фотографии имеют к уголовным делам, которые я вел. Дел об убийствах у меня тогда в производстве не имелось. Только присмотревшись внимательней, догадался, что на них изображен Есенин. Фотографии были посмертные, обе я видел впервые.
На второй фотографии поэт изображен в гробу. На лбу трупа, чуть выше переносицы, крупная гематома («шишка»). Про такое телесное повреждение эксперты-медики говорят, что оно причинено тупым твердым предметом и по своему характеру относится к опасным для жизни и здоровья. Гематома прижизненного происхождения».
«Кто же причинил поэту такое повреждение? – задается вопросом Э. Хлысталов. – А может, при первой попытке повеситься соскочила веревка, и он упал, ударившись лицом о какой-то предмет? Почему на других видимых мною фотографиях не было следов телесных повреждений?»
Вообще-то, это нарушение всех допустимых норм проведения экспертизы! По фотографиям мы не имеем права определять степень тяжести телесных повреждений или вред, причиненный здоровью (а не «опасность для жизни и здоровья» – такого понятия в Уголовном кодексе просто нет. – А.М.). По фотографиям также невозможно определить, прижизненная гематома («шишка») или же посмертная. Интересно, на основе каких наблюдений автор этого утверждения сумел сделать такой однозначный вывод? Давайте все-таки вести профессиональный разговор на профессиональном языке.
Кстати, врач Черносвитов, работавший в свое время судебным медиком, пишет: «При первом моем взгляде на фотографию мертвого Есенина, которую дал мне Хлысталов, сразу бросилась в глаза огромная вмятина на лбу поэта, идущая чуть ли не от волосистой части головы, захватывающая две трети правой надбровной дуги и переносье. Вряд ли это дефект эмульсионного слоя фотографии. Не зная Акта суд. мед. экспертизы, только на основании осмотра этой фотографии я бы заключил, что это повреждение костей черепа посмертное и возникло от удара тупым твердым предметом с большой силой. Будь оно прижизненным, не так бы выглядели глаза, нос и уши. Но, сравнивая эту фотографию с посмертной маской С. А. Есенина, замечаешь явное несоответствие в повреждении: судя по маске поэта, вмятина захватывает лишь кожные покровы».[33]33
Черносвитов Е. Еще раз о смерти Сергея Есенина // Ветеран. 1990. № 4.
[Закрыть]
Врач Е. Черносвитов в интересной статье «Еще раз о смерти Сергея Есенина» продолжает: «Но я не мог поверить также в то, что следователю (Хлысталову. – А. М.) лет десять назад в следственное управление неизвестное лицо прислало конверт с двумя фотографиями. <…> Потом, при личной нашей встрече, Эдуард Александрович (Хлысталов. – А. М.) признался, что «все это нужно было, чтобы интереснее подать жестокий материал».[34]34
Там же.
[Закрыть]
А это уже кощунственно! Ложь – тоже наплевательство, надругательство над правдой. Действительно, в некоторых работах «исследователей-любителей», к сожалению, чувствуется стремление к излишней сенсационности, эмоциональности, к нагнетанию страстей, а то и просто к саморекламе. Подобные выступления, по существу, дезинформируют литературную общественность и всех почитателей таланта поэта. И сегодня актуально звучат слова русского историка Н. М. Карамзина: «Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять в своем изложении бедствия; он должен быть, прежде всего, правдив; но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом».
И, добавим, больше всего следует бояться самодовольной причастности к истине.
Однако бывший следователь, не заботясь о «правдивости», неутомим: «Во всяком случае, до сих пор не выяснено, чем было обожжено лицо поэта, прижизненные эти травмы или посмертные». И далее: «В акте ни слова не указано об ожогах на лице поэта и механизме их образования».
Этот момент действительно крайне интересен. Ведь об ожоге о горячую трубу парового отопления вправду говорилось и в воспоминаниях, и в напечатанных некрологах.
«На лбу Есенина, у переносицы, были два вдавленных, выжженных следа от тонкой горячей трубы отопления, к которой он, по-видимому, прикоснулся, когда все было кончено, – напишет Н. Браун, находившийся в номере и видевший мертвого поэта. – Одна рука, правая, в приподнятом скрюченном состоянии находилась у самого горла. Левый рукав рубахи был закатан. На руке были заметны следы надрезов – Есенин не раз писал кровью».[35]35
Браун Н. О Сергее Есенине // Москва. 1974. № 10.
[Закрыть]
Один из понятых, П. Н. Медведев, присутствовавший при осмотре трупа Есенина, вспоминал: «Как сейчас вижу это судорожно вытянувшееся тело. Волосы, уже не льняные, не золотистые, а матовые, пепельно-серые, стоят дыбом. На лице нечеловеческая скорбь и ужас. Прожженный лоб делает его каким-то зловещим».[36]36
Медведев П. Пути и перепутья Сергея Есенина // Н. Клюев, П. Медведев. Сергей Есенин. Л., 1927.
[Закрыть]
А вот и другое подобное свидетельство. «Лицо Есенина – обезображено: Есенин повернулся лицом к трубе парового отопления. Ночью пустили пар – обожжен лоб, один глаз навыкате, другой – вытек. Обожжена переносица (о ранах на руке не пишу – известно, конечно)», – цитирует Н. Сидорина выдержки из письма П. Лукницкого. Внимание, появляется «вытекший глаз»! Мы к этой подробности еще вернемся ниже.
«И вот, наконец, одно из свидетельств Павла Лукницкого благодаря публикации старейшего литератора Л. В. Горнунга прорвалось в печать, – торжествует Н. Сидорина, – и оно оказалось прямым доказательством убийства поэта: «один глаз навыкате, другой – вытек». Следовательно, Акт судебно-медицинского эксперта А. Г. Гиляревского сфальсифицирован. Поэт принял мученическую смерть».
Кстати, Н. Сидорина уверяет читателей, что тело М. В. Фрунзе, ставшего после Троцкого председателем Реввоенсовета, вскрывал также А. Г. Гиляревский, то есть тот же эксперт, что вскрывал и С. Есенина, и это утверждение имеет определенный подтекст. Хочу успокоить эмоциональную поэтессу: тело М. В. Фрунзе вскрывал в присутствии лечащих врачей известный крупнейший патологоанатом профессор А. И. Абрикосов. Передергивания недопустимы даже в мелочах, особенно, когда речь идет о судьбе и достоинстве людей!
Патофизиолог Морохов также категоричен: «Следы удара в лоб тяжелым узким предметом и синяки в области глаза хорошо видны на фотографии. Кстати, фраза из Акта – вдавленная борозда над переносицей – это просто поврежденный череп». Как так? «Вдавленная борозда» отнюдь не обозначает автоматически «поврежденный череп». Такая безапелляционность снижает доверие к подобным предположениям. Представим, что у человека после сна остались на щеке следы от подушки – неужели это может квалифицироваться как «поврежденная щека».
Поэтесса А. Сидорина продолжает: «Фотографий много и на всех зияет абсолютно круглая дыра над правой бровью как продолжение борозды. След от удара или пули сливается с бороздой, на него не обращали внимания в течение 60 лет. Посмертная маска Есенина ужасает всех, кто ее видел. Не «вдавленная борозда», а глубочайшая рана на лбу». Следовательно, в поэта еще и стреляли? Но, оказывается, не только стреляли.