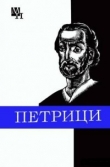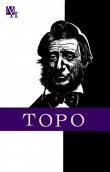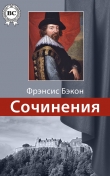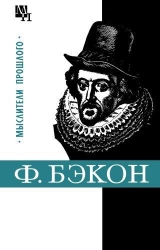
Текст книги "Фрэнсис Бэкон"
Автор книги: Александр Субботин
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
X. Этика
Античная этика была по преимуществу учением о добродетели и занималась вопросом: что есть добродетель, то есть чем должен руководствоваться человек, чтобы быть нравственным? Конечно, разные философы по-разному отвечали на этот вопрос, но они сходились в том, что именно добродетель делает человека счастливым и поступки высоконравственной личности приносят объективные блага. Задача этики поэтому состоит в изучении высоких образцов добродетели, анализе их видов, частей и соотношений. В эпоху Возрождения и Реформации этика, все более перерастая религиозные нравственные нормы, изменяет и предмет своего интереса, выступает как учение об объективных нравственных благах. Трезвое и практическое сознание новых классов вносило свои коррективы не только в традиционное христианское мировоззрение, но и в античное, которое представлялось людям нового времени слишком умозрительным, отвлеченным и созерцательным. Теперь на первый план выдвигается вопрос: что есть нравственность и каким целям она служит? Стараясь понять сущность нравственности из естественной или эмпирической природы человека, этика, в частности, подвергала анализу те цели, стремление к осуществлению которых нравственно характеризовало человеческие поступки. И подобно тому как природу стремились понять как целое, возникшее из себя по естественным законам, так и нравственное поведение человека хотели понять из его естественных устремлений и практической деятельности в этом мире. Вместе со всей философией и этика попадает под влияние естественнонаучных воззрений. Пионер разработки «естественной» философии был и одним из тех, кто положил начало концепции «естественной» морали, построению этики, хотя и сопричастной теологии, но в основном без помощи ее представлений, так, «чтобы, оставаясь в своих собственных границах, она могла содержать немало разумного и полезного» (5, 1, стр. 423). Ее он изложил в седьмой книге трактата «О достоинстве и приумножении наук», многочисленные этические соображения, нравственные оценки и максимы практической морали содержатся в его «Опытах или наставлениях нравственных и политических» и в аллегориях «О мудрости древних». Бэкон по-своему делал в Англии то же самое, что несколько ранее во Франции Монтень и Шаррон.
Предмет этики – человеческое волеизъявление, направляемое и организуемое разумом, приводимое в действие аффектами и дезориентируемое кажущимися, мнимыми благами. Именно учение об идеале или образе блага и составляет первое основное учение этики. Оно должно включить в себя лучшие достижения античной этической мысли – платоновское исследование форм, взаимоотношений, видов и значения различных добродетелей и обязанностей, аристотелевское деление блага на душевное, телесное и внешнее, саму постановку вопроса о сравнительной ценности активной и созерцательной жизни, торжествующей и угнетаемой добродетели, о противоречии между нравственным и полезным. Бэкон отдает должное и христианским писателям – их изучению и определению понятий добра и зла, совести и греха. Однако в предшествующей этике совершенно недостаточно обращалось внимание на сами корни наших нравственных представлений, на источники нравственности, на основания моральных аксиом.
И вот, чтобы оправдать свои этические дистинкции, Бэкон прибегает к их «натурализации». В трактате «О достоинстве и приумножении наук» мы находим следующие характерные представления и фигуры рассуждения. «Каждому предмету внутренне присуще стремление к двум проявлениям природы блага: к тому, которое делает вещь чем-то цельным в самой себе, и тому, которое делает вещь частью какого-то большого целого. И эта вторая сторона природы блага значительнее и важнее первой, ибо она стремится к сохранению более общей формы. Мы назовем первое индивидуальным, или личным благом, второе – общественным благом» (5, 1, стр. 407). Он всюду оставался прежде всего философом природы. «Железо притягивается к магниту в силу определенной симпатии, но если кусок железа окажется несколько тяжелее, то он сразу забывает об этой своей любви и как порядочный гражданин, любящий свою родину, стремится к Земле, т. е. к той области, где находятся все его сородичи… Таким образом, сохранение более общей формы почти всегда подчиняет себе менее значительные стремления. Эта преобладающая роль общественного блага особенно заметна в человеческих отношениях, если только люди остаются людьми» (5, 1, стр. 407). Будущее этики показало, насколько способствовала прояснению оснований нравственности столь образная терминология. Создавая новую этику, Бэкон умел отдать дань и старой, благочестиво утверждая, что во все века не существовало ни одной философской школы, ни одного религиозного учения и ни одной науки, которые в такой же степени возвысили бы значение общественного блага и принизили бы значение индивидуального, как это сделала «святая христианская вера».
Развивая далее взгляды на природу блага, он доказывал преимущество активного блага перед пассивным, блага совершенствования перед благом самосохранения. Разве может сравниться наслаждение от исполнения и доведения до конца какого-то желанного дела с тем пассивным чувственным удовлетворением, которое получают от яств, сна и примитивных развлечений. Первое таит в себе постоянную новизну и разнообразие, оплодотворяет жизнь целью, смягчает удары судьбы и времени, ибо что может так не бояться времени, как наши дела. Второе ввергает в однообразный и узкий круг удовольствий, чреватых пресыщением и растратой лучших жизненных сил. Аналогично и стремление к совершенствованию следует предпочитать стремлению к сохранению. И снова Бэкон-моралист прибегает к аргументу от первой философии. «Ибо всюду, в рамках любого вида мы встречаем проявление более высокой природы, к величию и достоинству которой стремятся индивидуумы, обладающие более низкой природой, стремятся как к источнику своего происхождения. Так хорошо сказал о людях поэт:
Сила в нем огневая и происхожденье небесно» (5, 1, стр. 414).
Итак, Бэкон решительно утверждал примат и величие общественного блага перед индивидуальным, деятельной жизни перед созерцательной, самоусовершенствования личности перед самоудовлетворением. Такая позиция позволяла ему подвести под общий знаменатель и под удар своей критики все те нравственные ценности, вокруг которых кристаллизовались этические теории древних киренаиков, эпикурейцев, скептиков и стоиков. Ведь как бы ни украшали личную жизнь человека бесстрастная созерцательность, душевная безмятежность, самоуспокоенность, самоограничение или же стремление к индивидуальному наслаждению, они не выдерживают критики, если только подойти к этой жизни с точки зрения критериев ее общественного предназначения. И тогда окажется, что все эти «гармонизирующие душу» блага есть не более чем средства малодушного бегства от жизни с ее треволнениями, искушениями и антагонизмами и что они никак не могут служить основой для того подлинного душевного здоровья, активности и мужества, которые позволяют противостоять ударам судьбы, преодолевать жизненные трудности и, исполняя свой долг, полноценно и общественно значимо действовать в этом мире.
Центральная категория общественного блага – понятие «долга», то есть определенных обязанностей и благорасположения человека по отношению к другим людям. Некоторые из таких специальных обязанностей связаны с профессией, сословной принадлежностью, семейным и общественным положением. Они включают, в частности, взаимные обязанности мужа и жены, родителей и детей, господина и слуги, соседей, членов различных обществ, братств и коллегий, законы дружбы и чувство благодарности. При этом в этике все эти обязательства рассматриваются не в аспекте составных связей гражданского общества, «а только в той мере, в какой речь идет о необходимости подготовки и нравственного воспитания человека для того, чтобы сделать его способным поддерживать и охранять эти общественные связи» (5, 1, стр. 421).
И здесь важно отметить то значение, которое он придавал альтруистическому началу в человеке: добрые дела связывают людей теснее, чем долг. Эту идею бэконовской этики впоследствии подхватят и будут разрабатывать многие английские моралисты. «Под добротой я разумею заботу о благе людей, называемую у греков „филантропией“… – читаем мы в эссе „О доброте и добродушии“. – Изо всех добродетелей и достоинств доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна; без нее человек – лишь суетное, вредоносное и жалкое создание, не лучше пресмыкающегося. Доброта соответствует евангельскому милосердию; излишество в ней невозможно, возможны лишь заблуждения… Склонность творить добро заложена глубоко в природе человеческой» (5, 2, стр. 377). Напротив, злонравные и завистливые люди, по природе своей не терпящие чужого благополучия, «являются поистине ошибками природы, но вместе с тем и наилучшим материалом для создания великих политиков» (5, 2, стр. 378). Отдав большую часть своей жизни политике, он, видимо, не питал особых иллюзий относительно высокой нравственности многих ее деятелей.
Учение о благах составляет только одну из частей этики, вторую представляет учение о нравственном воспитании человеческой души, или, как его называет Бэкон, «Георгики души». Первое имеет своим предметом природу, виды и степени блага, второе призвано сформулировать правила, руководствуясь которыми человек, приобщаясь к этим благам, обретает нравственную культуру. При этом Бэкон мало интересовался впечатляющими описаниями высоких и достойных подражания образцов добродетели, рассуждениями о том, существуют ли добродетели в человеке от природы или же они в нем воспитываются, преодолимо ли различие между благородными и низкими душами и т. п. Вслед за Платоном античные и христианские авторы все это не раз изображали и обсуждали до него. Он ставил перед собой другую задачу: обратившись к примерам реальной жизни, попытаться разобраться в путях и стимулах того человеческого волеизъявления, которое подлежит той или иной моральной оценке, и отсюда почерпнуть знание о средствах воздействия на души людей. «И хотя в наше суетное время мало кто заботится о тщательном воспитании и формировании души и о том, чтобы жить, следуя определенным принципам и нормам, – писал он… – однако все это ни в коей мере не может побудить нас оставить эту тему; наоборот, мы хотим заключить следующим афоризмом Гиппократа: „Если тяжело больной человек не испытывает страданий, то он болен душевно“» (5, 1, стр. 423).
В учении о воспитании души необходимо исходить из разнообразия складов характера и склонностей людей, а также из тех аффектов и влечений, которые мотивируют их поступки. Так бэконовская этика смыкается с психологией и включает в себя существенную часть проблематики последней. Совершенно не удовлетворенный тем, что сделали в этом отношении античные философы – Аристотель и стоики, – он считает эту часть этики еще подлежащей разработке и в трактате «О достоинстве и приумножении наук» набрасывает ее сжатую схему. Интересно, что помимо наблюдения, как обычно поступают в жизни люди, изустных рассказов, документов и писем он одним из источников этой науки называет сочинения значительных поэтов и историков, в которых имеются яркие и живые изображения человеческих характеров, страстей и поступков. Да и сам Бэкон немало потрудился в этом направлении. Его знаменитые «Опыты или наставления» содержат богатый материал, проливающий свет именно на эту часть его этической концепции.
XI. Опыты
Работа над «Опытами или наставлениями нравственными и политическими» сопровождала его всю жизнь. С них началась известность Бэкона как писателя. «Опыты» оставались самыми популярными из его сочинений, «надо полагать, потому, что они ближе всего к практическим делам и чувствам людей» (5, 2, стр. 351), да и сам он считал их одним из лучших плодов своего творчества. Сравнивая между собой три английских издания, вышедших за период более чем четверти века, мы видим, как с ростом жизненного, делового, политического опыта их автора росло число эссе, разнообразилось и обогащалось их содержание. Кажется, все, что впитал в себя его внимательный аналитический ум, что продумал и прочувствовал Бэкон – человек и мыслитель, неудавшийся придворный и королевский поверенный, лорд-верховный канцлер Англии и снова оказавшийся не у дел павший сановник, – все воплотилось в этом самом непринужденном и искреннем его произведении.
Первое издание «Опытов» появилось в Лондоне в 1597 году в одном томике с «Религиозными размышлениями» и «Фигурами убеждения и разубеждения». Оно содержало всего десять эссе: «О занятиях науками», «О беседе», «О манерах и приличиях», «О приближенных и друзьях», «О просителях», «О расходах», «О поддержании здоровья», «О почестях и славе», «О партиях», «О переговорах». «Я поступаю ныне подобно тем владельцам садов, которые, имея плохих соседей, собирают плоды прежде чем они созреют, опасаясь, чтобы их не разворовали, – писал Бэкон, посвящая „Опыты“ своему брату Антони… – они будут подобны новым полупенсовым монетам: серебро в них полноценно, но монеты очень уж мелки» (5, 2, стр. 349). Он не напрасно скромничал. Композиция издания была весьма аморфной. Это свободное сочетание расположенных еще совершенно случайно наблюдений и рассуждений, не связанных между собой какой-либо узловой темой.
Через пятнадцать лет в 1612 году отдельной книгой вышло второе издание. Оно содержало 29 новых эссе, старые же были исправлены и дополнены. И здесь его размышления охватывают самый разнообразный круг предметов. Он пишет о человеческой природе и смерти, о браке и безбрачии, о родителях и детях, о юности и старости, о доброте и добродушии, о любви и дружбе, о красоте и уродстве, о богатстве и счастье, о себялюбивой и мнимой мудрости, о честолюбии и хитрости, о тщеславии и похвале, о привычке и воспитании. Однако в этой мозаике уже проступают некоторые центральные темы, на которых лежит очевидная печать политических, социальных и религиозных взглядов и симпатий Бэкона, как и его опыта деятельного государственного чиновника. Именно в этом издании появляются эссе «О знати», «Об искусстве властвовать» и «О величии королевств», «О религии», «Об атеизме» и «О суеверии», «О высокой должности», «О правосудии», «О совете» и «О распорядительности».
Последнее подготовленное им издание 1625 года содержало 58 эссе, было добавлено 19 новых, а многие из старых так или иначе доработаны. «Я увеличил их число и улучшил достоинство, так что они представляют совершенно новое сочинение» (5, 2, стр. 351). Бэкон делится соображениями о наилучшей постройке дворца, разбивке сада, устройстве придворных спектаклей, организации путешествий и основании колоний. Он значительно расширяет опять-таки опыты на социально-политические темы. Но мы не можем не заметить и того, что теперь начинает довлеть над его раздумьями. Именно в этом последнем прижизненном издании появляются его эссе «Об истине», «О мести», «О бедствиях», «О притворстве и лицемерии», «О зависти», «О подозрении», «О гневе» и «О превратности вещей».
Хотя из эссе мы можем многое почерпнуть о философских, этических и социально-политических воззрениях Бэкона, они принадлежат более английской литературе, чем философии. Их язык и стилистика беллетристичны. Содержащиеся в них суждения подаются как бы извлеченными из непосредственного живого опыта и не подкрепляются столь характерными для философских трактатов отвлеченными рассуждениями и умозрительными конструкциями. И даже если к этому жизненному зачастую примешивается и книжный опыт, он используется столь же живо и непосредственно. И все же эссе пронизывает дух бэконовской философии.
Я имею в виду не только его общую философскую концепцию природы и человека, но и тот трезвый беспредрассудочный взгляд на вещи, то беспристрастное и объективное диалектическое взвешивание «за» и «против» того, о чем идет речь, наконец, тот поиск гармонии и соразмерности, которыми она отмечена. «Опыты» не только повлияли на умы современников, они способствовали формированию и литературного языка. Правда, последующим, более изысканным писателям английского Просвещения его стиль покажется искусственным и вымученным. «Стиль Бэкона неловок и груб; его остроумие часто блестящее, в то же время часто неестественно и надуманно; он представляется первоисточником резких сравнений и вымученных аллегорий» (52, стр. 827), – напишет, например, Давид Юм. Они еще не так далеко ушли от него, чтобы не чувствовать себя шокированными и оценить его по достоинству.
Обращаясь к литературным параллелям и источникам, мы, конечно, вспоминаем Монтеня. «Опыты» Бэкона и Монтеня роднит общность жанра, тематики, даже наименования ряда очерков. Заимствовав манеру своих размышлений у Монтеня, Бэкон вместе с тем делает иные и акценты, и выводы. У одного в центре внимания человек как существо естественное, живое, непосредственно чувствующее и мыслящее и широкое критическое исследование всех условий его существования. Внимание другого сосредоточено вокруг человеческого поведения и оценки его с точки зрения достижения определенных результатов. В размышлениях Бэкона нет монтеневской самоуглубленности, мягкости, скептицизма, юмора, светлого и независимого восприятия мира; они всегда сдержанны, от них веет холодным объективизмом ясного, проницательного и расчетливого ума. Ему чужд и гуманизм Монтеня, и его отстраненность. Один, отказываясь от почетных должностей, старался укрыться за стенами уединенного замка. «Противны мне и владычество и покорность» (29, стр. 174). Другой, надеясь на крупную ставку, ушел с головой в политическую игру.
Вот, кстати, бэконовское эссе «О высокой должности». По теме оно совпадает с монтеневским «О стеснительности высокого положения», но различие чувствуется уже в названиях. Лейтмотив рассуждений Монтеня таков: я предпочитаю занимать в Париже скорее третье, чем первое, место, если я и стремлюсь к росту, то не в высоту – я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Всеобщий почет, могущество власти подавляют и пугают его. Он готов скорее отступиться, чем перепрыгивать через ступень, определенную ему по способностям, ибо всякое естественное состояние – и самое справедливое, и удобное. Не переоценивая высокого положения, он и не видит в его потере того, что усмотрит здесь Бэкон – не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Бэкона же интересует, что дает высокая должность и как вести себя, чтобы на ней удержаться. Его рассуждения трезвы и практичны. Да, он видит и все ее неудобства – власть лишает человека свободы, делает его невольником и государя, и людской молвы, и своего дела. Но это, по-видимому, не самое главное, если достигнувший власти считает естественным держаться за нее и бывает счастлив, когда пресекает домогательства других. «Нет, люди не в силах уйти на покой, когда хотели бы; не уходят они и тогда, когда следует; уединение всем нестерпимо, даже старости и немощам, которые надо бы укрывать в тени; так, старики вечно сидят на пороге, хотя и предают этим свои седины на посмеяние» (5, 2, стр. 373).
Чтобы получить представление о всем содержании «Опытов», об особенностях их композиции и стиля, о диалектических переливах мыслей Бэкона, одновременно и лаконичных и многогранных, об ажурных сплетениях его рассуждений, в которые жемчужинами вправлены блестящие афоризмы, надо, конечно, прочитать сами эссе. В одних чувствуется прежде всего политик до мозга костей, приобщающий к глубинам государственной мудрости, наставляющий в изощренной стратегии и опыте жизненной борьбы. В других к вам обращается человек, умудренный житейским опытом, человек дела, все видящий и понимающий, подмечающий самые незначительные жизненные детали. Но почти во всех них обнаруживается глубокий психолог, знаток человеческих душ, придирчивый и объективный судья поступков.
Вот он в эссе «Об искусстве властвовать» наставляет монархов, как вести себя со своими родными и близкими, указывая на прецеденты кровавых трагедий, вызванных коварными интригами жен против коронованных мужей, подозрительностью отцов по отношению к своим престолонаследникам или открытыми выступлениями сыновей против венценосных родителей. Он рекомендует им, как ограничить влияние надменных и могущественных прелатов, в какой мере подавлять «устоявшую против волн и бурь времени» старую родовитую знать, как создать ей противовес в новом дворянстве, порой своевольном, но являющемся надежной опорой трона и оплотом против простого народа, какой налоговой политикой поддерживать купечество– эту «воротную вену» политического тела, какой внешней политикой союзов, блоков, вплоть до превентивной войны, сдерживать опасное усиление соседних держав.
А вот в эссе «О партиях» он дает монархам совет не связывать себя интересами какой-либо одной партии, сохранять свою независимость, ориентируясь на «общие интересы», или даже на интересы отдельных лиц, ибо чрезмерное усиление партий и раздоров между ними ослабляет власть государя, вредит и его престижу, и успеху его дел. «Действия партий под властью монархии должны быть (если говорить языком астрономов) подобны движениям низших орбит, которые могут иметь и собственное движение, но вместе с тем увлекаться высшим движением – „primum mobile“» (5, 2, стр 470). В царствование первого Стюарта его внимание направлено на выяснение условий устойчивости и успеха абсолютистского правления как арбитра между противоборствующими социальными силами; однако в своем анализе английского общества Бэкон зачастую исходил из примеров и отношений раннетюдоровского и даже дотюдоровского времени. Он предан тюдоровскому идеалу военного, морского и политического могущества национального государства, а между тем корабль Великобритании уже берет курс на океан бурь социальной революции.
С тем большим интересом обращаемся мы к эссе «О смутах и мятежах», впервые появившемуся в итальянском издании 1618 года, а затем и в английском 1625 года. Открывается оно такой значительной фразой: «Пастырям народов надлежит разбираться в предзнаменованиях политических бурь, которые обычно всего сильнее, когда дело идет о равенстве, подобно тому как в природе бури всего сильнее ближе к равноденствию» (5, 2, стр. 380). Далее следует перечисление различных примет, условий, поводов и причин возникновения мятежей и мер их предотвращения и искоренения. Вернейшее средство против смут – устранение их основных причин: во-первых, голода и нищеты, во-вторых, недовольства, вызванного налогами, угнетением, религиозными новшествами, изменениями законов и обычаев, нарушением привилегий, возвышением недостойных лиц, безрассудными притязаниями отдельных партий и т. п.
Предлагаемые Бэконом меры поддержания материального благосостояния нации носят отчетливый меркантилистский характер. Он считает, что обогащение страны происходит за счет торговли с иноземцами, а поэтому процветание достигается открытием торговых путей и благоприятным торговым балансом, основанием колоний и поощрением мануфактур, искоренением праздности и законодательным обузданием роскоши и расточительства, регулированием цен на все предметы торговли и усовершенствованием земледелия. Сам Бэкон принимал активное участие в разработке планов колонизации Виргинии, Ньюфаундленда и Ольстера. И вместе с тем настойчиво призывал правительство позаботиться о том, чтобы непроизводительные слои общества не были бы чрезмерно многочисленны по сравнению с числом тех, кто созидает непосредственные материальные блага, и чтобы богатства не скоплялись в руках немногих. «Ведь деньги, подобно навозу, бесполезны, покуда не разбросаны» (5, 2, стр. 384).
Что же касается недовольства, то оно особенно опасно, когда охватывает все сословия общества: и знать, и простой народ. Опасность тогда велика, когда знать только и ждет смуты в народе, чтобы тотчас выступить самой. Однако, замечает Бэкон, «пусть ни один правитель не вздумает судить об опасности недовольства по тому, насколько оно справедливо; ибо это значило бы приписывать народу чрезмерное благоразумие, тогда как он зачастую противится собственному своему благу» (5, 2, стр. 382). Пусть лучше государь надежнее заручится расположением простого народа, даровав ему некоторые вольности, возможность приносить жалобы, умеренно изливать свое негодование и надеяться. «В самом деле, – пишет Бэкон, – искусно и ловко тешить народ надеждами, вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. По-истине, мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может удовлетворить их нужды» (5, 2, стр. 384). А уж если оппозиция образовалась, надо постараться привлечь на свою сторону ее лидера, либо противопоставить ему в той же партии другого, чтобы ослабить его популярность. Вообще следует всячески разделять и раскалывать враждебные правительству группы и партии, стравливать их между собой и создавать в их среде и среди их предводителей взаимное недоверие. Гений Никколо Макиавелли поистине водил рукой, писавшей эти строки. Разработки знаменитого автора «Князя» оказали влияние не только на Бэкона. В XVI–XVII веках их использовали многие политические писатели и деятели абсолютизма против носящихся уже в воздухе идей суверенитета народа.
И все же логика трезвого мыслителя открывала перед ним и другие перспективы. Не раз возвращаясь к обсуждению немаловажного для английского общества вопроса о месте и судьбе старой феодальной знати в системе абсолютистской монархии, о ее отношении к королю, народу и новому дворянству, взвешивая по своему обыкновению здесь все и «за», и «против», Бэкон в последней редакции эссе «О знати» делает следующее знаменательное добавление: «Демократиям она не нужна: там, когда нет знатных родов, обыкновенно бывает больше покоя и меньше склонности к смутам; ибо внимание людей устремляется тогда на дело, а не на лица; а если на лица, то опять-таки в поисках наиболее пригодных для дела, но не ради гербов и родословных. Мы видим, например, что Швейцарская республика держится прочно, несмотря на множественность вероисповеданий и кантонов, ибо покоится на принципе полезности, а не привилегий. Преуспевают также благодаря своему управлению и Соединенные Провинции; ведь, где господствует равенство, там решения правительства беспристрастнее, а подати и повинности выплачиваются охотнее» (5, 2, стр. 379).
А вот пишет деловой человек, потрудившийся на государственной службе, имеющий, как теперь говорят, большой опыт работы с людьми, знающий цену и труду, и часу. Я имею в виду эссе «О распорядительности», поучительность которого не уменьшилась со временем.
«…Распорядительность в делах надобно мерить не временем заседаний, а успехом дела» (5, 2, стр. 406), – замечает Бэкон. А ничего нет опаснее для успеха дела, нежели показная распорядительность. Иные заботятся только о том, как бы отделаться поскорее, и лишь по видимости привести дело к концу, дабы показать себя людьми распорядительными. Но одно дело – сберечь время умелым сокращением хлопот, другое – скомкать саму работу. Поступать так – это все равно, что делать один шаг вперед, а другой назад. И чем так спешить, лучше повременить, тогда, пожалуй, скорее кончишь. Подлинная же распорядительность поистине благодатна. Ведь дело измеряется временем, как товар – деньгами, и, где мало распорядительности, там дело обходится дорого. Секрет подлинной распорядительности заключается в порядке, в распределении обязанностей и в расчленении разбираемого вопроса, если только членение это не слишком сложно. Не расчленяя, невозможно вникнуть в дело, а расчленяя чрезмерно, невозможно его распутать. Выбрать время – значит сберечь время; а что сделано несвоевременно – сделано понапрасну.
Но помимо политического и практического сознания «Опыты» содержат и другое, связанное с глубоким пониманием человеческой психологии и зарисовками с целой выставки характеров, нравов, чувств и склонностей людей и их поведения в различных ситуациях. Бэкон регистрирует весь этот разноцветный спектр человеческих проявлений, приводит примеры, дает оценки и выносит свои заключения. Так открывается еще одна, литературно-этическая, грань «Опытов». Как едко и выразительно рисует он в эссе «О мнимой мудрости» лживые маски, которые надевают на себя бездарности, дабы создать впечатление о своей компетентности и вызвать доверие к своим мнимым способностям. Некоторые из этих формалистов, рассуждая многозначительно и сдержанно о вещах, в которых сами хорошенько не разбираются, создают у других впечатление, будто знают и что-то большее, о чем якобы не могут сказать. Некоторые же произносят внушительные слова тоном, не допускающим возражения, а затем продолжают так, как будто то, что они не смогли доказать, уже и принято и одобрено. Другие, сталкиваясь с чем-то, находящимся вне пределов их понимания, спешат выказать свое презрение, подвергнуть осмеянию или третируют как несущественное и малозначительное. Есть и такие, которые всегда с чем-то не согласны и, поразив людей какой-либо тонкостью, избегают существа дела, закрывая и весь вопрос, – пустозвоны, которые легковесностью слов разрушают весомость вещей. Они являются поистине проклятием для дела.
Это еще не художественные описания в собственном смысле слова. Их трезвость исключает поэтику, фрагментарность – подлинную образность, объективизм – проникновенность и эмоциональную напряженность. Но это те разработки, которыми питается и художественная литература. «…Мы вовсе не хотим, чтобы в этике все эти характеристики воспринимались как цельные образы людей (как это имеет место в поэтических и исторических сочинениях и в повседневных разговорах), – писал он, – скорее это должны быть какие-то более простые элементы и отдельные черты характеров, смешение и соединение которых образуют те или иные образы. Нужно установить, сколько существует таких элементов и черт, что они собой представляют и какие взаимные сочетания допускают» (5, 1, стр. 425). Так определяется, в частности, значение «Опытов» Бэкона для его теоретической этики, один из разделов которой должно было составить учение о характерах и чувствах людей. Эти компоненты изменяются несравнимо медленнее, чем конкретные политические и социальные условия бытия. А поэтому мы можем согласиться со знатоком и издателем бэконовских сочинений Дж. Спеддингом, что «Опыты» не разделили судьбу других философских работ Бэкона, уже более не говорящих нам того, что они говорили своим современникам.