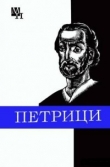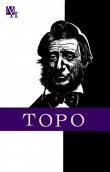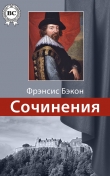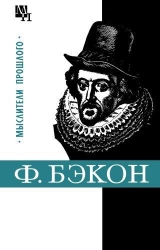
Текст книги "Фрэнсис Бэкон"
Автор книги: Александр Субботин
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
В 1620 году Бэкон опубликовал свой знаменитый «Новый Органон», содержащий его учение о методе и теорию индукции, по замыслу вторую часть так и незавершенного генерального труда своей жизни «Великого Восстановления Наук». Теперь он весь отдается творчеству. Он работает над кодификацией английских законов и над историей Англии при Тюдорах; готовит третье английское и латинское издания «Опытов или наставлений» и цикл работ по «Естественной и экспериментальной истории»; печатает свой самый объемистый и систематический труд «О достоинстве и приумножении наук» (1623 г.), первую часть «Великого Восстановления» и сборник «Изречения, новые и старые» (1625 г.). В эти же годы он работал, так и не успев их окончить, над трактатами «О началах и истоках в соответствии с мифами о Купидоне и о небе, или о философии Парменида и Телезио и особенно Демокрита в связи с мифом о Купидоне» и окончательным вариантом «Новой Атлантиды».
Его поместье Горхамбури заложено, а быт в Грейс-Инне, где он теперь живет, скромен и прост по сравнению с роскошной обстановкой Йорк-Хауза времен его канцлерства, и Бэкону трудно с этим примириться. Он чувствует стеснение в средствах, так как привык жить на широкую ногу, и в своем письме к королю проникновенно умоляет о помощи, «чтобы я не был вынужден на старости лет идти побираться». Последнее время он много болеет. Однажды холодной весной 1626 года Бэкон решает проделать опыт с замораживанием курицы, чтобы убедиться, насколько снег может предохранить мясо от порчи. Собственноручно набивая птицу снегом, он простудился и, пролежав около недели, умер в доме графа Аронделя в Гайгете 9 апреля 1626 года. В своем предсмертном письме он не упустил блеснуть броским сравнением: «Мне грозит участь Плиния, приблизившегося к Везувию, чтобы лучше наблюдать извержение», сообщая, что опыт с замораживанием «удался очень хорошо».
II. Великий замысел
До нас дошло только название этого произведения, по-видимому, написанного Бэконом еще в годы пребывания в корпорации Грейс-Инн. Но, кажется, именно в нем, многозначительно названном «Величайшее порождение времени», он впервые сформулировал свою идею универсальной реформы человеческого знания на базе утверждения опытного метода исследований и открытий. Ссылка на время не была простым риторическим оборотом. Бэкон и впоследствии считал замысел «Великого Восстановления Наук» – Instaurationis Magnae Scientiarum – скорее порождением времени, чем своего ума. Его план он опубликовал в 1620 году вместе с «Новым Органоном». Это был грандиозный замысел.
Его первая часть «Разделение наук» призвана была дать обзор и классификацию уже достигнутых человечеством знаний и указать темы, которые прежде всего нуждаются в дальнейшем изучении. Первоначальная разработка этой части была дана Бэконом во второй книге трактата 1605 года «О значении и успехе знания, божественного и человеческого», а систематическая и полная – в трактате 1623 года «О достоинстве и приумножении наук». Сегодня было бы слишком неблагодарно по отношению к Фрэнсису Бэкону скрупулезно обсуждать и оценивать все его многочисленные соображения о тех или иных научных проблемах, все его предложения поставить такие-то эксперименты и осуществить такие-то изобретения. Некоторые из них представляются нам наивными и несостоятельными, за ними чувствуется и дилетантизм, и скороспелость выводов. Некоторые порождены архаичными, уже канувшими в Лету естественнонаучными и философскими представлениями. Он, например, считал нужным опровержение теории Коперника и не принимал открытия Кеплера. И вместе с тем то тут, то там вдруг блеснут прозрения такой глубины, как будто они выхвачены лучом его жадной фантазии не из хаоса еще полусредневековой науки, а из непосредственного или даже отдаленного ее будущего. И, не говоря уже о том, что его трактат содержит много глубоких и здравых соображений, он пронизан самой живой заинтересованностью в успехах развития знания. Природа, человек, общество, история, политика, мораль, психология, поэзия – все интересует его, во всем он хочет обнаружить нечто поучительное, важное и полезное. И мы не можем не отдать должное его поистине энциклопедическому труду, оказавшему влияние на целую эпоху философского и научного развития, труду, на который ссылался еще Д’ Аламбер, приводя его подробную схему в своей вступительной статье к знаменитой французской «Энциклопедии, или Толковому словарю наук, искусств и ремесел».
Вторую часть составлял «Новый Органон или указания для истолкования природы». Здесь излагалось учение о методе познания как «законном сочетании способностей опыта и разума» и «истинной помощи» разума в исследованиях вещей. В противоположность дедуктивной логической теории аристотелевского «Органона» Бэкон выдвигает индуктивную концепцию научного познания, в основе которой лежат опыт и эксперимент и определенная методика их анализа и обобщения. Эта часть – философско-методологический фокус всего бэконовского замысла и вместе с тем последний систематически разработанный раздел его «Великого Восстановления Наук».
Третья часть предполагала кропотливую и не свойственную таланту Бэкона работу по изучению и систематизации различных природных фактов, свойств и явлений, естественнонаучных наблюдений и экспериментов, которые, согласно его концепции, должны были стать исходным материалом для последующего индуктивного обобщения. Он, конечно, вправе был жаловаться на случайный и несовершенный характер опытов тогдашнего естествознания, оно только вырабатывало методику точного эксперимента. Он вправе был критиковать и существовавшие литературные источники натуралистических сведений – античные и средневековые – за легковесность и скудость содержащихся в них фактов, к тому же перемешанных с фантастическими вымыслами и суевериями. Он разумно требовал, чтобы для каждого нового эксперимента давалось описание способа, которым он производился, дабы, во-первых, его можно было повторить и проверить, а во-вторых, усовершенствовать его методику. Но предлагаемые им самим конкретные исследования порой страдали аналогичными недостатками. Небольшой набросок этой части «Приготовление к естественной и экспериментальной истории, или План естественной и экспериментальной истории, способной служить надлежащим основанием и базой истинной философии» появился в 1620 году в одном томе с «Новым Органоном». Развернуть ее он хотел в большой работе «Естественная и экспериментальная история для основания философии или явления мира», состоящей из шести трактатов, но успел опубликовать только два – «Историю ветров» (1622 г,) и «Историю жизни и смерти» (1623 г.). Трактат «История плотного и разреженного и о сжатии и расширении материи в пространстве» был издан Раули в 1658 году. К остальным трем – «Истории тяжелого и легкого», «Истории симпатии и антипатии вещей» и «Истории серы, ртути и соли» (знаменитой триады ятрохимии) – Бэкон успел написать только предисловия. К тому же циклу следует отнести наброски «Исследование, касающееся магнита» (издан Раули в 1658 г.), «Вопросы и исследование, касающееся света и светящейся материи» (издан Грутером в 1653 г.) и ряд других. Наконец, назовем еще его обширный труд с трудно переводимым названием «Sylva Sylvarum, или Естественная история в десяти центуриях» (дословно это значит «Лес лесов»), который был опубликован Раули вместе с «Новой Атлантидой» в 1627 году. Он состоит из 1000 параграфов, разбитых на десять центурий (сотен). Каждый параграф содержал описание тех или иных наблюдаемых природных явлений и некоторых условий, объясняющих их. Факты были взяты из различных источников – из собственных наблюдений Бэкона, из сообщений других лиц, многие – из книг. При этом главными литературными источниками служили: «Метеорология» Аристотеля, псевдоаристотелевские «Проблемы», «Естественная история» Плиния, «Натуральная магия» Порты, «Путешествия» Сэндиса, «О тонкости» Кардано и «Против Кардано» Скалигера.
В четвертой части «Лестнице разума» на частных, но типичных и разнообразных примерах должен был быть продемонстрирован весь тот развернутый ход исследования и порядок научного открытия, методика которого изложена в «Новом Органоне». К этой части Бэкон написал лишь небольшое вступление. Только предисловие им было написано и к пятой части «Предвестию, или Предварению второй философии». Она должна была содержать предвосхищения подлинно научного объяснения явлений природы, предварительные результаты собственных наблюдений и открытий автора, еще не проверенные надлежащим образом строго научным методом. Что же касается последней, шестой части «Второй философии, или Действенной науки», то есть взятой в самом широком объеме системы научного знания, построенного на базе сформулированной им методологии, то Бэкон скромно признавался: дать завершающую ее картину – «дело, превышающее и наши силы, и наши надежды» (5, 1, стр. 83). Это дело он оставлял всему последующему развитию человечества.
Такова общая концепция и структура «Великого Восстановления». Она была связана не только с пропагандой научного знания и предчувствием зреющих в нем перемен, но и с утверждением новых целей науки, ее общественного престижа и предвидением решающей роли в будущности человечества. До сих пор состояние наук, да и механических искусств (так называет он различные технические достижения), было далеко не удовлетворительное. Из двадцати пяти столетий едва ли можно выделить шесть благоприятных для их развития. Это – эпохи греческих досократиков, древних римлян и новое время. Все остальное – сплошные провалы в знании, в лучшем случае крохоборческое движение, а то и топтание на одном месте, пережевывание одной и той же умозрительной философии, переписывание одного и того же из одних книг в другие. Конечно, и в отвлеченных размышлениях, и в силе ума древние показали себя достойными уважения. Но если раньше в морских плаваниях люди, определяя свой путь только по звездам, могли обойти берега лишь Старого Света и пересечь его внутренние моря, то, прежде чем переплыть океан и открыть Новый Свет, они должны были узнать употребление компаса. Точно так же все то, что до сих пор найдено в науках и искусствах, добыто узкой и случайной практикой, умозрительным размышлением и простым наблюдением, ибо оно близко к непосредственным чувствам и лежит под поверхностью обычных понятий; между тем, чтобы причалить к более удаленному и сокровенному в природе, необходимо вооружить и чувства, и разум человека более совершенными орудиями. Лорд-канцлер будущей «владычицы морей» умел найти впечатляющие сравнения.
«Не должно считать малозначащим и то, – замечает он, – что дальние плавания и странствия (кои в наши века участились) открыли и показали в природе много такого, что может подать новый свет философии. Поэтому было бы постыдным для людей, если бы границы умственного мира оставались в тесных пределах того, что было открыто древними, тогда как в наши времена неизмеримо расширились и прояснились пределы материального мира, т. е. земель, морей и звезд» (5, 2, стр. 48). И Бэкон призывает не воздавать слишком много авторам, не отнимать прав у Времени – этого автора всех авторов и источника всякого авторитета. «Истина – дочь Времени, а не Авторитета», – бросает он свой знаменитый афоризм.
А время утверждало новую, отличную от античных и средневековых ценностей роль науки. Отныне она не может быть целью самой по себе, знанием ради знания, мудростью ради мудрости. Наукой следует заниматься и не ради забавного времяпрепровождения, не ради любви к дискуссиям, не ради того, чтобы высокомерно презирать других, не из-за корыстных интересов и не для того, чтобы прославить свое имя или упрочить свое положение. Сила науки – сокращать длинные и извилистые пути опыта. Результат науки – полезные изобретения и открытия, способствующие удовлетворению потребностей и улучшению жизни людей, повышению потенциала ее энергии, умножению власти человека над природой. Только это и есть подлинная мета на ристалище знаний, и если науки до сих пор мало продвигались вперед, то это потому, что господствовали неправильные критерии и оценки того, в чем состоят их достижения.
Кажется, Бэкон хотел одним ударом решить эту извечную проблему соотношения истины и пользы – что в действии наиболее полезно, то в знании наиболее истинно. Однако было бы слишком поспешно упрекать его на этом основании в утилитаризме или же прагматизме. Прагматикам он мог бы ответить примерно так же, как отвечал любителям интеллектуальной атараксии, жаловавшимся, что пребывание среди быстро сменяющихся опытов и частностей приземляет их ум, низвергает его в преисподнюю смятения и замешательства, отдаляет и отвращает от безмятежности и покоя отвлеченной мудрости. «…Мы строим в человеческом разуме образец мира таким, каков он оказывается, а не таким, как подскажет каждому его рассудок. Но это невозможно осуществить иначе как рассеканием мира и прилежнейшим его анатомированием. А те нелепые и как бы обезьяньи изображения мира, которые созданы в философиях вымыслом людей, мы предлагаем совсем рассеять… Итак, истина и полезность суть (в этом случае) совершенно одни и те же вещи. Сама же практика должна цениться больше как залог истины, а не из-за жизненных благ» (5, 2, стр. 77).
Итак, только истинное знание дает людям реальное могущество и обеспечивает их способность изменять лицо мира; два человеческих стремления – к знанию и могуществу – находят здесь свою оптимальную равнодействующую. В этом состоит руководящая идея всей бэконовской философии, по меткой характеристике Б. Фаррингтона, – «философии индустриальной науки». И здесь же коренится одна из глубоких причин столь продолжительной популярности его взглядов.
III. Первая вторая и естественная философии
Как особая область знания философия, по Бэкону, существует наряду с историей, поэзией и боговдохновенной теологией. История соответствует памяти, поэзия – воображению, философия – рассудку: «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души» (5, 1, стр. 156). Возможно, в выборе такого психологического основания деления сказалось влияние или заимствование у Платона. Однако в дальнейшем он принимает и другой принцип. Последующее подразделение науки у Бэкона, как и у Аристотеля, основывается на соображении, что у каждой отрасли знания есть специальная сфера бытия. При этом он замечает, «что все деления наук должны мыслиться и проводиться таким образом, чтобы они лишь намечали или указывали различия наук, а не рассекали и разрывали их, с тем чтобы никогда не допускать нарушения непрерывной связи между ними» (5, 1, стр. 251–252).
Как гражданская, так и естественная история имеет дело с индивидуумами, которые рассматриваются в определенных условиях места и времени. И если она, например, в качестве естественной истории и занимается видами природных явлений, то лишь по причине сходства между собой многих индивидуальных вещей. Поэзия – эпическая, драматическая и аллегорическая – тоже говорит об единичных предметах, но созданных силой воображения, подобных тем, которые являются предметами истории, но со значительными элементами преувеличения и произвола в изображении. Философия же имеет дело не с индивидуумами и не с чувственными впечатлениями от предметов, а с абстрактными понятиями, выведенными из них, соединением и разделением которых на основе законов природы и фактов самой действительности она и занимается. Философия относится к области рассудка и по существу включает в себя содержание всей теоретической науки. Предмет ее троякий – бог, природа и человек. Соответственно этому она делится на естественную теологию, естественную философию и учение о человеке. Концепция, как мы видим, уязвимая для современной критики, и наша задача – выяснить ее смысл и проследить ее истоки. Реформированная в соответствии с бэконовскими принципами «Великого Восстановления», она призвана составить «вторую философию, или действенную науку» – науку, не созерцающую и констатирующую, а открывающую и изобретающую. «Второй философии» Бэкон противопоставляет «первую философию» или «мудрость», которая выступает некоей всеобщей материнской наукой – собранием и исследованием общих для многих наук аксиом и так называемых трансценденций, или привходящих качеств сущего.
Никто не связывает нас так крепко, как наши противники. Дискуссия способна в чем-то уподобить оппонентов. Антагонист и критик аристотелизма сам воспринял характерные представления того учения, которое он сделал одним ив главных объектов своего опровержения. Мы увидим, что это касается не только понятий «первой» и «второй» философии. Однако, как и в других подобных случаях, Бэкон старается переосмыслить заимствованные понятия и термины и вложить в них иное содержание. Сам он оправдывал это желанием сохранить «связь и преемственность между древней и новой наукой» и приверженностью к тому сдержанному методу проведения реформ в гражданской жизни, «при котором хотя и происходят изменения в государстве, однако на словах все остается по-прежнему» (5, 1, стр. 219).
Задача «первой философии» – показать единство природы путем выявления и систематизации общих и основополагающих принципов и аксиом, применимых в самых различных областях знания. Вот бэконовские примеры. «Если две величины равны третьей, то они равны между собой» – это математическое правило и вместе с тем общелогическое основание умозаключений. «Природа проявляет себя преимущественно в самом малом» – этот физический принцип привел Демокрита к созданию теории атомов, но он же был применен и к политике, когда Аристотель начал изучение государства с семьи. «Изменяется все, но ничто не гибнет» – этот общий принцип в физике формулируется так: «Количество материи не увеличивается и не уменьшается», а в «естественной теологии» он принимает другой вид: «Создать нечто из ничего и обратить нечто в ничто – доступно лишь всемогущему богу». Общефизический принцип сохранения целостности вещей: «То, что сохраняет большую форму, производит более сильное действие» – действует и в политике, ибо то, что способствует сохранению государства, оказывается более сильным, чем то, что способствует благу отдельных его граждан. «Сила действия возрастает благодаря противодействию противоположного» – тоже и физический закон, и политический принцип, ведь ярость любой политической группировки возрастает вместе с усилением враждебной ей группы. «Диссонанс, сразу же сменяющийся созвучием, образует гармонию» – это музыкальное правило имеет свой аналог и в области этики, и в проявлениях различных человеческих аффектов. Эти примеры нетрудно умножить. Так, уже у истоков новой европейской философии мы сталкиваемся с ее сциентистской интерпретацией как обобщения положений конкретных наук.
Другой раздел «первой философии» – учение о всеобщих категориях (трансценденциях или привходящих качествах сущего в терминологии Бэкона), таких, как «много» и «мало», «идентично» и «различно», «возможно» и «действительно», «целое» и «часть», «движение» и «покой», «сущее» и «не сущее» и т. п. «Поскольку все эти вопросы, собственно, не относятся к области физики, а диалектика изучает их скорее с точки зрения развития искусства доказательства, чем познания сущности явлений, то во всяком случае целесообразно, чтобы исследование такого рода вопросов, само по себе весьма важное и полезное, не было совершенно забыто, а нашло себе по меньшей мере хоть какое-то место в нашем разделении наук» (5, 1, стр. 213), – писал он. Исследование категорий здесь не логическая, а реальная «натуралистическая» проблема. Постигнуть понятия «много» и «мало» – значит объяснить, почему в природе существует и может существовать такое обилие одних вещей и так малочисленны другие; разобраться в понятиях «идентично» и «различно» – значит объяснить, почему почти всегда между различными видами существуют промежуточные, обладающие признаками того и другого вида. Поистине знание о природе – это главный всепоглощающий предмет внимания Бэкона, и какие бы философские вопросы он ни затрагивал, подлинной наукой для него оставались изучение природы, естественная философия.
Фундамент естественной философии составляет естественная история. Однако фактическая констатация и описание тех или иных природных и опытных явлений еще не составляют теоретической науки, которая всегда есть знание причин. Таковой в естественной философии выступают физика и метафизика. Физика изучает общие начала вещей, систему и строение Вселенной, а также все многообразие объектов природы. Это последнее учение физики, исследующее многообразие вещей, в свою очередь подразделяется на физику конкретного и абстрактного, или на учение о творениях и учение о природах. Физика конкретного, занимаясь субстанциями со всем разнообразием их акциденций, близка к естественной истории и подобно ей изучает небесные явления и метеоры, землю и море, большие собрания или элементы (огонь, воздух, воду и землю) и меньшие собрания или виды вещей (металлы, растения и животных). Физика абстрактного, занимаясь акциденциями во всем разнообразии субстанций, стоит ближе к метафизике и изучает различные состояния материи (сгущенное и разреженное, тяжелое и легкое, горячее и холодное, летучее и связанное и т. п.) и разновидности ее стремления или движения (сопротивляемость, сцепление, освобождение, бегство, самоумножение, царственное движение, самопроизвольное вращение, дрожание, покой и др.), курьезная классификация которых сложилась у Бэкона в значительной степени под влиянием взглядов перипатетиков. При этом физика интересуется материальными и действующими причинами этих явлений, причинами, более частными и изменчивыми по сравнению с теми, которые составляют предмет метафизики.
Метафизика выявляет в природе вещей нечто более общее и неизменное, чем материальная и действующая причины, а именно форму и конечную причину. Но понятие о конечной причине или цели имеет смысл там, где речь идет о человеческих действиях, а поэтому как раздел естественной философии метафизика должна прежде всего исследовать формы, «охватывающие единство природы в несходных материях» (5, 2, стр. 84), в то время как собственно физика имеет дело с преходящими и как бы внешними носителями этих форм. Вот каким примером поясняет сам Бэкон это различие. «…Если будет идти речь о причине белизны снега или пены, то правильным будет определение, что это тонкая смесь воздуха и воды. Но это еще очень далеко от того, чтобы быть формой белизны, так как воздух, смешанный со стеклянным порошком, точно так же создает белизну, ничуть не хуже, чем при соединении с водой. Это лишь действующая причина, которая есть не что иное, как носитель формы. Но если тот же вопрос будет исследовать метафизика, то ответ будет приблизительно следующий: два прозрачных тела, равномерно смешанные между собой в мельчайших частях в простом порядке, создают белизну» (5, 1, стр. 238). Что бы ни подумал современный читатель об этом рассуждении, оно наглядно иллюстрирует, что именно Бэкон понимал под «метафизикой». Итак, мы опять сталкиваемся с целым комплексом заимствованных у перипатетиков представлений. Однако Бэкон стремился отличить свое определение метафизики от перипатетического, не отождествляя его, как это делали аристотелики, с понятием «первой философии». Бэконовская метафизика является частью науки о природе, как бы высшим, более абстрактным и глубоким разделом физики. «Не беспокойся о метафизике, – напишет впоследствии Бэкон в письме к Баранзану. – Не будет никакой метафизики после обретения истинной физики, за пределами которой нет ничего, кроме божественного» (54, II, стр. 128).
Он хотел вложить новое содержание и в перипатетическое понятие «форма». «Вещь не отличается от формы иначе, чем явление отличается от сущего, или внешнее от внутреннего, или вещь по отношению к человеку от вещи по отношению к Вселенной» (5, 2, стр. 104), – читаем, мы в «Новом Органоне». Понятие «форма» восходит к Аристотелю, в учении которого она наряду с материей, действующей причиной и целью один из четырех принципов бытия. Форма это принцип, делающий вещь тем, что она есть, и в этом смысле – сущность вещи. Будучи сопринадлежной материи и вместе с тем отличной от нее, форма сообщает материи, этой чистой возможности, подлинную действительность, образуя из нее специфичную конкретную вещь. И вместе с тем форма есть принцип общности в вещах, умопостигаемый и определяемый с помощью понятия. Это учение Аристотеля было воспринято средневековой схоластикой. И здесь форма трактовалась как основной принцип, сущность вещи, источник ее действительности, качественной определенности или специфики, выразимой лишь в сверхчувственных понятиях и определениях.
В текстах бэконовских сочинений встречается множество различных наименований «формы»: essentia, res ipsissima, natura naturans, fons emanationis, definitio vera, differentia vera, lex actus puri (14, стр. 39). Все они характеризуют с разных сторон это понятие то как сущность вещи, то как внутреннюю, имманентную причину или природу ее свойств, как их внутренний источник, то как истинное определение или отличие вещи, наконец, как закон чистого действия материи. Все они вполне согласуются между собой, если только не игнорировать их связь со схоластическим словоупотреблением и их происхождения из доктрины перипатетиков. И вместе с тем бэконовское понимание формы по крайней мере в двух пунктах существенно отличается от господствовавшего в идеалистической схоластике: во-первых, признанием материальности самих форм, во-вторых, убеждением в их познаваемости. Форма, по Бэкону, всецело детерминирована материей, это сама материальная вещь, но взятая в своей объективной сути, а не так, как она является или представляется субъекту. В связи с этим он замечал, что предметом нашего внимания должна быть не столько форма, сколько материя: ее состояния и действия, изменения состояний и закон действия или движения. «Ибо, когда мы говорим о формах, то мы понимаем под этим не что иное, как те законы и определения чистого действия, которые создают какую-либо простую природу, как, например, теплоту, свет, вес во всевозможных материях… Итак, одно и то же есть форма тепла или форма света и закон тепла или закон света» (5, 2, стр. 114). Именно это понимание позволило Бэкону поставить задачу исследования форм эмпирически, индуктивным методом.
Вообще Бэкон различает двоякого рода формы – формы конкретных вещей, или субстанций, и формы простых свойств, или природ. Так как любая конкретная вещь есть сочетание, сплав простых природ, то и форма субстанции есть нечто сложное, состоящее из множества форм простых природ. Последние называются им «формами первого класса». Эти формы вечны и неизменны, но именно они – разнокачественные, индивидуализирующие природу вещей внутренне присущие им сущности – придают неповторимое своеобразие бэконовской философской онтологии. «У Бэкона, как первого своего творца, материализм таит ещё в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку» (2, стр. 142–143), – писал К. Маркс.
Собственно простых форм существует конечное число, и они наподобие букв алфавита, из которых составляют всевозможные слова, своим количеством и сочетанием определяют все разнообразие существующих вещей. Возьмем, например, золото. Оно имеет желтый цвет, такой-то вес, ковкость и прочность, имеет определенную текучесть в жидком состоянии, растворяется и выделяется в таких-то реакциях. Исследуем формы этих и других простых свойств золота. Узнав способы получения желтизны, тяжести, ковкости, прочности, текучести, растворимости и так далее в специфичной для этого металла степени и мере, мы сможем организовать соединение их в каком-либо теле и таким образом получить золото. Не правда ли, задача как будто напоминает ту, которую ставили перед собой алхимики и приверженцы натуральной магии? Да и разве сам Бэкон не считал, что, подобно тому как механические искусства составляют практику физики, магия (правда, понимаемая им в «очищенном смысле слова») призвана стать практикой метафизики. Как ни стремился Бэкон выработать принципиально новую философскую систему понятий и терминологии, над ним все же тяготел груз традиционных представлений, словоупотреблений и даже постановок проблем. И все же Бэкона отличает от алхимиков и адептов натуральной магии ясное сознание того, что любая практика может быть успешной, если она руководствуется правильной теорией, и связанная с этим ориентация на рациональное и методологически выверенное понимание природных явлений. И, несмотря на подчас наивную непосредственность его воззрений, мы не можем не оценить того чрезвычайно важного обстоятельства, что Бэкон еще на заре современного естествознания, кажется, предвидел, что его задачей станет не только познание природы, но и отыскание новых, не реализованных самой природой возможностей.
Великим приложением к естественной философии, как теоретической, так и практической (то есть как к физике и метафизике, так и к механике и магии), он считал математику. Строго говоря, математика даже составляет часть метафизики, ибо количество, которое является ее предметом, приложенное к материи, есть своего рода мера природы и условие множества природных явлений, а поэтому и одна из ее сущностных форм. Недаром древние придавали такое большое значение фигурам и числам: Демокрит видел основу всего разнообразия вещей в фигурах атомов, а Пифагор утверждал, что природа вещей складывается из чисел. Между тем среди всех природных форм количество – наиболее абстрактная и легче других отделимая от материи форма, и именно это обстоятельство способствовало более тщательной и глубокой разработке этой категории по сравнению со всеми остальными формами, значительно глубже скрытыми в материи. Ведь человеческий ум от природы предпочитает свободное поле общих истин густым зарослям частных проблем и трудно найти что-либо увлекательнее и приятнее математики для того, чтобы удовлетворить это его стремление выйти на широкий простор свободных размышлений.
И вот, дабы обуздать высокомерие и самодовольство математиков, кичащихся точностью и строгостью своей науки, Бэкон напоминает им о ее великом служебном значении для опытного естествознания и человеческой практики. Его намерение было благородно, но он сам дал повод не очень-то серьезно отнестись к такому назиданию. И дело не только в том, что многие математики искренне и не без оснований считают, что книга Природы написана языком математики и что их идеи и понятия далеко не только лишь вспомогательный аппарат для естествознания и техники, а один из источников и творческих начал в открытии законов природы. Они просто не любят некомпетентных советчиков. А Бэкон не только не сумел по достоинству оценить всю послеевклидову геометрию, оплодотворенную еще в античности новыми идеями Архимеда, Аполлония и Паппа Александрийского, но и обнаружил незнание или непонимание самого замечательного математического открытия своего времени – логарифмов. Через девять лет после выхода в Эдинбурге «Описания чудесных таблиц логарифмов» Джона Непера он в своем трактате писал: «…в арифметике еще не существует ни достаточно разнообразных, ни достаточно удобных способов сокращения вычислений» (5, 1, стр. 249).