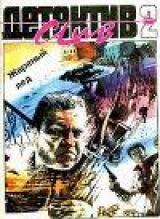
Текст книги "Детектив Клуб - 2 (Сборник)"
Автор книги: Александр Кривенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
УБИЙЦАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Неделя началась с приезда районного начальства во главе с представителем из области. Еще в пятницу Ганин срочно созвал совещание для узкого круга. Все было погружено в атмосферу таинственности. Ганинский секрет Полишинеля. О нем знал каждый сотрудник. Гибель Вадика и еще двух коллег не могла не вызвать далеко идущих последствий. ЧП, весть о котором разнеслась по округе, всколыхнула всех. Убийство трех офицеров – разве это возможно в нашем захолустье? У нас и мафии, и рэкетиров порядочных нет. Так, мелюзга уголовная по заброшенным домам и отдаленным лавочкам шурует.
Случай был и в самом деле нелепый. Начался он в Тучине с бытовой бузы. Бригадир-строитель Сенцов, человек, по мнению соседей, предельно уравновешенный, вроде бы непьющий, день-деньской хлопотавший в собственном огороде, неожиданно устроил дома пьяный скандал. Выгнав на ночь глядя жену и детей за ворота, он заперся на веранде с охотничьим ружьем. По всей улице неслись его угрозы пристрелить каждого, кто попробует войти к нему. Для пущей убедительности Сенцов дважды выстрелил через открытое окно…
Услышав эту фамилию, я сразу вспомнил нашу встречу на заброшенной стройке. Эпизод из моей журналистской практики. На память пришли его инициалы А. Б., с расшифровкой – Александр Борисович, вагончик на спущенных колесах, сам старшой – здоровенный, краснорожий, со вставными зубами неоднородного цвета. Кажется, именно он дал мне листок – написать прошение об отставке на имя Купчихи. Вот ведь как жизнь поворачивается…
Сообщение о семейном скандале, переросшем домашние рамки, дежурный довел до Ганина, который за каким-то чертом застрял в отделении. На оперативной машине ГАВ за десять минут домчался до поселка. Видать, оперативное прошлое взыграло. Местный участковый, не по бумажкам знавший о самодурском характере бригадира, предложил наглухо отсечь его от остальной части Тучина и подождать прибытия группы захвата. Был расчет и на то, что Сенцов за два-три часа придет в себя, одумается. Ведь он не рецидивист, которому нечего терять.
Но Ганину не терпелось действовать. Он пригнал в опасную зону чуть ли не весь личный состав отделения и затеял что-то наподобие игры в солдатики. Бестолковщина, крики, растерянность – вот что вызвала ганинская предприимчивость. Он беззаветно верил в то, что одно его присутствие само по себе принесет успех…
С трудом верится, но в оперативной группке, наспех сколоченной, не имелось даже собаки. Какие уж там бронежилеты, спецсредства. Вообще, у ГАВа просто крыша поехала: он вдруг устроил парням психологическую проверку. Вместо того чтобы послать на дело самых опытных и подготовленных, он, с усмешкой, перед строем стал выкликать добровольцев. Околович и попался на эту удочку, хотя на стрельбах ничего выше двойки не получал, а задержания видел только в кино. Никто не ожидал трагического развития событий, мужики похихикивали, а Вадик наверняка что-то предчувствовал. Я это точно знаю, иначе бы он не пошел, не из таковских Околович, чтобы искать дешевой славы…
Дом, таивший смертельную опасность, выглядел вполне мирно. Почти в открытую Вадим и еще двое наших мужиков миновали садовую дорожку. Кто-то из них, обернувшись, беспечно помахал оставшимся рукой, мол, ждите, скоро будем.
У входа на веранду та пара завернула за угол, а Околовичу досталось налаживать контакт с засевшим. Смешно, если бы не было горько – отправить на переговоры заику! Мне потом рассказывали: дескать, физический недостаток не дал о себе знать, тон моего друга был спокойный и уверенный, ни разу не «споткнулся». Все-таки человеческая психика – дело тонкое. Скандалист ответил милиционеру.
Панин с мегафоном в руках ежеминутно торопил события из-за забора. Сенцов, наконец, крикнул:
– Ладно, заходите по одному. Карабин не заряжен, – и после короткого молчания добавил:
– Первым пусть идет тот, кто со мной говорил. Ему сдамся…
Говорят, Вадим посмотрел на тех, кто был с ним, посмотрел так, словно хотел запомнить навек. Обычно бледное, его лицо стало чуть розовей. Околовича пытались отговорить, но он сказал, кивнув в сторону забора:
– В этой ситуации все равно кому-то придется рисковать. Меня, к тому же, пригласили…
Он взялся за дверную ручку, и в этот момент на всю улицу прогремел ганинский приказ:
– Брать живым! Только живым!
Я сейчас думаю, что эти слова стали роковыми, хотя другие считают, что они ничего уже не могли изменить…
Выстрел прозвучал глухо. Сенцов бил в упор. Стоявшие за углом мужики не испугались, рванули на подмогу, но застали Вадика в судорогах, с огромным выходным отверстием-раной в спине.
Преступник выпрыгнул через окно, которое уже никем не охранялось…
Ганинская дурь и сатанинское везение помраченного бригадира породили еще более страшную беду. Двое парней, бежавших на помощь, получили по пуле. Сенцовский карабин точно сам дьявол наводил. Он палил навскидку, в темноте, но каждый раз без промаха. И только на краю деревни, когда Сенцов впопыхах растерял патроны, Колька Чибисов смертельно ранил его. Бригадира не успели довезти даже до больницы…
Вот как бывает. Вадим старался служить делу, гнал от себя мечты о Большом Поступке. Да, его гибель получилась какой-то заурядной, не героической. Точно Вадимова скромность не позволила смерти взять его жизнь при иных обстоятельствах. Он и напоследок запнулся на полуслове…
Наш мир крепок. Даже если обрываются три судьбы, жизненный пульс не утихает. Люди реагируют на потери в своих рядах, для них чужая смерть – еще один повод творить разные дела и делишки…
Перед совещанием Ганин развил лихорадочную деятельность. Расследованием убийств занимались буквально все.
И это казалось странным, поскольку неясностей вроде бы не существовало. И для нас с Лехой Чернышевым нашлось занятие. Послали к матери Сенцова, жившей на моем участке, насобирать побольше компрометирующих сведений. Александр Васильевич назвал это «дополнительной проверкой морального облика преступника и выявлением мотивов преступления».
На этот предмет родственников Сенцова опросили, между прочим, десятки раз.
Ганина я не любил. Не любил с самого начала. Не так уж много на свете людей, почитающих начальство. Теперь я его ненавидел. И думаю, имел на то основания. И тем не менее, не верилось, что возню вокруг трагических событий он затеял исключительно затем, чтобы выгородить себя. Все так считали, а я не хотел соглашаться. Должен же быть предел человеческому цинизму? Точно страус, пряча голову в песок от очевидной опасности, надеялся найти выход из тупика. Поди ж ты, доказывал, что у Александра Васильевича проснулась совесть, что он пытается замолить грехи. О, трижды остолоп…
Встречаться с матерью бригадира было тяжело для меня. Нужны ли тут объяснения. И Чернышев шел к ней скрепя сердце. Наша задача казалась дурацкой, если не кощунственной.
Мы брели по пыльной дороге и не желали реагировать на зеленое буйство природы. Перебрались на проселок. Тучные сады наливались гроздьями плодов. Шаловливый ветер раздувал салатовые паруса крон. Незримое крыло изобилия покрыло мой участок. Вишневые деревья, облокотясь на заборы, манили бордовыми зрачками ягод. Нет, удержаться просто невозможно. Раз, и горсть полна вишен. Вынутые из пакета, они почему-то не так вкусны…
Леха хлопает меня по плечу, понимающе улыбается скуластым лицом. Кажется, я увлекся. Но тоска смертная. Когда мы добрели до нужной калитки, все опротивело окончательно… Эх, плюнуть бы на эти визиты да закатиться на речку. Сесть у берега и созерцать тихий и плавный ток воды. По-моему, лишь у ночного костра и тихих волн человек мудро смиряется перед неизбежностью неизбежного. Неторопливо перекатывается водица, пахнущая рыбьей чешуей и придонными растениями. Откуда бежит – неизвестно. Куда? Зачем? Сколько лет? Ничего неведомо. Стало быть, в струях есть мимолетность и вечность жизни. Великое таинство реки…
Черныш решительно толкнул калитку. Дорожка из разбитого и замшелого кирпича приводит к крыльцу. Двор самый обычный. Сараюшка, от которого тянет яблоками, куриным пометом и сладким дымом; кругом буйная трава и крапива, полчищем подступившие к самому фундаменту; ведро в кустах малины, забытое хозяевами давным-давно. Запустение. Прекрасная и печальная картина медленного угасания целого мира. Мира моего детства, чьей-то юности, зрелости, отпылавшего счастья и многого, многого другого…
– Ты только не заплачь, – встряхивает меня Чернышев, – физиономия у тебя, точно лимон жуешь.
– И за что тебя девушки любят? – лениво реагирую я. – Ни хрена в тебе сочувствия нет.
– Неподходящий момент для переживаний. – Леха широко, открыто улыбается. – Женщина – это инструмент. Его надо уметь настроить…
– Ну, понес, – отмахиваюсь от него.
И тут же прихожу к неожиданной мысли, что со мной происходит все наоборот. Слабый пол настраивает меня. Если находятся сразу две специалистки, то я разрываюсь на части. Последние события да история с кольцом отодвинули на второй план любовные приключения. Однако рано или поздно придется разобраться со своими симпатиями. Внешне я продолжал хранить верность Татьяне.
Даже на похоронах погибших мы были вместе, но и там я ощущал на себе шкуру предателя. Татьяна ничего не знала про Наталью. Тот поцелуй на ночном пруду до сих пор жег мои губы. Червь сомнения точил сердце. Таня, конечно, невеста, но принять встречу с Наташей за мимолетное увлечение не мог. «Инструмент»… Эх, Леха, Леха. Женщина – это жизнь, прекрасная и трагичная, простая и путанная-перепутанная. А две женщины… В одном я был согласен с Чернышом, что без этого существовать невозможно…
Почему– то на душе стало слегка веселей. Представил со стороны, как с торжественной миной на лице вступаю в зачуханный дворик, точно принц в изгнанье. Ладно, лирику побоку. Ирония и деловитость прежде всего, с такими козырями не пропадешь. Но пересекая скрипучий пол веранды, заваленный пустыми банками и допотопными флаконами, опутанными паутиной, подумал: «Да, Чернышев – это, конечно, не Вадик…» Выстрел в спину. Только кому?
Хозяйка, бесцветная и какая-то невесомая старушка, встретила нас настороженно. Недружелюбно. А что еще было ожидать? Наш товарищ убил ее сына в подворотне, как бешеную собаку. Боль за родную кровиночку скоро не забывается.
Леха стал расхаживать по комнате и хватать с полочек чужие вещи. Привычка при его профессии совершенно недопустимая. Я сел на подагрический диван без приглашения и помалкивал. О чем спрашивать эту замкнувшуюся в горе старуху? О семейных портретах на стене? О той кошке на вытертом до нитей коврике, от старости ставшей похожей на валенок? Или о невидимых ходиках, неизвестно зачем отстукивающих в этом доме часы?
Она стояла, поджав губы, и следила за Чернышевым. А он мало обращал внимания на нас обоих. Наконец, сунув нос в очередную коробочку, он удивленно-уважительно произнес:
– Богато живете, мамаша.
Мой слух резануло это – «мамаша». Ошалел Черныш, что ли? Конечно, без умысла брякнул, но хоть немного соображать надо. Хотел я знаком показать ему, да рука в воздухе остановилась…
Та, кого назвали мамашей, жгла Леху взглядом моментально вспыхнувших глаз. От этого огня, казалось, в следующую секунду и зарделось Лешкино лицо. Боже, сколько еще сил в этой пожилой женщине! Чернышев был явно растерян.
И тут на меня накатило. Пытаясь остановить волну, я безнадежно твердил себе самому: «Да зачем? Не надо. Не место…» Но уже захлестнуло.
– Что вы на него так смотрите? Как вы можете на него ТАК смотреть?
От звука моего голоса они вздрогнули. Не ожидали. Захватил их безмолвный диалог. Едва старуха Сенцова повернулась ко мне, пугающе спокойным тоном я сказал:
– Ваш сынок, между прочим, исподтишка застрелил Вадима, друга самого, самого… – Тут речь моя пресеклась: отчаянно запершило в горле. Рана была еще слишком свежа. Я справился со слабостью и продолжал: – Такого человека больше не будет на земле. Да если бы этот, ваш, живым остался, прошу верить, лично бы его… Зубами бы загрыз… – Опять перевел дух. – Их нет. Правильно. Разменялись, выходит…
Я горько усмехнулся, обвел пустым взором комнату, задержал дыхание, подыскивая нужные слова. Хозяйка стояла, как каменная. Чернышев в углу пыхтел, кусая ногти.
– Значит, разменялись. Каждый остался со своим, с горем. Так, что ли? – Я не ждал ответа, знал его сам. – Нет уж, извините. Ни в какой день, ни в какую погоду ни кому не придет в голову сравнивать их. Не сочтемся мы с вами бедой. Я хочу мстить за Вадима. Я имею на это святое право. А вы…
Надо было останавливаться. И запал мой иссякал, но Сенцова вдруг вскинулась, что-то прошипела, будто раненая крыса. Меня снова «замкнуло»:
– Ах, вот как! Тогда я еще скажу. Убийцами не рождаются. И в том, что произошло, ваша вина есть. Вам перед людьми грех надо век замаливать и мало будет… А она на него еще ТАК смотрит!
Потом я еще что-то говорил жестоко и больно. В моей памяти осталось очень нехорошее впечатление от собственного монолога. Словно о рыночной склоке. Хотя от сказанного тогда не отрекусь и сегодня. После импровизированной обвинительной речи бросил Чернышеву:
– Идем отсюда. Вроде все выяснили.
Леха тихо выбрался из угла. И мы бы ушли, но помешала Сенцова. Неожиданно рухнула на стол и страшно зарыдала. Моя ненависть к ней моментально улетучилась. И я, и Алексей замерли у двери в полном замешательстве. Сквозь всхлипывания стали прорываться лишенные смысла фразы. Сначала мы не поверили своим ушам. Не поверили потому, что застывшая в горе женщина начала просить прощения. Это никак не укладывалось в нашем понятии. Нам стало не по себе.
– Ах, ребята-ребята… Кого мне винить? Затерзали меня, старую. Все в глаза плюют. Я людей уж видеть не могу. Сына воспитала – хуже некуда. Да только сын он мне. Никуда не денешься. Сердце рвется на куски. А кто посочувствует? Ах, ребята-ребята. Вы его вон каким узнали, а я его другим помню. Совсем другим. Деньги его сгубили. Деньги, точно…
Я от растерянности развел руками, потоптался и промолвил совсем уж ни к месту:
– Деньги? Откуда. Он ведь бригадиром на стройке вкалывал. Помню, встречался с ним. «Козла» он забивал с мужиками. А работы – кот наплакал.
Старуха рывком подняла лицо, от слез ставшее похожим на кусок сырого мяса.
– Деньги во всем виноваты, – убежденно и как-то отрешенно сказала она, – меня про ружье все пытали. А что ружье? Оно всегда в доме было. А вот деньги недавно завелись…
– Может, он в коммерцию влез? – предположил Леха.
– Нет, – отрезала Сенцова, – в своей бригаде до последнего работал. Сама не ведаю, откуда достатки пошли. Вот ты говоришь, «богато живу», – повернулась она к Чернышу и показала в сторону этажерки, где лежала коробочка, заинтересовавшая опера, – это, считай, единствен ная память от…Саши. Принес однажды, спрячь, мол, мать… А теперь чего прятать.
Странно мне было утешать мать моего смертельного врага, но что оставалось делать? Кое-как привели ее в чувство. Пришлось сказать пару утешительных слов. Боже, как она ухватилась за них, едва на колени не встала. А слова были самые обычные, дежурные.
Из дома я выкатился слегка ошарашенный. Чернышев шагал рядом, тоже очень задумчивый, но, как выяснилось, совсем по иной причине. После долгого молчания он внезапно произнес:
– Не пойму все-таки: откуда у этой противной бабки золотишко взялось?
– Какое золото, Леха? Чего ты городишь? – словно очнувшись, спросил я.
– Какое? Такое. Ты, Анискин, в жизни не видал этаких штучек в футлярчиках. Старинная вещица. Но мы это проясним…
Я только рукой махнул. Неисправимый человек Черныш. Едва с убийством разобрались, а ему уже валютные операции и антиквариат мерещится. Вот кто, действительно, родился сыщиком. И еще я подумал, что никогда не научусь разбираться в людях. Вечно делю человечество на черных и белых. Так, разумеется, жить проще, но правильнее ли…
СТРАШНЫЙ СУД
Меня часто мучают приступы черной меланхолии. Именно мучают. До физической боли. Не хотелось бы называть причины, ибо это может стать искрой для очередной вспышки депрессии. И потом вряд ли можно описать происходящее со мной словами. Мне самому не все пока понятно. Вадик Околович, с которым я однажды пооткровенничал, дал душевному недугу любопытное определение: «Вселенская тоска». Чибис как-то раздвоение души назвал «интеллигентскими штучками-дрючками».
Если человек ни разу не испытывал, скажем, зубной скорби, то передать стоматологические страдания, вернее, впечатления от них, просто невозможно. А психические недуги куда сложней. Вадима, Птицу и меня воспитывали в одно время – бескромпромиссного материализма. Рай строили на земле, небеса же отвергали. Потому-то чистоплюи, вроде нас с Околовичем, воспринимали жизнь как падение в пропасть. Колька Чибисов наслаждался земными радостями и мало задумывался над тем, чем кончаются прыжки с огромной высоты. Мы разные. Вадим не дожил до той поры, когда о трагическом прыжке стали говорить иначе. Теперь райское существование обещают после смерти и даже в ином обличье. Я верю и не верю. Допускаю, поскольку никогда не соглашался с уготованной мне материалистами ролью обезьяны с мозгами. Их теория – элементарная плоскость, тогда как наше бытие – неисчислимый многогранник.
Но иногда вколоченные в мозги «гвозди» школьной программы и пионерских диспутов дают о себе знать, и я начинаю задыхаться, будто в тесной камере без двери. Помимо животного ужаса, поднимается негодование в душе. Неужто подлецы и мерзавцы избегнут кары? К великому сожалению, в этой жизни страшные суды устраивают они, а не им…
Вечером, перед совещанием, меня вновь окутало мигреневое облако. Правда, сама башка не болела, но разъяренные кошки скребли на душе. Утром проснулся раздраженный и потерянный, с тягостным ощущением, с предчувствием то ли уже совершенной ошибки, то ли грядущей. Время до завтрака еще оставалось. Схватил с полки «Похождения бравого солдата Швейка» и пробежал глазами по, наверное, заученным наизусть строкам. Ярослав Гашек действует на меня безотказно. Какое искрометное жизнелюбие было у этого смертельно больного человека! В любой ситуации он находил смешное. Натыкаюсь на один из тысяч анекдотов, которыми нашпигована книга.
Экономка бравого солдата иллюстрировала свое отношение к оружию конкретным примером. «Известно, – говорила она Швейку по поводу убийства эрцгерцога Фердинанда, – с револьвером шутки плохи. Недавно туту нас в Нуслях забавлялся револьвером один господин и перестрелял всю семью да еще швейцара, который решил посмотреть, кто там стреляет с четвертого этажа».
Согласитесь, смешней всех выглядит несчастный швейцар, слишком любознательный и настойчивый: поперся аж на четвертый этаж. Убрать из этой реплики хоть одно слово, и получится рассказ о трагедии. Почти такой же, какая случилась у нас. Домашний скандал, пальба, трупы. Вот уж поистине – от великого до смешного. Стоит вместо близких людей ввести схематические персонажи, и история приобретает юмористический оттенок. С ума сойти, что за чепуха лезет в голову перед совещанием, которое будет, возможно, главным в моей биографии…
По коридорам молчаливо шныряет народ. «Контора» напоминает не вполне разбуженный улей. По шепотку из углов и неестественно громкому хлопанью дверей чувствуется приближение грозы. С Птицей и Чернышевым спешим занять в «греческом» зале самые хитрые места, подальше от начальства. Без пяти минут десять остальная свора вваливается в бывшую ленинскую комнату. Народ алчно заглядывается на «Камчатку», но поздно, ребята, занято, зря вы засиживались в курилке.
Следом тянется вереница, состоящая сплошь из майоров и полковников. Зал стихает. Я вдруг начинаю бешено волноваться, хотя час назад считал, что переживать не из-за чего. Цель собрания ясна: раздать всем сестрам по серьгам. Так ли уж важно – кому всыпят больше, кому – меньше?
Первое же выступление вызвало у меня легкое недоумение. Тон экзекуции задал щеголеватый представитель областного управления. Свою вводную он уснастил перлами канцелярита. По-моему, никто ни черта не понял, и это было обидно. Чего тут мямлить, если главное действующее лицо (да простится каламбур) с гладкой мордой торчит прямо в президиуме. Ах, Ганин, Ганин…
Франт из области подал сигнал высказаться о происшедшем. Итак, призыв прозвучал суховато и излишне профессионально, словно заранее отметая возможные эмоциональные всплески. Значит, начальство желает устроить механический разбор. Чувства – в сторону и это, несмотря на то, что не успели еще засохнуть цветы у портретов погибших. Мне показалось, что щеголь имеет сложившееся мнение и просто желает поскорее утвердиться в нем. А поиск истины?
Мои размышления прервал монолог Ганина. Он бы и мертвого поднял из могилы. От усиленного внимания в рядах окаменели затылки.
– Сегодня мне нелегко говорить, – ГАВ опустил голову, затем повернул ее к окнам и, пялясь на улицу, продолжал: – трагическая ситуация прояснена в деталях. Недостатки в организации оперативных мероприятий с целью захвата вооруженного преступника выявлены достаточно объективно. Возможно, любое мое слово будет воспринято как попытка снять с себя часть вины. Если так, то разрешите закончить выступление…
Ганин выдержал паузу. Дмитрук, сидевший неподалеку, от смущения почесывал нос. Кое-кто растерянно переглядывался. Возникла неловкая пауза. Мы с Птицей в унисон покачали иронично головами. Нет, Александр Васильевич, вас останавливать не будут, вы умело заинтриговали публику. Даже я жаждал, чтобы дядя Саша высказался до конца.
– Начальник подразделения за каждую мелочь и, тем более, ошибку – свою, а также подчиненного – должен нести персональную ответственность. Таков моральный закон и положения Устава. Это непреложная истина. Как и та, что неэтично давать оценку собственным поступкам. Надеюсь, коллеги принципиально подойдут к этому вопросу. Со своей стороны считаю, что любое наказание, самое тяжкое, мною заслужено. Я готов ответить…
Пухлыми холеными пальцами Ганин теребил кипу бумаг, разбросанных на красном сукне. Пальцы слегка подрагивали, и народ напряженно следил за их магическим танцем.
– Однако столь уж важна личная судьба начальника отделения перед лицом последних событий? Наказание, и это хорошо известно нам, работникам органов внутренних дел, не гарантирует улучшения результатов работы. Очень хотелось, чтобы здесь не осталась в стороне такая важная тема, как доскональное изучение роли каждого участника операции. Вновь подчеркиваю, смысл обсуждения не в том, чтобы искать новых виновных, а в том, чтобы подобные трагедии в будущем никогда не повторились. Офицеры, погибшие на посту, своей судьбой призывают нас учиться жить, побеждать преступность…
Мне показалось, зал каким-то сверхъестественным усилием удержал рвущиеся из души аплодисменты. Я чувствовал себя раздавленным и поначалу никак не мог разобраться в существе происходящего. Почва незаметно уходила из-под ног. Покосился на Чибиса. Он с глубоким интересом разглядывал ногти и что-то бормотал под нос. Я толкнул его в бок. Птица поднял на меня свои холодные насмешливые зенки.
– Ну, Коль? Ничего не понимаю, – пробормотал я, поскольку Чибисов молчал.
– А ты в кино почаще ходи, там арапа покруче заправляют. Дядя Саша нынче в ударе. Областной вроде уже клюнул…
Я недоверчиво воззрился на заезжего ферта. Тот, глубокомысленно прищурив веки, наблюдал за Паниным, как режиссер за любимым актером. Неужто тут и впрямь разыгрывается инсценировка? Николаю доверять опасно, его «любовь» к начальнику может вызвать наговор, но и знает ГАВа он лучше других. Сомнения буквально раздирали меня. Если прав Птица, то лицемерие, цинизм и подлость Александра Васильевича просто безграничны. Меж тем место за трибункой занял Витюля Шилков. Такое знакомое лицо. Однако свет пасмурного утра, проникающий через стекло, превратил его в раскосую маску. И речь текла абсолютно без эмоций. На первый взгляд, он живого места не оставлял на Ганине. Но, с другой стороны, Шилков бессовестно вторил ему. Виктор четверть часа клеймил дядю Сашу исключительно как «начальника, слабо контролировавшего действия подчиненных». Идея, хитро брошенная ГАВом, вдруг обрела крылья. Я утвердился во мнении, что разговор сознательно уводят в сторону.
Выступавшие следом, двое или трое, подхватив мотивчик, в конце концов наплевали на запрет древних – не поливать мертвецов. Особенно тягостное впечатление оставили тирады Леонтьича. Уткнувшись в шпаргалку, он тянул все ту же песню, но едва отрывался от «нот», начинал противоречить сам себе. Мой подопечный Финик и Вечно Поддатый Винни-Пух вызывали у меня одинаковые чувства. Люди, сдавшиеся водке, теряют свое «я» и, кроме жалости, ничего не заслуживают. Бедный, запуганный Леонтьич. Нынешнее предательство он опять будет заливать из бутылки, И так по кругу…
В зале поднялся ропот, и обливавшегося потом дежурного прогнали в зал. А мерзкие слова продолжали лететь из других уст…
Эти фальшивые излияния затянули меня в омут чуть отвлеченных размышлений. Накатила мировая скорбь. Сквозь однотонное бормотанье я с горечью стал думать о том, что сегодняшняя трагикомедия напоминает футбольный матч, который показывают в записи. Результат известен зрителю, остается созерцать неизбежное. А Вадик не любил футбол. Он любил лес. Боже мой, если бы на этом сборище находилась мама Околовича! Мерзавцы, подобные Ганину, не ведают пощады даже к безутешным матерям. Живо представил ситуацию: добрая, гордая Марья Николаевна и грязные интриги выхолощенных душонок. Невозможно. Поклялся в меру сил скрасить бытие пожилой женщины. Разве мог предположить тогда, что не исполню этой клятвы? Что никогда больше не увижу ее лица? Кажется, я уже говорил об этом. Так и не заставил себя переступить порог печального дома…
У меня, конечно, не оставалось сомнений: фарс – он и есть фарс. На сцене шел целый спектакль, созданный ГАВом и человеческой мерзостью. Нет, ну удивительно схоже с театральной постановкой! Тут и даровитый исполнитель (Витюля Шилков), и провальные (Леонтьич), и продюсер в главной роли (очень модно), и спонсоры. А как еще назвать комиссию из области? Были еще безгласные статисты, то есть мы. На что уходят творческие силы.
Кое– кто из соседей стал позевывать. Вот так: народ начал скучать. Значит, собрание на исходе. Значит, действо удалось. Кроме Птицы и меня, остальных, похоже, такой поворот дела устраивает.
Отутюженный ведущий под гул моих раздумий произнес резюме, в котором через два слова звучало: «Конструктивно,…извлечь уроки,…суть не в наказании», и задал формальный вопрос.
– Кто еще желает высказаться? (Это после него-то!)
Я дрожал словно в лихорадке. Минута-другая и поезд уйдет. Коллектив вынесет себе обвинительный приговор, и акула порвет сеть. С детства боюсь трибун и президиумных столов, сверкающих стеклом графинов. Стоит мне подойти к возвышению, и язык сковывает неумолимый панцирь. Или такую чушь порет, что вспоминать стыдно. Ну, неужели все промолчат? Чибис жалобно и заискивающе улыбнулся – он тоже не Цицерон. Я умоляюще обвел зал взглядом. А председательствующий, сложив листки протокола в папку, уже открыл рот, чтобы…
И тут с места поднялся Дмитрук. Уф, отлегло от сердца. Повори, Николай Иванович, милый, неси белиберду, делай бессмысленные объявления, только дай собраться с духом. Ведь если я сейчас не выступлю, то не прощу себе этого вовек.
– Погодите закрывать, – старший участковый обстоятельно прокашливается. – Да. Предлагаю занести в документ мою особую точку зрения. Если вся рота в ногу, то я, выходит, не в ногу… Так что занесите…
– А что именно? – у «дирижера» удивленно поползла вверх левая бровь.
– Я говорить не мастер. Другим по этой части в под метки не гожусь, – лицо Николая Ивановича было совершенно бесстрастным, – а вот рапорт на имя начальникА УВД написал. Там изложено в полном соответствии…
Участковый грузно сел в кресло. В воздухе повисла тишина.
– Разрешите мне добавить? – мой голос прозвучал как-то обреченно и жалобно.
Ну ладно, лиха беда начало. Коль кинулся в омут – не кричи: «Караул!» И молодец, что одолел эту проклятую робость, Не мог нахвалиться я на себя.
– Мне странно слышать, как за словесной шелухой потерялась нить обсуждения, – эту грандиозную фразу я готовил заранее. С чего-то ведь надо приступать. – Все здесь сидящие до собрания определенно высказывались по поводу смерти Вадима Околовича и других ребят. Всем нам отлично известен человек, из-за которого произошло столько несчастий…
Я настолько проникся мыслью о вине Ганина, что совсем забыл о Сенцове. Том самом, стрелявшим из карабина. Но наши мужики сразу поняли все правильно: десятки взглядов впились в Александра Васильевича. Он возвышался над кумачом стола со смертельно бледным лицом…
– Да, человек этот сидит среди нас и, к тому же, позволяет себе заботиться о памяти погибших. Честных, настоящих сотрудников, обвиненных сегодня и в глупости, и неумении, и самонадеянности. Что происходит?! Почему в коридоре мы говорим правду, а здесь соглашаемся с преднамеренными выдумками? Ладно, не буду кивать на других – скажу от себя. Высокомерие и пренебрежение к человеческой жизни, чужой, разумеется, в очередной раз проявленные Александром Васильевичем Ганиным, привели к известным последствиям. И тут, перед коллегами, я берусь доказать очевидное, а также найти объяснение «беспочвенному» преступлению Сенцова… И если не в этом месте, то в другом обязательно добьюсь справедливос– ти…
На оттаявшем языке вертелось теперь много фраз, но я выпалил эти и сразу же грохнулся на сиденье. Хотя, видимо, следовало стоя встретить возможный встречный удар. Вступить в полемику. А может быть, и не очень надо было. Мое задиристое обещание растормошило людей. Они загалдели, принялись переругиваться друг с другом. Подняв глаза на областного пижона, я понял, что достиг главного. По реакции личного состава он, безусловно, сообразил, что правду затереть не удастся. И когда Александр Васильевич попытался обратиться к нему, физиономия у представителя верхов стала каменной. Но ГАВ вдруг потерял нюх, стукнув кулаком, он зло прошипел:
– Надеюсь, участковый Архангельский отдает себе отчет в сказанном. Со своей стороны даю слово, что возведший на меня чудовищную ложь ответит перед законом. Кроме того, сообщаю собранию, что личность участкового Архангельского не внушает доверия. И об этом…
Но в помещении поднялся такой гвалт, что дяде Саше просто не дали закончить. Конечно, жалким блеяньем он напортил самому себе. Опускаться до сведения мелких личных счетов с побеждающим противником ему явно не стоило. Президиум (уже не спонсоры, а судьи) реагировал на реплику соответствующе.








