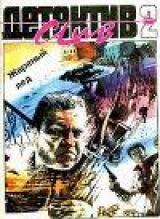
Текст книги "Детектив Клуб - 2 (Сборник)"
Автор книги: Александр Кривенко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
– Знаешь, Николаша, – желая создать хотя бы видимость объективного подхода к проблеме полов, выдохнул я в похолодевший вечерний воздух, – а у меня есть равноценная категория нашего брата. «Настоящие» мужчины называется…
– А, слыхали, – скрипнул перилом Чибис, – ерунда, пацан. Не пойму, чего ты за баб вступаешься?
– Дай все-таки выскажусь о «настоящих». Желательны бакенбарды. Одежда – позавчерашний крик. Сам герой не сомневается, что смотрится моделью с обложки журнала мод. Прическа экстравагантна. То есть та же претензия на шик – или слишком облезлая, или слишком кудлатая. Курит в тамбурах электричек, пьет там из горла портвейн. Говорит в общественных местах демонстративно громко, полагая, что его речью должны наслаждаться окружающие. О чем я забыл?
– О походке.
– А, ну да… Походка подскакивающая, с покачиванием плеч.
– Наклонности?
– Уже отмечал. Жрет зубодробильный портваген, но утверждает, что не признает ничего из спиртного, кроме водки…
– Видал, видал таких обормотов, – Колька хитро сморщил нос, – но по сравнению с «хозяйками» они – барахло. Не та закалка. И цели фиговые: заморочить мозги какой– нибудь вымазанной косметикой продавщице. Нет, твои настоящие мужчины – несоциальный фактор. Вот хозяйки…
Слушал я Птицу и думал о том, как глупо устроена жизнь. Грызутся мальчики с девочками, дяди с тетями, дедушки с бабушками. Массами, семейно и порознь. А чего ради? Чтобы покомандовать. Не лучше ли жить мирно? Куда там. Тот же Чибис: он из «принципа» до смерти противоборствовать не устанет. Да и я хорош. Не скроешь. Ведь я уверен, что мужчины и мудрее, и честнее. Мы, видно, уже с «мнением»…
НАРОД ЛЮБИТ ЛАСКУ
Ганин поразил всех, объявив о назначении празднований. Но и повод, правда, подвернулся более чем подходящий: Александру Васильевичу досрочно присвоили очередное звание. За какие заслуги – оставалось лишь голову ломать. Удивлялись мы неожиданной либеральности нашего начальника – он ведь народ любил держать, как говорят, на длинном поводке. Вроде и не отпускал, но и нарушения субординации не терпел. Словом, сообщение о предстоящем коллективном банкете вызвало в отделении много кривотолков.
Чибисов, имевший на всякие изменения обстоятельств свою точку зрения, прокомментировал новость поутру, едва мы собрались в дежурке:
– А толкуют, что повышения портят натуру. Вот и верь людям, – страсть к зубоскальству была в Кольке неистребимой. – Леонтьич, теперь дядя Саша тебе, глядишь, и стульчик начнет предлагать в своем кабинете?
– Ага, обрадовался, как же. Он предложит… – Вечно Поддатый Винни-Пух не продемонстрировал обычной язвительности по двум причинам: во-первых, он не успевал сразу раскусывать Колькины наколки, во-вторых, грядущая пьянка настроила его примирительно. И все-таки дежурный добавил:
– Предложит. Смотри только, чтобы одно место не разболелось…
Птица скорчил каменную физиономию и с видом первого ученика стал внимать назиданиям разболтавшегося Леонтьича. Тот выудил из житейского багажа явно раздутый пример коварства вождей и начал утомительный пересказ. Едва патриарх смолк, я спросил, ни к кому персонально не адресуясь:
– Нет, не понимаю. Какого хрена дядя Саша расщедрился? Ну не понимаю…
Тут нас всех турнул из помещения помощник дежурного, мол, не даем работать. Гурьбой мы двинулись в «греческий» зал, где из произведений искусств был лишь бюст Ильича, оставшийся от ленинской комнаты, как и доска с надписью «политбюро», но с отодранными фотографиями. Я почему-то вспомнил, как Ганин во время забавного политического путча менял в помещении портреты. Ориентировался на слухи…
– Говорю вам, молодежь, – и тут гнул свое Леонтьич, – угостит он и будет подслушивать, кто что по пьянке скажет.
Такой далекий от наших проблем, криминалист Вадим Околович листал справочник. Полузакрытый фанерной трибункой, он, казалось, пребывает в обычном трансе. Вдруг Вадик громко захлопнул книгу и с легким заиканием произнес:
– Думаю, опасаться подвоха не стоит. Просто АлекСандр Васильевич внимательно читает руководящие документы…
По– моему, от звука этого весьма и весьма тихого голоса вздрогнула вся компания. Точно сам Ганин застиг нас за предательскими разговорчиками. Околович слыл безвредной личностью. Единственно, чем он прославился, так это борьбой за свои шикарные смоляные усы. Наш руководитель испробовал все приемы воздействия, чтобы усач выглядел, как «все нормальные офицеры», но даром старался. Вадим осаживал его с безупречным тактом – сказывалось городское воспитание.
Итак, мы вздрогнули, лишь непотопляемый Чибисов, не растерявшись, крикнул:
– Ну и чего дальше?.
Криминалист, пожав плечами, бесстрастно закончил свою мысль:
– Последние разработки в области психологии указывают на необходимость быть на короткой ноге с подчиненными. Формируется тип демократического лидера, способного сделать гораздо больше, чем въедливый сухарь.
Мы доброжелательно смотрели на вечного молчуна. Еще никто не заставал Ганина за чтением литературы, тем более, прикладной. Чувствовалось, что Околовичу не по себе от такого внимания. Возможно, он уже жалел, что раскрыл рот. Зато отделение думало совсем иначе. Особенно сильное впечатление едкая реплика произвела на меня. Вадим, эта темная лошадка, давно занимал мое воображение. Говорят, птицу видно по полету. Вот и замкнутость Околовича выглядела аристократически. Она никого не обижала. Если в «конторе» что-то затевается, то участие криминалиста в этой выдумке – гарантия ее чистоплотности. А мне не нужно было никаких гарантий, я знал его лучше других…
Ганинское застолье получилось таким, каким оно и должно было получиться. С вытянутыми лицами мы распили шампанское из расчета – одна бутылка на десять человек – и по стакану жиденького чая. Потом начальник любезно произнес:
– Наши представители могут быть свободны.
Нас выставили за дверь, а руководство и любезный гость из района Витюля Шилков остались трескать икру с водкой. Каждому свое. Вновь Вечно Поддатый Винни-Пух сел в лужу с прогнозом. От огорчения он отправился в вытрезвитель ублажать разбуженного зверя. Чибис увязался с ним. И так вышло в очередной раз, что домой я отправился в компании Вадика Околовича. Мы беседовали. Впрочем, болтал я, а Вадим слушал. Вот кто умел слушать. С ним хотелось говорить безостановочно. Незаметно речь зашла о моей работе, доле участкового.
«Сергей, прости меня, Сережа», «Сережа, мне кажется», – так деликатно останавливал порой мой фонтан Околович. Я очень люблю, когда меня так называют. Ни Сережка, ни Серый, ни Сергуха. Обмен мнениями касался разочарований участкового Архангельского. Ошибки собственные, а порой и просто бессилие посеяли в моей душе смятение. Страшно становилось не только за персональный участок. Милицию били-топили кому ни лень, ее подрывали изнутри. И не видно этому гадству конца-края. В отделении частенько разглагольствовали на эту тему, но будто по обязанности. Тут же, подле Околовича, я вдруг почувствовал чуть ли не вдохновение.
– Хреново, – вещал я, – почему кругом столько негодяев? В политике, экономике, частной жизни. Где, черт побери, хорошие люди, о которых так много твердят в школе и книжках для детей?
– По роду своей деятельности ты чаще сталкиваешься с отбросами общества. Называется – профессиональная деформация… – начал Вадик.
– И поэтому все вижу в мрачном свете? – не терпелось «включиться» мне. – Ладно, оставим преступников. А как тебе коллега Ганин?
– Он опытный специалист.
– А человек?
– В системе нужны разные рычаги.
– Ганин – хороший человек?
– Плохой.
– Чего же он сидит в таком кресле?
– Думаю, Сережа, это чей-то недосмотр. Рано или поздно оплошности исправляются.
– Ну да, когда ГАВ генералом станет и счастливо уйдет на пенсию. Звания досрочно получает. Ты вот шибко принципиальный и все-таки подчиняешься этакому дерьму… – неожиданно для самого себя задрался я.
Вадик резко остановился. Обезоруживающе улыбнулся. Лукаво подмигнул:
– Сережа, знаешь, в чем главный недостаток нашего начальника?
– Ну, барин он…
– Точнее, доверенное ему хозяйство Александр Васильевич принимает за личное. У меня другой взгляд на вещи. Я служу не ему, а делу. Ясно?
– Ясно, – меланхолично отреагировал я, – другой бы сказал: «Фигу в кармане держит».
– На жизнь надо смотреть философски, – совсем не обиделся Околович.
– Даты, Вадим, прямо-таки неприступная крепость. Неужели не тянет поскандалить, с завязанными глазами вы тянуть жребий? Доказать всем этим ганиным, что есть на свете вещи поважнее карьеры. Ну ее к чертям, такую жизнь, где правят нарукавники и канцелярские душонки!
Сам не знаю, чего я пристал к Околовичу. Ему бы не составило труда высмеять меня, он же выбрал другое.
– Видишь ли, Сережа, – после некоторого раздумья промолвил мой спутник, – я часто размышляю над тем, что достойнее: скромно, но честно пройденный путь или вспышка, взрыв страстей, поступок – и до сих пор не на хожу категоричного ответа. Вроде бы первое мне ближе, однако иногда…
В тот момент на Околовича любопытно было посмотреть: его тонкое лицо ожило, осветилось (да простятся мне красивые слова), будто ночное озеро в грозу. И я сказал ему, не разжимая губ: «Здравствуй, брат!» В тот момент все говорило за то, что передо мной – окончательно и бесповоротно обретенный друг.
И ПРО ТАНЮ
Ночью мне не спалось. Когда такое случается, я, уткнувшись в подушку, думаю о футболе или вспоминаю девчонок своей юности. Футбольная тема – это несколько стоп-кадров о моих голах, подаренных самой судьбой. Однажды почти от центра я забил штуку с окаянной левой ноги. Мяч, подобно ракете, метр за метром набирал скорость и, наконец, со звоном врезался в перекладину. Вратарь, отчаянно пытавшийся достать его, взлетев в воздух, получил удар рикошетом в спину, и мы повели 1:0.
Человек из нашей команды, с которым мы за десять лет объездили стадионов больше, чем у меня пальцев на руках и ногах, как-то растерянно пробормотал, поздравляя:
– Н-да… черт-те что… И как это ты так, а? Чудно.
Он был потрясен. Конечно, не ударом. Нет. Он был изумлен тем, что на его глазах произошло вроде бы невозможное. Мой партнер столько времени волей-неволей следил за мной, моя игра лежала перед ним открытой книгой. И вдруг – чудо.
В раздевалке я клялся всеми святыми, что отлично просчитал ситуацию, но это была неправда. Просто меня точно кто-то толкнул в бок, мол, рискни. Ну, хрен с ним, подумал, рискну. И влепил. Потом сто раз пробовал повторить удар, но тщетно. Может быть, и в самом деле, чудо?
Мне не спалось. Заставить себя «прокручивать» спортивные картинки никак не удавалось. В голову лезли мысли о Таньке. Когда же мы с ней встретились? Время, уступи, верни к чистым ключам отрочества.
Наш старый дом, наполненный невесть откуда берущимися шорохами, вздохами. Маленькая комната, теплая келья. За окном под порывами ветра беснуется одинокая береза. Тихие вечера наедине с книгой. Струится матовый свет. На залитом чернилами столе – школьная тетрадка, вся испещренная стихами. Предчувствие. Чего? Чего жаждут и что никогда не сбывается? Свежего морского ветра? Звездочек на офицерских погонах? Влюбенных девчоночьих глаз? Прочей романтической белиберды? Не знаю. Но дай Бог еще хоть раз пережить это – и мгновенно вспомню.
Однажды раздался стук в дверь. К нам пришла высокая серьезная дама с дочерью, такой же высокой, но более тонкой и выглядевшей очень независимо. Так переступила порог моей крепости Татьяна. На Востоке когда-то говорили: «Она ворвалась в царство его сердца и подвергла разграблению и опустошению».
Я был странным парнем. Скрипучие шкафы, набитые книгами, в которых я знал едва ли не каждую страницу. Между этими шкафами торчали хоккейные вратарские щитки, распространяя запах высыхающей кожи. А в ящике письменного стола очки, редкие лекарства мирно соседствовали с охотничьим ножом. Перед девчонками я робел до крайности. Ударялся в панику или развязно молол несусветную чушь. На свидания матушка гоняла меня палкой – иначе ни в какую не желал покидать своей обители. Все женщины опасного возраста внушали мне почти священный ужас. Оттого, наверное, влюблялся часто и напропалую. Девушки из старших классов казались олимпийскими богинями: прекрасными и совершенно недоступными. А Татьяна! До сих пор нет слов. Она представлялась чем-то особенным из особенного. «Обладательница красоты и ума», как писалось все в той же «Тысяче и одной ночи». Сейчас я смотрю на вещи поспокойнее и понимаю, что впадал в младенческий восторг. Но, Бог с ним, с нынешним моим практицизмом.
Все равно, теплый звереныш шевелится в моей груди, едва вспомню о первой встрече. Смелая Ежик постучала в дверь комнаты, где я скрывался от нашествия чужих женщин. Ей было невесело с мамашей и не хотелось кого-то ждать. И она сочла естественным заглянуть ко мне. Увы, мой вид, признаюсь, не сразил ее. «Ты был какой-то ощипанный. Как гусеночек». Вот таким я запечатлелся в памяти своей невесты.
Зато меня сразили наповал. Не будем спорить: все-таки красота – это талант. Можно пузыриться, ставить над собой психологические опыты, философствовать, но является красавица шестнадцати лет от роду, и все приводится к весьма несложному знаменателю. Жизнь сразу обретает смысл, туманная задумчивость тает, уступая место живому портрету.
Ежик, по старшинству, хотела скуки ради пошалить со мной. Чуть приблизить к себе, ничем, разумеется, не рискуя. Мне, по сценарию, полагалось конфузиться и краснеть, но я под действием ее чар сделался разговорчивым. Не слишком уповая на собственную мудрость, стал делиться книжной, коей за годы моего затворничества накопилось сверх ожиданий. Татьяне, пожалуй, тогда было не до трактатов. Однако моя вдохновенная речь не осталась незамеченной. Я боялся признаться в том, что задел чувства царственной моей гостьи. Боялся и надеялся. И вдруг месяца через два она наносит мне новый визит; да, именно мне (ура!), а не моей маме. Потом все закружилось, завертелось. Накатило время, армия, то да се. Мы везде таскались парочкой. Я вроде бы имел основания считать ее своей девушкой. Но и гораздо позже, вглядываясь в удивительные сапфировые глаза, спрашивал с сомнением:
– Ежик, неужели ты и впрямь любишь меня?
– Да, – весело ответствовала она, – люблю…
А мне плохо верится. Я по-прежнему кажусь себе тем же ощипанным гусиком. А Татьяна – настоящая дама. Годы, точно искусный огранщик, шлифуют ее тонкие черты…
СМЕРТЬ ОКОЛОВИЧА
Утром мне надо было заскочить в нашу управу. Документы почитать, отметиться кое-где, новости послушать. Словом, обычное дело. Как всегда, первый визит нанес оперативникам. Люблю к ним заходить, и не потому, что там чаще, чем у других, пахнет выпивкой. В розыске микроклимат особый. Здесь очень ценят юмор. Но в тот день, едва отворив дверь, я понял, что нынче ребятам не до шуток.
Колька Чибисов с мрачным бледным лицом сидел за столом и разглядывал собственные сапоги, облепленные высохшей грязью. Лежа Чернышев молчал, облокотившись на подоконник. По комнате, медленно ступая, ходил Дмитрук. Прижимая бумагу перевязанной кистью, что-то строчил Леонтьич. Казалось, в кабинете царил страшный разгром, хотя, кроме чибисовской обуви, ничего непривычного там не было.
– Что случилось? – спросил я, предчувствуя неладное.
– Посиди, – голос у Николая Ивановича сорвался. Он прокашлялся. Желание узнать о неизвестной беде достигло предела, но нарушать мертвую тишину я не решался.
Наконец Леха шевельнулся у окна, обхватил руками плечи, словно защищаясь от колючего ветра, и неожиданно бросил:
– Потеряли мы трех человек… И твоего…
– Кого? Когда? Да ты что…
Десятки вопросов просились на язык, и я молотил им и молотил. Страшно было услышать ответ, узнать имя. Хотя в отделении людей немало, я почему-то сразу решил, что погиб и Вадик Околович. Интуитивно почувствовал и, не дожидаясь подтверждения, стал лихорадочно думать. О чем? Смешно и грустно признаваться. Думал, как изменить то, что изменить уже не мог никто. Какие только мысли не промелькнули в голове. Невозможно было освоиться с тем, что нет парня, который обязательно превратился бы в близкого моего друга. Если Вадим погиб, то ни одно лекарство и даже чудо не воскресит его. Передо мной медленно поплыла стена с портретом президента, окно, полузакрытое фигурой Чернышева. Я схватился за сейф и прильнул разгоряченным лбом к студеной стали.
– Неужели Вадик? – с непослушных губ, разом пересохших, сорвался главный вопрос.
Дмитрук придвинулся откуда-то сбоку и взял большой теплой ладонью мой локоть. Я посмотрел в его глаза. Они были отрешенными и, вместе с тем, они недвусмысленно передали то, что висело в воздухе. Я угадал! В другое время оставалось бы только подивиться такому предвидению. Тогда же я освободил локоть и двинулся прочь из комнаты. Трагическая весть наконец нашла себе местечко в моей душе. Теперь я нуждался в одиночестве. Больше ни о чем не хотелось знать и слышать. Весь мир закутался мраком. Меня, как сорванную ветром былинку, понесло от крыльца, над полями, посеревшими проселками, к березовой роще. На меня точно набросили прозрачную накидку. Пропали звуки. Кажется, шел дождь. Ноги сами несли вдаль. Сознание отключилось. И, словно смертельно раненный зверь, шел я в потайной уголок проститься с жизнью, в которой не стало места для Вадима. Плелся проститься в лесную чащу, поближе к матери-сырой земле.
Упал спиной на колючий стог, голова утонула в душистом сене. Совсем рядом с моим лицом по соломинке взбирался жучок. Без спешки, деловито. Внезапно «появился» звук. Верещали невидимые птахи, где-то тарахтел переливисто трактор, оглушительно застрекотал кузнечик. Под сердцем нарастала тягучая боль. И тут же хлестанула, как штормовая пена. Я вскочил, чтобы не задохнуться, и снова качнулся в неведомую сторону. Весь день промотался среди молчаливых зарослей, мокрой травы в поисках снадобья от неизбывной боли. Говорят, человек ко всему привыкает. И душа у него, мол, всеядна, будто брюхо акулы. Неправда, переварить смерть Околовичая не могу до сих пор…
Вечером я отправился к родственникам Вадима. Непросто было решиться на это. Околович погиб, и все погребальные ритуалы – официальные и неписаные – представлялись малозначительным суетным делом. Вспоминаю запоздалые разговоры о погибшем, которые велись у каждого угла. О нем судили верно. Скромный честный человек. Да, он был таким, но в большинстве поминальных речей не ощущалось настоящих чувств. Никто не знал криминалиста так, как я. Разумеется, кроме его родственников. В отделении никто не смог понять, кого мы лишились. Ну что могли сказать о нем наши ребята? В конторе Околовича вечно окружала пустота. Выпускник университета, белая кость, он оставался непонятным другим. Он легко сделал бы карьеру, но торчал на скромной должности. Физический недостаток – заикание – обрекало Вадика на обособление, вольное или невольное. Некоммуникабельность криминалиста сразу приписали высокомерию.
Сколько раз замечал: первое впечатление, особенно неблагоприятное, отбивает у людей охоту глубже разобраться в чужом характере. Пожалуй, и я бы проскочил мимо подлинного Околовича, если бы не моя привычка, оставшаяся с журналистских времен. Люблю раскладывать «по полочкам» повстречавшийся мне народ. Занятие трудоемкое, но ведь охота пуще неволи. И еще, Вадик меня всегда интриговал.
…В доме Околовичей я сразу ощутил привкус безысходного горя, слепого отчаяния и благородного смирения. Мне стало жгуче стыдно за самовольно присвоенное право особо печалиться о погибшем.
Мать Вадима из прихожей повела меня в комнату. По пути сообщила, что Вадик много рассказывал обо мне. Нет, не подвело меня предчувствие. Искоса поглядывал на Марью Николаевну, но не видел признаков страдания…
Однажды я попал в одну скверную историю. При мне били человека, уже раненного ножом. Мы с напарником бежали, чтобы прорвать гущу драки. Холодной молнией сверкнула в свете уличных фонарей сталь. Ярость вскинулась в нас, она слепила и выворачивала сумасшедшим темпом мышцы. Однако первый же подлый удар по телу, из которого лилась теплая кровь, остановил меня. Лучше бы я совсем не родился на свет, чем видеть такое. Трудно сказать, как удалось заставить себя растаскивать копошащуюся мразь, а потом преследовать убегавших. От шока, вообще-то, погоня частенько спасает. Вот и тогда хотелось растворить впечатление от кошмара игрой в догонялки…
Рано или поздно кто-то приказал возвратиться назад и ждать машины «скорой помощи» около потерпевшего. Автоматически подчинился. Опять то же пятно на ночном асфальте, выхваченное светом качающейся лампочки. В центре – бесформенный ком, лишь отдаленно напоминающий человеческую фигуру. И опять в душу влезло ошущение только что пережитого. Помню, точно электрический разряд проскочил по нервам. И тут, о, ужас, ком зашевелился. Мужчина протягивает ко мне руки, очень длинные, и стонет. Стонет надрывно, визгливо, моля о милосердии. Странное дело, ни капли жалости не нашлось к этому несчастному. Только брезгливость, словно он был прокаженным, нечистым. И только профессиональный долг заставил прийти на помощь.
Сидя напротив Марьи Николаевны, я вроде бы не к месту припомнил старый случай и вдруг понял, почему у фонарного столба оказался способен на жестокость. Получалось, что я сопереживаю лишь тем людям, что сдержанны в своем горе. Лицо матери Вадима было спокойным, правда, чуть заплаканным. И все-таки таилось в нем нечто, от чего у меня перехватило дыхание, и слезы покатились одна за другой. Судороги сковали язык, и в «просвете» между ними я твердил:
– Не могу… извините… не могу…
Марья Николаевна обняла меня, прижала голову к своему плечу. Словно впитывала часть моей боли.
– Поплачьте, Сереженька, поплачьте, вам легче станет, – ласково промолвила она, – потом будем Вадимовы фотографии смотреть…
Этого я уже не выдержал и выскочил в коридор. Когда, немного успокоившись, вернулся, то увидел, как Марья Николаевна перебирает карточки. Мы принялись вместе вглядываться в них, молчаливо моля смерть о маленькой уступке. Чтобы хоть с кусочков фотобумаги Вадик откликнулся на нашу скорбь. Не знаю, как это случилось, но просьба дошла до грозного адресата.
Он вернулся, подал знак с одного из снимков. Вадим стоял, прислонившись к стволу дремучей ели – такой живой, органично вписавшийся в природу, греющий кожей щеки шершавую кору дерева.
Мне хорошо знакома история этого фото. Ведь рядышком, «за кадром», сидели у костра Яцек Юргелевич, я и Наташа. Девушка, от рук которой всегда пахло спелой вишней… Расскажу о ней, ибо вечер с матерью Вадима закончился в молчании, и больше мы не встречались.








