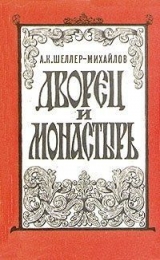
Текст книги "Дворец и монастырь"
Автор книги: Александр Шеллер-Михайлов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА II
Гавриил Владимирович Колычев и его старый слуга направились по дороге к Москве, чтобы там пробраться к палатам боярина Степана Ивановича Колычева, у которого на время остановился Гавриил Владимирович в качестве дальнего родственника.
– А и много же храмов понастроил в Москве государь великий князь, – заметил молодой Колычев, всматриваясь вдаль на мерцавшие в вечерней мгле своею позолотою купола Благовещенского собора. – Любит строиться, нечего сказать, и изукрасил Москву.
– Храмов много, да благочестия мало, – ответил ворчливо старый Ермолай, за все и про все придиравшийся к Москве. – Молиться лень, а бесов, тьфу ты, Господи, каждый рад тешить.
– А где благочестия-то ныне много, старик? – проговорил молодой Колычев. – Насчет этого и у нас в Новгороде не лучше. В церковь, как на базар, ходят, чтобы свои дела обделать, дешево купить, дорого продать, и стоят-то иные с покрытыми головами, на посохи опираясь да одеждой своей бахвалясь.
Он махнул рукой.
– Нет, благочестия везде мало! Не одна Москва в этом грешна.
Они замолчали, вглядываясь в окружавшую их местность и стараясь не сбиться с пути. Для них все было ново на дороге к малознакомой им Москве.
Въезжая в нее, можно было подумать, что въезжаешь в большую деревню. Это впечатление больших деревень производили тогда все русские города. Сначала тянулись под Москвой длинными рядами избы кузнецов и железников, между этими избами, отстоявшими далеко друг от друга на случай огня, лежали луга и поля. Сами избы с волоковыми окнами, служившими скорее для отвода дыма из изб, чем для пропуска в них света, были закопчены, точно после пожара. Далее шли заречные слободки тоже с курными избами. Кое-где мелькали тут купола монастырских церквей, находившихся вне города. Затем начались обывательские дома, окруженные огородами и садами, где теперь уже почти не было зелени и стояли только полуголые деревья да чернели взрытые и уже пустые гряды с следами капустных кочерыг. Все эти дома походили один на другой. В большинстве случаев основой дома служил трехоконный сруб, к которому потом делались пристройки с боков и сверху, иногда соединявшиеся с главным срубом массою переходов, сеней и крылец. Неправильно расположенные улицы Москвы тонули либо в пыли, либо в грязи, от которой спасали только деревянные мостки, и то в одних лучших частях города. При въезде в улицы виднелись бревна, которыми к ночи загораживали улицы, оберегаемые по ночам сторожами. По берегам Яузы возвышались мельницы. Такие же мельницы виднелись и над рвами крепости, наполнявшимися водой из Неглинной. Эта река, бравшая начало из болот, была так запружена около верхней части крепости, что образовала озеро. Наконец, открывался и Кремль, раскинутый на высоком холме.
Подъехав к нему, человек уже чувствовал, что он находится в городе. Кремлевские стены были уже выложены из кирпича. За этими стенами находились, кроме обширных построенных итальянским зодчим каменных палат государя, палаты митрополита Даниила, дома князей и вельмож, хотя и деревянные по большей части, но просторные и затейливые, с резными украшениями и пестрой раскраской. Церквей в Кремле было много, но из больших каменных выделились особенно две – расписанный внутри чудной живописью Успенский собор и церковь Архангела Михаила. В первом были погребены митрополиты Петр, Иона, Фотий, Киприан, во второй покоились уже перенесенные сюда кости умерших князей московских. Другие каменные церкви, как Спас-на-Бору и Церковь Чудова монастыря, были не велики. Монастырей в Кремле было два – мужской Чудов и женский Вознесенский. Только эта часть города и была похожа на город, поражая даже великолепием и красотою некоторых построек, созданных почти исключительно итальянскими зодчими.
Когда наши путники добрались до дома боярина Степана Ивановича Колычева, в воздухе уже окончательно стемнело и в колычевских палатах царствовала полнейшая тишина, говорившая, что обитатели этого жилища уже покоились сладким сном. В комнатах было совсем темно, и только кое-где мерцали неугасимые лампады перед иконами. Не спал только сторож, сидевший у массивных ворот, закутавшись в темную овчинную шубу и казавшийся в полумраке какой-то громадной черной каменной глыбой.
– Ишь, добрые люди спать полегли, Богу помолясь, – проворчал старик Ермолай, кряхтя и слезая с лошади, – а там, поди, тьфу ты, Господи, еще бесов тешай пир во полупире, а бражники вполсыта наелись, в поя пьяна напилися…
Он стал расталкивать задремавшего сторожа, полушутя, полусердито ворча:
– Смотри, с шубой украдут!
Сторож вскочил, не поняв сразу, кто его будит, и бормоча в испуге:
– С нами крестная сила!
– Ишь, заспался, своих не признал! – проворчал Ермолай. – Ну, ну, отворяй ворота, не разбойники напали, а свои едут.
Сторож совсем уже очнулся и заторопился, вынимав засовы и гремя замком. Тяжелые ворота заскрипели и распахнулись.
Колычев, ничего не говоря, проворно соскочил с коня, прошел по темным путанным и сложным переходам и сеням дома и поднялся по лестнице в отведенный ему покой наверху, в повалуше. Он быстро разделся, помолился перед иконами, широко крестясь, и, отбив несколько земных поклонов, выпил большую закрытую крышкой кружку холодного квасу. Потом он улегся на застланную ему на ночь широкую лавку у стены, сладко зевая и вытягиваясь во весь свой богатырский рост.
Слышанные им сегодня вести не давали ему, однако покоя.
Великий князь хочет развестись, чтобы жениться на другой. Детей, наследников хочет иметь, а между тем среди новгородцев многие надеялись именно на то, что я великого князя не будет прямых наследников и что железная воля московских великих князей, только что собравших в одно целое все государство, ослабеет. Братья Василия и со своими уделами плохо справляются, и кто бы из них ни сел на московский престол, власть великокняжеская непременно ослабеет. Тогда новгородцы и псковичи, сильно подавленные и предвидевшие окончательную гибель всех своих старых порядков, вздохнут снова свободнее. Эту надежду тайно лелеяли тогда многие лучшие люди в новгородских областях, не любя и боясь великого князя Василия Ивановича. Эту же надежду питали и в старобоярской партии в Москве, где какие-нибудь надменные и кичливые князья Шуйские все еще не могли примириться с самодержавием Москвы, помня свое происхождение от независимых удельных князей. Новые слухи о разводе великого князя разбивали эти надежды и обещали, что престолонаследие перейдет по прямой линии. Но молодой Колычев, раздумывая об этих слухах, успокаивал себя тем, что духовенство не позволит великому князю попирать православные законы. Полновластный и неограниченный он самодержавец во всем, но не в том, что касается церкви. До сих пор еще никто из московских правителей не рисковал нарушать ее постановления. Она со своими законами и уставами стояла покуда выше власти московских великих князей. Так было всегда, так будет и теперь.
Эти мысли немного успокоили его, и он, утомленный, усталый, скоро заснул молодецким сном.
В палатах Колычевых поднимались утром с петухами, по обычаю того времени. Уж с самого раннего утра должна была начинаться обычная работа многочисленной дворовой челяди, и во всех пристройках, окружавших барские палаты, народ обыкновенно спозаранку сновал, подобно муравьям. В конюшнях, в коровьих и свиных хлевах, в птичниках, в кладовых и амбарах, на псарне и на кухне, везде было не мало дела для всех, начиная с ключника и дворецкого и кончая простыми птичницами и скотниками.
Еще все спали, когда в одних из сеней с двух сторон появились две женские фигуры – одна женщина была еще не стара и, судя по одежде, была госпожою, другая была уже старою, и одежда ее была очень проста.
– Это ты, матушка? – спросила женщина помоложе.
Я, я, матушка боярыня! – ответила, немного шамкая, старуха и низко поклонилась боярыне. – Иду в крестовую палату, лампады да свечи затеплить. Чай, вставать пора.
– И то, пора; девушек побудить иду, – сказала госпожа. – Пока свечи да лампады затеплишь, и Степан Иванович встанет.
– То-то, то-то, родная, – заторопилась старуха. – Холопы-то наши уж поднялись… Сейчас и на молитву, придут…
Они разошлись. Боярыня Варвара Колычева и эта старуха, вынянчившая саму боярыню Колычеву и детей Колычевых, вставали прежде всех в доме. Они будили всех домашних, так как в те времена хорошие боярыни-хозяйки считали стыдом вставать позже слуг. Мало-помалу весь дом уже на ногах, и все стали собираться в крестовой комнате, наподобие часовни, сплошь уставленной образами, перед которыми уже отдернулись занавеси, затеплились лампады и свечи. Все, начиная с сыновей боярина Колычева и кончая последним его холопом, были уже в сборе, когда сюда вошел хозяин дома Степан Иванович Колычев. Поклонившись степенно на все стороны, он встал впереди всех и начал вслух читать молитву. Здесь, так как у Колычевых не было домашней церкви, он, окруженный всей семьей, обыкновенно каждый день читал вслух утренние молитвы, и в это время курили ладаном. В праздничные дни здесь читались заутрени и часы, причем присутствовавшие пели хором, но в будни довольствовались одними утренними молитвами. На работу шли после этих молитв, и всеми хозяйственными работами заведовала жена Степана Ивановича; Колычева, боярыня Варвара. И на этот раз, по обыкновению, она после молитвы, поцеловав своих ненаглядных сыновей, удалилась вместе с мужем в свои покои, чтобы переговорить с ним, как и что нужно сделать в этот день по хозяйству в доме. Прислуга тоже разбрелась по дому, чтобы приняться за обычную работу. В крестовой палате осталась только старуха-мамка, Она загасила свечи и лампады и стала задергивать застенки, бормоча:
– Господи, помилуй нас, грешных!
У некоторых икон были отдельные занавеси, все же вместе закрывались одним общим застенком. Окончи свое дело, мамушка, крестясь, вышла из комнаты, бережно затворив ее двери, и прошла в девичью, где десяти девушек уже сидели за пяльцами. Боярыня Варвара Колычева уже просматривала их работы и наскоро задавала им уроки. Увидав старуху-мамку, она обернулась к ней.
– Мамушка, приготовь кошели да что есть из съестного, чай, на дворе собрались уж за подаянием…
– Все, все, родная, приготовила, тебя только жду, – ответила старуха.
– Ну, пойдем!
Они пошли оделять нищих. Будничный день вступил для всех в свои права…
Степан Иванович был одним из близких лиц при великом князе Василии Ивановиче, как его отец был близким лицом при Иване III. Он был искренним, глубоко убежденным и бескорыстным приверженцем московского самодержавия, действовал решительно и смело, стропотные стези до конца стирая, и был исполнен ратного духа, деятельно служа самодержавной власти московских великих князей. Но всюду сияя высотою сановною, в частной жизни он мог служить примером простоты и скромности для каждого: он был прост, обходителен, нетребователен, вел трезвую жизнь, отличался строгими правилами, любил и знал священное писание. Жена его, боярыня Варвара, хотя и вела обычную теремную жизнь и проводила большую часть за вышиванием церковных воздухов и пелен среди многочисленных девушек-прислужниц, проявляла свои душевные качества в заботах о дворовой челяди, в широкой благотворительной деятельности. Уже с самого раннего утра двор колычевских палат наполнялся просителями и просительницами: разные горемыки получали здесь подаяния, бесприютные находили кров, брошенные дети призревались в доме, для больных были готовы ложе и уход, и вся эта широкая благотворительная деятельность совершалась под непосредственным наблюдением хозяйки дома. В то же время дворовая челядь была одета и обута, сыта и здорова, тогда как у других, даже очень набожных по виду бояр, челядинцы походили на нищих и часто попадались в грабежах и убийствах.
В то время как боярин Степан Иванович с утра отправился во дворец великого князя, а боярыня Варвара хлопотала по хозяйству, в одной из комнат с завешанными коврами стенами, с узкими цветными окнами, с Узорчатым дубовым потолком, с разноцветною изразцового печкой, со множеством икон в богатых ризах, полузадернутых завесою, опустился на лавку, покрытую пестрым полавочником, молодой человек лет девятнадцати и углубился в чтение рукописной книги. Подобными книгами были загромождены вся резная тяжеловесная полка у стены и весь огромный дубовый стол, у которого сидел юноша, опустив на него локти и поддерживая; голову обеими руками. Тут были, кроме священного писания, творения Иоанна Лествичника, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Симеона Нового, Григория Великого, Августина, жития святых, история Александра Великого и царей, почти вся тогдашняя библиотека русского человека. При одном взгляде на эти фолианты в темных кожаных переплетах, с серебряными и медными застежками, с закладками из широких лент и полос тафты, можно было легко догадаться, что эти фолианты читались часто и много. Нижние углы некоторых из этих книг потемнели и обтрепались, а сами книги точно распухли от частого перелистывания их страниц. Действительно, эти книги, переходившие, как самая великая драгоценность, из рук в руки, иногда из рода в род, в последнее время читались и перечитывались десятки раз в этой скромной комнате, занимаемой молодым Федором Степановичем Колычевым, старшим сыном боярина Степана Ивановича.
Этот стройный, статный, цветущий здоровьем, скромно одетый в светлый растегнутый кафтан юноша, с правильными и тонкими чертами лица, с красиво очерченными темными бровями, с вдумчивым и серьезным взглядом проникающих в душу глаз, предназначался к высокому положению при дворе. Его отец горячо желала именно этого и сообразно с этим желанием воспитал сына. Он получил высшее по тому времени образование в монастырском училище и, кроме книжного обучения, по желанию отца, занимался под руководством приставленных к нему отроков и дядек военным делом, то есть упражнялся в верховой езде на избранных и урядных конях, учился бегать, стрелять в цель из пищалей и лука, владеть копьем и саблей. Без этого не мог обойтись дворянин того времени. Из него же готовили блестящего придворного и воина, достойного преемника деда и отца. Но его тянуло, главным образом, к книжному учению, за которым он и проводил целые часы, иногда целые дни, сторонясь своих сверстников, блестящей, но разнуздай ной придворной молодежи. Он мог довольно близко познакомиться с нею и во время сбора войск под Коломною в 1522 году, и на празднествах у знакомых и родственников. Это знакомство заставило его бежать от этой молодежи, от ее пиров и разгула в тот тихий уголок, где можно было отдаться чтению книг и думать о прочитанном, о жизни, о таинственных и неисповедимых путях Господних. Когда другие знали только лицевую сторону жизни – богатство, веселье и гульбу, он присмотрелся к изнанке этой жизни, сопутствуя своей матери в посещении бедняков и вникая при исполнении отцовских поручений в быт черного народа в новгородских деревнях, где не было часто не только правды, но и насущного хлеба.
– О чем призадумался? – неожиданно раздался над его ухом вопрос.
Он поднял голову и увидал своего троюродного брата, Гавриила Владимировича Колычева.
– Читал поучения нашего владыки, митрополита Даниила. На этих днях раздобыл, – ответил Федор Колычев, вторично приветливо здороваясь и целуясь с братом, которого он уже видел на молитве. – Вот где правда. Ты послушай.
Он оживился, его бледноватые щеки вспыхнули ярким румянцем, серьезные глаза засветились огнем. Он торопливо стал передавать смысл поучений проповедника.
– Да, прав он, владыка наш, – горячо закончил юноша, выяснив своему родственнику главные мысли поучений митрополита. – Все так живут, сам я все это своими глазами видел. А так жить нельзя дольше. Нужно конец этому положить…
– Легко сказать: конец нужно положить! – проговорил Гавриил Колычев, в раздумьи ходя по комнате. – А как же жить?
– Как жить? Владыко и на это указывает. Ты слушай, – опять заговорил хозяин и стал объяснять мысли митрополита Даниила.
По мере того как он в увлечении говорил о словах митрополита Даниила, перелистывая страницы рукописного сборника и вычитывая из него некоторые места, его слушатель ходил взад и вперед по комнате, заложив руки за свой цветной пояс, и, казалось, давно не слушал его. Было видно по его лицу, что он погрузился в свои собственные думы и не особенно интересовался подробностями того, что передавал ему увлекающийся юноша-хозяин.
– Да! Он-то и не благословит на развод! – наконец проговорил вслух Гавриил Колычев, как бы продолжая думать вслух. – Это верно!
Федор с недоумением взглянул на него проницательным взглядом.
– О каком разводе говоришь? – спросил он, ничего не понимая.
– Про развод великого князя с государыней Соломонией.
– Шутки ты шутишь либо пригрезилось тебе, что не поймешь тебя, – сказал Федор, пожимая плечами.
– Ты, видно, тоже ничего не знаешь, как я не знал ничего до вчерашнего дня, – проговорил Гавриил Колычев и стал рассказывать, что слышал на пиру.
Федору Колычеву, как юноше, было вполне неизвестно все то, о чем уже давно шепталась вся взволнованная необычайною новостью Москва. С молодежью, бывшею при дворе, кутившею и беспутствовавшею, с этими отроками доброзрачными, он не якшался вовсе и не мог слышать от них придворных сплетен; старики же, с которыми он так любил беседовать, не считали возможным посвящать юношу в закулисные тайны двора и особенно в тайны такого щекотливого свойства, как развод великого князя с женою, в возможность которого не хотелось верить до конца самим этим старикам. В Москве все знали, что великий князь уже обращался по поводу своего развода и к восточным патриархам, и на Афон и получил в обоих случаях отрицательный ответ. Отрицанием же ответили князю инок Вассиан Косой, бывший князь Петрикеев, и известный своею ученостью монах Максим Грек. Славный покоритель Перми и Югры, князь Семен Федорович Курбский, ведший с давних пор постническую жизнь, не евший мяса и только три раза в неделю вкушавший рыбу, тоже резко высказался в этом смысле. Старобоярская партия вся примкнула к этим людям и в намерении великого князя увидала уже не простое проявление самодержавной воли, но посягательство светской власти на религию. При дворе великого князя знали обо всем этом, и великая княгиня Соломония вместе со своими родственниками проявляла сильную тревогу. Видя, что государь разлюбил ее, она прибегала ко всяким средствам, чтобы вернуть его любовь. Ее брат Иван Юрьевич Сабуров то и дело отыскивал и присылал к ней через свою жену Настасью женок и мужиков, которые могли бы ворожбою привлечь к ней снова любовь мужа. В те времена разные мужики и женки, разные потворенные бабы, под видом странников и торгующих людей, проникали в женские терема и обделывали самые темные делишки, особенно по части любовных интриг. Одна старая женка Стефанида, рязанка, то есть уроженка рязанская, решила после осмотра Соломонии, что у нее детей не будет, но дала ей наговорную воду. Этою водою нужно было умываться и дотрагиваться мокрою рукою до белья великого князя, чтобы вернуть его любовь. Великая княгиня исполняла приказание ворожеи, но толку не было. Тогда какая-то безносая черница дала государыне наговоренного масла или меда, приказала натирать им и уверяла, что и великий князь полюбит государыню, и дети у нее будут. Но все было напрасно, – и противоречия защитников ненарушимости церковных правил, и хлопоты государыни о ворожбе. Митрополит Даниил, ловкий угодник великокняжеской власти, дал свое согласие великому князю, а великий князь отдал в руки митрополита ненавистных последнему Вассиана Косого и Максима Грека. Среди старобоярской партии шел ропот, и такие лица, как попавший в опалу боярин Иван Никитич Беклемищев-Берсень, говорили такие речи, каких давно не слыхивали уже в покорной воле великого князя Москве.
– Ныне у вас цари басурманские и гонители, – говорил Берсень Максиму Греку, – и вам нынче от них пришли тяжелые времена, а как вы при них проживаете?
Максим сказал ему:
– Цари у нас злочестивые, а у патриархов и у митрополитов в их суд вступаются.
Тогда Берсень заметил:
– Хотя у вас цари злочестивые, а ходят так, потому у вас Бог еще есть.
Это был намек на то, что в Москве уже забыли Бога, хотя правят Москвою и не злочестивые цари.
Когда Максим спросил его, был ли он у митрополита, Берсень ответил:
– Я этого не ведаю, есть ли митрополит в Москве.
– Как митрополита нет? – сказал Максим. – Митрополит на Москве Даниил.
– Не ведаю, митрополит ли он или простой чернец, – ответил Берсень. – Учительного слова от него нет никакого, и не печалуется ни о ком. Прежние святители сидели на своих местах и печаловались государю о своих людях.
Далее Берсень жаловался прямо на нестроение, на перемену старых обычаев, на нелюбовь князя к «встрече», то есть к противоречию, на стремление все делать без советников. Все эти толки, все эти противоречия побудили великого князя отдать врагов в руки митрополита Даниила. Обо всем этом знала вся сановитая Москва; всех родовитых людей это сильно тревожило, как начало новых отношений великого князя к церковным постановлениям, как нарушение старых преданий. Но ничего этого не знал еще Федор Колычев, увлекшийся поучениями митрополита и не воображавший, что и у этого человека слово – одно, дело – другое. Услыхав рассказ Гавриила Владимировича Колычева, он горячо вступился за проповедника:
– Никогда не допустит владыка этого беззакония! И так он сокрушается, что люди на Москве не по закону живут.
– Дай Бог, дай Бог! – сказал в раздумьи Гавриил Колычев. – У нас только и надежды на то, что после смерти великого князя у него наследников не будет.
– Не в этом дело, – горячо возразил Федор Колычев, – а в том, чтобы против законов церкви государь не шел…
Интересы Новгорода его занимали гораздо менее интересов церкви, которая должна бы быть, по его мнению, неприкосновенной. Тогда как другие Колычевы были истыми новгородцами, семья Федора была предана душою московским порядкам.
– Ну, ты этого не говори! – заметил Гавриил Владимирович. – Будут у великого князя дети – останется власть в их руках, все пойдет иначе. Перейдет власть к братьям великого князя – поводья по всем статьям ослабнут и нам вольнее вздохнется, и у нас не нынешние порядки будут.
Этот разговор сильно возбудил Федора Колычева. Ему не хотелось верить, что любимый им проповедник покривит душой, что великий князь нарушит церковный закон. Человек строгой нравственности, никогда не отделявший слова от дела, он требовал того же и от людей, особенно от тех, которые поставлены выше других.
Но обстоятельства сложились так, что разочарование его было полным.
В двадцатых числах ноября, когда уже выпал снег, из великокняжеских палат, с половины великой княгини, выехал таинственный крытый каптан [9]9
каптан (или каптана) – карета.
[Закрыть]. Его сопровождали придворные боярыни. Судя по каптану, по нарядной сбруе лошадей, по многочисленной свите, было не трудно угадать, что это едет поезд великой княгини. Он направился по дороге к Рождественскому девичьему монастырю. Но великая княгиня Соломония Юрьевна ехала не на богомолье. Каптан и свита возвратились во дворец, а великая княгиня осталась в монастыре. Она не осушала глаз, зная, какая участь ожидает ее, но крепилась покуда и не протестовала.
Настало 25 ноября, и в Рождественский монастырь стало собираться духовенство. Великую княгиню вывели из ее кельи. Духовенство, с Никольским игуменом Давидом и с митрополитом во главе, близкий советник князя дьяк Иван Шигона Поджогин и еще несколько лиц из свиты великого князя окружили несчастную женщину. До этой минуты она все еще как будто надеялась на что-то, на какое-то чудо и бодрилась, но, увидав этих людей, она вдруг упала духом. Она стала горько плакать и заголосила, когда начали стричь ей волосы. Наконец, когда удалось остричь ей волосы, митрополит поднес ей монашеский кукуль. В ее душе поднялась страшная буря. Горе, гнев, обида, все перемешалось вместе в эту последнюю решительную минуту. Великая княгиня не выдержала – вскочила с места, вырвала кукуль из рук Даниила, швырнула его на землю и начала неистово топтать ногами. На минуту произошло смятение. Первым очнулся Шигона Поджогин.
– Так ты еще смеешь противиться государю и не слушать его повелений! – крикнул он, бросаясь к великой княгине, и хлестнул ее плетью.
Соломония взвизгнула от боли и в исступлении начала дико кричать:
– Как ты смел руку поднять? Кто тебе дал право меня бить!
– Государь приказал! – сурово ответил Шигона Поджогин, грозя ей плетью.
Соломония, совсем обезумевшая от оскорбления, закричала:
– Перед всеми свидетельствую, что не желаю пострижения! Не желаю! Силой на меня надевают кукуль! Пусть Господь отмстит за такое оскорбление!
Она стала биться и продолжать кричать, но ее уже не слушали и, употребляя грубое насилие, обличали в монашеские одежды, торопясь окончить внешнюю часть обряда, чтобы поскорее разделаться с насильно постриженной монахиней.
Монахини в монастыре были перепуганы и в то же время как-то присмирели. Ничего подобного до этой поры им еще не приходилось видеть. Они прятались по кельям да тихо шептали в переполохе:
– Вот дела-то!
– Ах, грехи наши тяжкие!
– И за что Господь наказывает!
Однако переполох был непродолжителен: тотчас же после пострижения Соломонии, получившей имя Софьи за ней снова приехал крытый дорожный каптан и ее отправили в Покровский Суздальский монастырь.
В Москве заговорили о предстоящей свадьбе великого князя. Невестой уже громко и смело называли княжну Елену Васильевну, дочь умершего нововыезжего князя Василия Львовича Темного-Глинского. На нее большинство бояр смотрело враждебно. Все знали, что он происходит из рода знатного, но иноземного, литовского, который, изменив литовскому королю, вскоре изменил было и Москве в лице своего главы, князя Михаила Львовича Глинского. Ее называли литвянкою, чуть на басурманкой. Все знали, что ее дядя, Михаил Глинский сидел еще в тюрьме за попытку изменнически бежать в Литву. Все рассуждали о том, что Елена привыкла к иноземным обычаям и не походит на московских женщин, держит себя свободно и независимо. Были толки и о ее горячности и вспыльчивости, хитрости и лукавства. Добра от нее не ждали.
В доме преданных великокняжескому престолу Колычевых эти новости сообщались коротко и отрывисто точно в смущении:
– Развелся государь великий князь с великою княгиней Соломонией, – мельком заметил Степан Иванович после развода государя с женою.
Боярыня Колычева только вздохнула, не поддержала разговора.
– Вчера постригли великую княгиню, – сообщил он в другой раз.
Варвара Колычева не сказала ничего и только отерла невольно выступившие на глаза слезы, отвернувшись в сторону.
– Княжну Елену Васильевну Глинскую изволил государь в невесты выбрать, – пояснил старик, когда было объявлено о свадьбе государя.
– Что ж, лишь бы Господь благословил детками, – печально сказала Колычева, и в ее голосе зазвучала какая-то безнадежность, точно она не верила, что Господь благословит такой брак.
Они понимали, что в видах великого князя было желание иметь детей, они оправдывали это желание в душе, но в то же время не могли преодолеть жалости к несчастной Соломонии, не могли примириться с тем, что совершилось богопротивное дело, и не без недоверия смотрели на невесту-иноземку, литвянку изменнического рода. Молодой Федор Степанович чутьем угадывал все это, смотря на смущение отца и матери.
Кто когда-нибудь разочаровывался в любимых и уважаемых людях, тот знает, как тяжко отзываются эти разочарования. Но они тяжелее всего отзываются в юности и особенно на тех, кому святы излюбленные идеалы, чья душа не загрязнена житейскою грязью. Чем выше в нравственном и умственном отношениях юноша, тем невыносимее для него обмануться в любимом человеке, в любимом идеале. Может быть, это первое разочарование в любимом проповеднике больнее всего отозвалось и в чистой душе Федора Колычева, когда он услыхал не только то, что Даниил утвердил развод великой княгини, но и то, что великому князю разрешено жениться. Где же уважение к церкви? Где стойкость за нравственность? Где правда? Если сами великие проповедники нравственности уклоняются от того, что проповедуют, то что же останется делать остальным людям, слепотствующим, не просвещенным божественным светом, блуждающим ощупью во мраке невежества?







