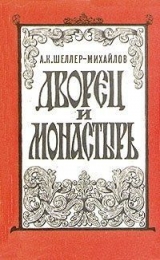
Текст книги "Дворец и монастырь"
Автор книги: Александр Шеллер-Михайлов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА V
Смотря во время пребывания в Москве на царя Ивана Васильевича, Филипп с горечью думал, что рано или поздно в этом несчастном юноше проснется снова греховный человек. Что-то неуловимое для недальновидных людей, но ясное для наблюдательного взгляда говорило, что страсти в этом странном, полном противоречий существе заснули на время, но не умерли навсегда. Их могли подавить посторонние сильные умом и духом люди, явившиеся на помощь к царю в удобную минуту, но вырвать их с корнем не могла никакая человеческая сила. Филипп не ошибся.
Тяжелое чувство проснулось в его чуткой душе, когда в Соловецкий монастырь поступили от царя сто рублей с приказанием:
– Поминать царицу и великую княгиню Анастасию.
– Отлетел в селения горния ангел-хранитель государя, – сказал со вздохом Филипп старцу Ионе. – Не жду я ничего доброго теперь для государства.
– А Сильвестр и Адашев? Они-то еще живы, – заметил Иона. – Ты же говорил, что ими он только и обуздывается…
– Они случайные люди, отче… Сегодня они, завтра другие явятся… Царь молод, женится вторично, новые любимцы приблизятся к нему…
Его предчувствие сбылось. Почти следом за известием о смерти Анастасии получилось известие о ссылке Сильвестра в Соловецкий монастырь. Филипп как громом был поражен этим известием и нетерпеливо ждал приезда в обитель знаменитого священнослужителя. Сильвестра привезли в Соловки. Он был одет в монашескую рясу. Его немного суровое лицо смотрело грустно, но было спокойно. Филипп приветливо и почтительно встретил попавшего в опалу иерея и постарался сделать все зависящее от него, чтобы старику жилось вполне спокойно в обители, чтобы он чувствовал здесь себя не узником, а всеми уважаемой личностью. Сильвестр успел уже в Москве хорошо узнать Филиппа и не был удивлен этим приемом. Беседуя теперь каждый день с Сильвестром, Филипп узнал все, что делалось в Москве.
Ссылка Сильвестра должна была быть первою вестницею новых порядков в Москве. Действительно, порядки там начались совершенно новые и такие, что даже наиболее мрачно смотревшие на все люди не могли ожидать ничего подобного. Перемена явилась слишком резкою и крутою, как все в поведении царя Ивана Васильевича было резко и круто.
Долго покорявшийся воле Сильвестра, Адашева и членов думы, молодой государь не мог вдруг освободиться от всякого постороннего влияния. Он долго верил в окружавших его людей и, может быть, не скоро утратил бы в них веру, если бы не произошло одно горькое событие – его смертельная болезнь. Это событие точно отдернуло перед глазами царя Ивана Васильевича плотную завесу, скрывавшую вполне тайные страсти, намерения и ковы окружавших его людей. Вся Москва пришла в волнение, узнав, что царь умирает.
Его за последние годы уже искренне и горячо полюбил народ, и у каждого являлись опасения насчет будущего. Кто будет царствовать? Неужели снова настанет правление бояр? Москва уже знала по недавнему опыту, как тяжела правящая рука враждующего между собой боярства. Приближенные к царю Ивану Васильевичу люди были тоже смущены этими мыслями, и один из них, царский дьяк Михайлов, смело сказал царю, что надо написать духовную. Царь, сознавая, что его смертный час близок, согласился с предложением Михайлова и велел написать, что оставляет престол своему сыну, младенцу Димитрию. Другого распоряжения не могло быть сделано, так как царевич Димитрий был законным наследником престола в качестве царского первенца. Тем не менее этого назначения было довольно, чтобы разыгрались страсти бояр и царедворцев. Захарьины-Юрьевы обрадовались, поняв, что власть попадет в их руки, как родственников царицы Анастасии. Сильвестр и Адашев со своими сторонниками, видя эту нескрываемую радость Захарьиных, испугались за отечество, предвидя, что Захарьины-Юрьевы явятся вторыми князьями Глинскими, а может быть, и похуже последних. Сын покойного князя Андрея Ивановича Старицкого, князь Владимир Андреевич, и, главным образом, его честолюбивая мать, княгиня Евфросиния, много испытавшая и горя, и унижений и предвидевшая, что ей и ее сыну придется при Захарьиных не лучше, чем при Глинских, принялись поспешно подговаривать людей на свою сторону, поясняя, что царевич Димитрий мал, а брат царя, князь Юрий Васильевич, слабоумен. Возбуждение страстей было вообще среди бояр, так как каждый из них был более или менее заинтересован в решении этого вопроса о престолонаследии. В Москве то и дело одни вельможи заезжали к другим, охали, сетовали, совещались и подозрительно смотрели друг на друга, видя один в другом врага в будущем. В самом государевом дворце произошло нечто такое, чего не бывало никогда и что сразу открыло глаза несчастному больному царю на многое. В царской столовой комнате, куда наскоро собрали бояр для присяги царевичу Димитрию, поднялись страшнейшие шум и гам.
– Не дадим присяги! – упрямо кричали одни.
– Кто смеет ослушаться государя? – с угрозой кричали другие.
– Захарьиным креста не будем целовать, – противились первые, оправдывая свое поведение. – Царевич Димитрий младенец, не он править будет. Захарьины все заберут в свои руки.
Более всех волновался князь Владимир Андреевич, наотрез сказав, что присягать не будет.
– Ослушник царев! – грозно крикнул ему князь Воротынский.
– Да смеешь ли ты-то браниться со мною? – накинулся на него князь Владимир Андреевич. – Не знаешь, кто я?
– Не браниться, а и драться с тобою смею! – закричал грозно князь Воротынский. – Я слуга государей Ивана Васильевича и Димитрия Ивановича. Не я велю присягать, а они!
Больной царь услышал этот шум, узнал, в чем дело, и смутился. Он позвал к себе бояр и стал с трудом говорить, приподнявшись на локте на своем ложе.
– Если вы сыну моему Димитрию креста не целуете, значит, другой Царь у вас есть, – начал он, – а ведь вы целовали мне крест не один раз, что мимо нас других государей вам не искать. Я вас привожу к крестному целованию, велю вам служить сыну моему Димитрию, а не Захарьиным.
Говорить ему было очень тяжело. Едва переводя дух, он тоскливо сказал:
– Я с вами говорить не могу много… Вы души свои забыли, нам и детям нашим служить не хотите, в чем нам крест целовали, того не помните, а кто не хочет служить государю-младенцу, тот и большому служить не захочет, а если мы вам не надобны, то это на душах ваших…
Он утомился, упав без сил на подушки и проговорив еще раз:
– Не могу говорить!
Первый отозвался на его слова изворотливый и хитрый князь Иван Михайлович Шуйский:
– Нам нельзя целовать крест не перед государем; перед кем нам целовать крест, когда государя тут нет?
Это была пустая отговорка желавшего выгородить себя на всякий случай придворного. Окольничий Феодор Адашев, отец царского любимца, высказался прямее и проще:
– Тебе, государь, и сыну твоему, царевичу князю Димитрию, крест целовали, а Захарьиным Даниле с братьею нам не служить; сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, а мы уж и в твое малолетство беды видали многие, сам знаешь.
Царь молчал, сознавая, что его уже считают ни за что, что его не хотят слушать. В его воображении проносились страшные картины того, что ожидает его жену и сына. Представить ужасы этого положения было легко, потому что он хорошо помнил смерть своей матери, свое сиротство. И теперь будет то же, хуже еще будет.
Отпустив ослушников и узнав, что некоторые из испугавшихся за себя бояр уже присягнули, он призвал к себе их и обратился к присягнувшим князьям Мстиславскому и Воротынскому с пугливою мольбою:
– Не дайте боярам извести моего сына, бегите с ним в чужую землю. Укройте их от врагов.
Потом сказал стоявшим тут же и совершенно растерявшимся в решительную минуту Захарьиным:
– А вы, Захарьины, чего испугались? Думаете, что бояре вас пощадят? Нет, вы у них первые мертвецы, так вы бы за сына моего и за мать его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали.
Среди бояр между тем началась смута. Никто не знал, за кого выгоднее стоять, к кому следует примкнуть. Упрекая друг друга и перебраниваясь, все князья и бояре, привыкнувшие к розни и боявшиеся друг друга, начали, наконец, один за другим присягать младенцу Димитрию. Многие из них понимали, что в случае нужды это их ни к чему не обязывает. Клятвам приходилось изменять не раз, и это смущало не многих. Но об этом им следовало подумать раньше, так как их временное упрямство раскрыло перед больным царем настоящее положение дел и подняло в душе бурю, которую успокоить было нелегко. Он прозрел.
В это время князь Владимир Андреевич и его мать подлили еще более масла в огонь: они у себя в доме раздавали жалованье детям боярским, желая подкупить их в свою пользу. Бояре, стоявшие за присягу, попрекали их, ругали, наускивали на них чернь и даже самовольно запретили князю Владимиру Андреевичу вход к государю. Москва волновалась. Во дворце произошло новое столкновение – столкновение бояр с Сильвестром, выступившим защитником князя Владимира Андреевича перед царем. Сильвестр всегда любил князя Владимира Андреевича, давно зная его за доброго и мягкосердечного человека, которого горячо любили все близко стоявшие к нему люди. Сближение знаменитого иерея с князем Старицким произошло ранее даже того времени, когда Сильвестр явился перед царем. Все это знали и теперь считали проповедника пособником князя, а значит, и противником царевича Димитрия, Анастасии и Захарьиных. Заступничество за князя Владимира со стороны Сильвестра показалось подозрительным, а в том числе и самому царю. Бескорыстной любви к отечеству, бескорыстному заступничеству за кого бы то ни было тогда не верил никто, так как всеми руководили прежде всего корыстные расчеты. Однако на этот раз все обошлось внешним образом мирно. Большинство не придало этой истории того значения, которое она должна была иметь впоследствии. Царь Иван Васильевич ничего не забывал.
Глубоко запали в его душу все эти сцены мятежа, показавшие ему, что его жена и его сын подвергались бы горькой участи после его смерти, что и его власть в сущности призрачна. Но он не подал никому и вида, что он по-старому стал ненавидеть крамольников-бояр. Нужно было быть очень тонким наблюдателем, чтобы по разным мелочам уловить происшедшую в царе перемену. Он тотчас после выздоровления собрался ехать по обещанию на богомолье, в Кирилло-Белозерский монастырь.
– Не езди, государь, – уговаривали его приближенные, опасавшиеся за его здоровье. – Не совсем ты оправился еще, а путь тяжел и далек. Как бы не занедужил снова…
Но царь Иван Васильевич теперь особенно упорно и строптиво настаивал на своем, точно желая упрямством доказать свою самостоятельность. По дороге он заехал к Троице-Сергию, и здесь снова начали его отговаривать от дальнего путешествия. У Троицы-Сергия жил Максим Грек, уже в сущности прощенный, но не отпускаемый по чисто политическим соображениям на родину. Царь должен был зайти в его келию, и потому бояре уговорили Максима Грека тоже посоветовать царю отложить богомольное путешествие. Максим Грек стал говорить с царем в этом духе. Царь понял, по чьим советам действует Максим Грек, и опять заупрямился. Разговор принял даже несколько резкий характер, и Максим Грек сказал пророчески царю:
– Поедешь – сына потеряешь!
Царь рассердился.
– Чем пугаешь! В животе и смерти Бог волен, – сказал он, выходя из келий.
Он настоял на своем, как бы доказывая этим, что его никто не переломит, если он на что-нибудь решился.
По дороге в Кирилло-Белозерский монастырь он заехал в Песношский монастырь, где жил теперь бывший коломенский владыка и любимец великого князя Василия Ивановича Вассиан, сильно пострадавший от бояр после смерти великого князя. Честолюбивый и обиженный боярами, старик был очень обрадован встречей с царем, зашедшим в его келию. Государь заговорил с старцем о временах своего отца.
– Добрые были времена, – со вздохом сказал Вассиан, и в его старческом голосе зазвучали злые ноты. – Ни смут, ни мятежей не было. Государь великий князь, родитель твой, государь, сам все дела ведал… От бояр встречи не терпел, а что задумал, то своим дьякам приказывал исполнять. Да, добрые были времена! Не то потом было…
Он снова тяжело вздохнул.
– Ох, ох, солоно пришлось русским людям от боярского правления, – продолжал он. – Никто добром того времени не помянет. У иного и по сю пору раны телесные и сердечные не зажили и болят, и ноют…
Он искоса посмотрел на оживившееся лицо царя, кивавшего ему в знак согласия головою. Когда старик замолчал, царь не выдержал и начал жаловаться на претерпенные им от бояр обиды во время его сиротства. Это была любимая тема разговоров царя, но теперь жалобы вышли особенно страстными. Вассиан, умный, наблюдательный, воспитанный в школе придворной жизни времен великого князя Василия и митрополита Даниила, хорошо читал в людских сердцах. Он слушал и понимал, какая страшная ненависть кипит в душе молодого царя против бояр. Царь, наконец, умолк на минуту и потом резко спросил:
– Как лучше править, отче, чтоб бояр держать в повиновении?
Злобный и мстительный Вассиан обрадовался этому вопросу, склонился к уху царя и прошептал:
– Коли хочешь быть истинным самодержавцем – не держи около себя никого мудрее тебя самого: ты всех лучше. Коли так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве и все у тебя в руках будет, а коли держать станешь около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться.
Царь схватил руку старца, прижал ее к губам и воскликнул:
– Если б отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего!
Эта минута вознаградила Вассиана за многое, и он злорадно думал о том, что ему удалось в эту минуту отмстить многим.
Царь Иван Васильевич вышел из его келий с сияющим лицом, точно получив откуда-то свыше разрешение мучивших его душу сомнений.
Началась при дворе глухая борьба. Захарьины-Юрьевы вооружили царицу Анастасию против Сильвестра и Адашева. Она, богомольная, мягкосердечная, нищелюбивая, но не отличавшаяся ни сильным характером, ни ярким умом, сама начала видеть в них своих противников, и, может быть, впервые в этой мягкой, безмятежной душе пробудилось мелочное мстительное чувство. При дворе ходили уже слухи, что она, как царица Евдокия, хочет извести Златоуста, то есть Сильвестра. Кто распускал эти слухи – хитрые ли приверженцы Захарьиных или неумелые приверженцы Сильвестра, – этого никто не знал, но приписывались эти слова самому Сильвестру и вооружали против него еще более царя и царицу. Начались первые трусливые попытки к бегству. Задумали бежать в Литву князья Никита и Семен Ростовские, князья Лобановы и Приимковы. За подобные попытки наказывали страшно. Однако в настоящем случае наказание было смягчено. Сильвестр с митрополитом Макарием и владыками избавил виновных от смертной казни и сосланного на Белоозеро князя Семена Ростовского держал в великом береженьи, как жаловался царь Иван Васильевич. Произошла размолвка с Сильвестром и из-за ливонской войны, от которой Сильвестр отговаривал царя, что страна и без того сильно истощена. Дело дошло до того, что Сильвестр счел нужным удалиться в монастырь, а Алексея Адашева отправили на войну, как в почетную ссылку. В это время заболела царица. Во время ее болезни вспыхнул новый пожар в Москве на Арбате. Она сильно перепугалась, ее вывезли из Кремля, а 7 августа 1560 года ее не стало.
Страшно бился и рыдал царь, провожая ее гроб. Необузданный в радости и в горе, в любви и ненависти, он не знал в отчаянии, что начать. Окруженный близкими людьми, он вернулся из церкви во дворец и не знал, что делать, точно для него со смертью жены погибло все.
– Да, государь, ты вот убиваешься тут с ними да глаз не осушаючи плачешь, а злодеи, поди, радуются, своего добившись, – заметил один из Захарьиных.
– О каких злодеях говоришь? – спросил царь.
– Сам знаешь, государь, кто нашу возлюбленную царицу к Евдокии приравнивал, что Златоуста извести хотела…
Кто-то проговорил:
– Чародейством тебя подчинили воле своей, чародейством, может быть, и государыню извели…
Царь ничего не возразил. Внутри у него все горело, и он, утоляя внутренний жар, осушал кубок за кубком. Приближенные продолжали разговор на ту же тему.
– Простой человек не мог бы так-то забрать все в руки. Не то что государевы дела ведали, а и сам государь и пить, и есть должен был, как они изволят. Чародейством да колдовством только и добились своего.
Царь очнулся от тяжелых дум и мрачно проговорил:
– Суд и на чародеев есть!
– Суд! – воскликнул один из присутствующих. – Да они одним взглядом околдовать могут человека. Ты вот их судить станешь, а они тебя околдуют змеиными взглядами да чарами, и станешь делать то, чего они потребуют…
– Таких-то и к ответу призывать нечего, – послышался совет. – Вина их налицо. Не хуже прежних бояр дела делали.
Со всех сторон послышались обвинения, благо удрученный горем и жаждавший мести царь не возражал. Провинностей за Сильвестром и Адашевым было много. Связали они царя по рукам и ногам. Пить и есть приказывали в меру. Давали советы, как царь с женой должен жить. Не допускали излишнего веселья, называя его распутством. За князя Владимира Андреевича стояли против царевича Димитрия. Перебежчиков миловали и в великом береженьи держали. Не хотели креста целовать царевичу Димитрию.
– Видеть их не хочу! – крикнул внезапно царь, ударив по столу кулаком.
– Погоди, государь, вернутся еще, если не осудят их, – раздались голоса.
– Ну, и осудить! – решил царь. Этого только и ждали.
Наряжен был заочный суд над Сильвестром и Адашевым. Оправдываться обвиняемых не допускали, так как их обвиняли в колдовстве и продолжали утверждать, что они одними взглядами могут снова подчинить своей воле царя. Сильвестра сослали в Соловецкий монастырь, Адашева в Дерпт, где он вскоре и умер. Один из видных членов Адашевской партии, князь Андрей Курбский, бежал в Литву. В Москве начались оргии и казни. Несмотря на печаль царя, бояре и духовные особы тотчас посоветовали ему:
– Ты, государь, молод, жену тебе нужно искать! Мертвой слезами не воскресишь, а свое здоровье потеряешь.
Царь согласился, и уже на восьмой день после смерти Анастасии вопрос об отыскании невесты был решен. Слезы разом прекратились, начались попойки. Теперь некому было обуздывать разнузданные страсти царя. Напротив того, приближенные его делали все возможное, чтобы споить его и завлечь в разврат. Они надеялись, что это облегчит им возможность обделывать свои темные дела. Вместе с пирами пошли и казни. Царь казнил всех, кто казался ему близким к его прежним опекунам, как он называл думных бояр, и старался затопить свое горе в разгуле среди новых любимцев, боярина Алексея Басманова и его сына, красавца Феодора, князя Афанасия Вяземского, Василия Грязного, Малюты Скуратова-Бельского.
Среди шумных оргий несчастным царем проливалась нередко кровь неповинных ни в чем людей.
Однажды царь Иван Васильевич, окруженный своими новыми любимцами, шел в церковь. Когда он вышел на Красное крыльцо, перед ним предстал какой-то человек в дорожном наряде, по виду челядинец. Он, сняв с головы колпак, сделав земной поклон, протянул к царю руку со свитком и промолвил:
От господина моего, твоего изменника, государь, от князя Андрея Курбского.
Это был единственный бежавший с князем Курбским слуга Василий Шибанов. Царь изменился в лице, гневно взглянул на посланца и с яростью ударил его в ногу остроконечным железным посохом. Кровь брызнула из ноги несчастного и темной струей потекла по каменному помосту. Шибанов не изменился даже в лице и молчал. Царь налег на посох и приказал читать письмо изменника-князя.
«Царю, от Бога препрославленному, паче же в православии пресветлу явившуся, ныне же, грех ради наших, сопротив сим обретшемуся, – писал князь. – Разумевай да разумеет, совесть пракоженну имущий, якова же ни в безбожных языцех обретается! И больше сего о сем всех по ряду глаголати и не попустих моему языку: гонение же ради прегорчайшаго от державы твоея, от многия горести сердца потшуся мало изрещи ти. Почто царю! Сильных в Израили побил если? И воевод от Бога данных ти, различным смертям предал еси? «И победоносную кровь их во церквах Божиих, во владыческих торжествах про-лиял еси? И мученическими кровями праги церковные обагрил еси?»…
Чем далее читалось это послание, тем сильнее становилась ярость царя, никогда не слыхавшего такого резкого языка, таких горьких упреков, какие были здесь. Укрывшийся в Литву князь мог безнаказанно говорить царю все, что думал. Ответчиком за него являлся только его верный и покорный холоп, а не он сам. Как только кончилось чтение этого длинного послания, царь вытащил жезл из ноги Шибанова и приказал пытать этого мученика-раба. Шибанов ничего не сказал про своего господина, кроме похвал ему. Не добившись ничего истязаниями княжеского холопа, царь написал в ответ князю Курбскому длинное и витиеватое письмо, где излилась вся его злоба на бояр, опекавших и утеснявших его. Рядом с жалобами на свою долю шли ругательства на князя и его единомышленников. «Иуда», «собака», «аспид» и тому подобные выражения так и сыпались в этом письме. Все, что осаждалось в душе царя много лет, вылилось теперь наружу. Но, может быть, самым горьким и самым метким укором в письме царя было то место, где царь упрекнул князя за его измену, указав ему на пример его собственного слуги Шибанова, посланного заведомо, на мученическую смерть и оставшегося верным своему господину-предателю.
Зверства в Москве усилились еще более после этого. Иногда казнили почти ни за что и глумились над жертвами. Раз в Столовой палате государя шел пир. В числе других был призван на пир князь Михаил Репнин. В половине пира общество было уже пьяно, все понадевали маски и начали петь и плясать. Царь тоже плясал в маске среди своих собутыльников и шутов. Ничего подобного не делывалось в старые годы. Князь Репнин не вытерпел этого самоунижения государя и со слезами на глазах сказал ему:
– Недостойно христианского государя такое дело! Царь, ничего уже не понимая, засмеялся пьяным смехом и стал принуждать князя Репнина:
– Веселись и играй с нами!
Он взял маску и, едва стоя на ногах, стал силою надевать ее на князя. Тот вышел из себя от этого оскорбления, схватил маску, бросил на пол и в негодовании растоптал ее ногами.
– Не мне творить это безумие и бесчиние! – воскликнул Репнин. – Не мужу совета государева!
– Как ты смеешь ослушиваться? – кричал царь Иван Васильевич. – Что я велю, то и делай!
Он обратился к своим приближенным:
– Гоните мятежника в шею!
На князя набросились и вытолкали его вон из Столовой палаты.
Царь был в ярости и решился наказать ослушника.
Дня через два князь Репнин отправился в церковь ко всенощной. Он вошел в храм, прошел к алтарю и стал молиться. Началось чтение Евангелия. Вдруг в церковь ворвались какие-то вооруженные люди и при всем народе набросились на князя и убили его на месте. Это были посланцы царя Ивана Васильевича. Всех присутствующих охватил ужас, до того необычайно было это явление.
В это время князь Дмитрий Овчина-Оболенский, племянник покойного любимца княгини Елены, сильно поссорился с любимцем царя, Феодором Басмановым. Слово за слово ссора перешла, как обыкновенно бывало в то время, в простую грубую перебранку и всякие попреки.
– Ты служишь царю гнусным делом содомским, – сказал он и тут же похвалился своей родовитостью: – а я, происходя из знатного роду, как и предки мои, служу государю на славу и пользу отечеству.
Басманов, как мальчуган, разревелся и побежал в слезах в опочивальню царя. Царь встревожился, увидав плачущего любимца.
– Что? Кто посмел обидеть? – стал он допрашивать плачущего.
– Князь Овчина… Митька… – сквозь слезы пожаловался Басманов. – Попрекать вздумал… при всех поносил…
– Да перестань же, – уговаривал его ласково царь. – Ну, полно! Говори толком, чем обидели.
Басманов рассказал все. Царь Иван Васильевич утешал его, говоря с угрозой о князе Овчине:
– Плюнь ты на него, Федя, плюнь! Мы ему еще отплатим за это! Увидит, как кто нам служит!
Однако вместо изъявления опалы князя Димитрия Овчину-Оболенского милостиво пригласили к царскому столу.
Царь, после многих выпитых чаш, приказал подать ему большую чашу вина и сказал:
– Осушай, князь, одним духом! За мое государево здоровье!
Князь не мог выпить и половины, поперхнулся и закашлял.
– Не могу, государь, – с пьяной улыбкой пробормотал он и стал отирать выступившие на глаза слезы. – Подавился совсем…
– Так вот как ты государю здоровья желаешь! – с усмешкой воскликнул царь и шутливо прибавил: – Не захотел пить здесь, так иди же в погреб, там вина много разного. Напьешься там за мое здоровье!
Князь поклонился, едва стоя на ногах. Его повели со смехом в погреб.
– То-то, князь, напьется вволю, – говорили ему. – В государевых погребах всяких заморских вин много.
Князь улыбался улыбкой пьяного человека. Однако едва он переступил порог погреба, как его повалили на пол и стали душить.
На следующий день царь послал в дом князя Овчины-Оболенского пригласить его к себе.
– Да князь еще вечор ушел к государю, – отвечала княгиня. – Домой еще не возвращался.
– Да как же государю-то отвечать мы будем? – говорили посланцы царя, едва сдерживая смех.
– Я уж и ума не приложу, где запропал князь, – говорила тревожно княгиня.
– Экая беда! – рассуждали царские собутыльники, удаляясь из дома князя Овчины.
Царю принесли ответ княгини, и он заливался смехом с Басмановым над сыгранной им шуткою.
Казням, казалось, не предвиделось теперь и конца.
Донеслись слухи обо всем этом и до Соловецкой обители, приходившей теперь в частные сношения и с Новгородом, и с Москвою. Тяжело отозвалось в сердцах Филиппа, Ионы и Сильвестра каждое новое известие о том, что делается в Москве.
Эти три человека близко сошлись между собою. Их образ мыслей, их взгляды на вещи, их жизнь, все способствовало из сближению.
– Что же дальше-то будет? – каждый раз, получив новые известия, спрашивали они. – И ума не приложить!
Иногда, горюя о новых порядках и глубоко скорбя о несчастном царе, Сильвестр высказывал свои взгляды на общественные дела, выяснял, к чему он стремился и что завещал русским людям. Говорил он со свойственной ему простотой и поразительной ясностью.
– Не хотят люди понять, что все мы братья, – толковал он. – Как свою душу следует любить, так следует слуг своих да всяких бедных кормить. Должны хозяин и хозяйка всегда наблюдать, расспрашивать слуг и подчиненных об их нуждах, еде и питье, об одежде и всякой потребе, скудости и недостатке, обиде и болезни. О них пеклись, как о родных, следует…
Филипп, слушая эти слова, с умилением вспоминал свою светлую юность, страстное увлечение проповедями митрополита Даниила. Но у Сильвестра взгляды были человечнее, шире, яснее, и притом здесь уже не было противоречия между словом и делом. Это был человек цельный и не столько книжник, сколько практик. Его радовало особенно сильно осуществление известных его идей и на практике. Он с искренним наслаждением рассказывал:
– Я не только своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства да на свободу отпускал. Все наши рабы свободны и живут добрыми домами, а домочадцы наши свободные живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирых и убогих мужеского и женского пола и рабов и в Новгороде, и в Москве я вскормил и вспоил до совершенного возраста. Выучил тоже, кто к чему был способен, грамоте, писать, петь, иконы писать, рукоделию книжному, торговле. Жена тоже учила девиц домашнему хозяйству да работам женским. И Бог благословил увидеть всех тех людей в достатке, хорошими работниками.
Этот истинный христианин мог служить образцом для каждого человека и сильно опередил свой век, не будучи ни аскетом, ни приверженцем монашества. Он был сам женат и проповедовал брак, прибавлял при этом, что каждый муж должен быть безусловно верен своей жене, также как и жена должна знать только мужа.
Излагая Филиппу и Ионе свои человечные взгляды на частную и государственную жизнь, Сильвестр часто сокрушался, что теперь в государстве все пошло иначе, чем при нем и при Адашеве. В то же время он жалел, что царство находится не в руках князя Владимира Андреевича. Каждая новость из Москвы поражала горем этих трех выдающихся представителей всего хорошего в тогдашнем обществе. Особенно тяжко было Филиппу. На душе и без этих новостей теперь было особенно не сладко.
Друг и любимый наставник Филиппа духовник Соловецкой обители Иона отходил тихо в вечность. Его предсмертные часы походили на его жизнь: они были тихи и невозмутимы; он не выражал нетерпения при виде, как медленно тянутся они, и в тоже время не тревожился мыслью, что вот-вот угаснет его жизнь. Наработавшись за день над устройством обители, над постройкой храма, Филипп, утомленный работой, но бодрый духом, проводил ночь у одра умирающего. Здесь в небольшой келий при мягком свете лампады много передумывал невеселых дум настоятель монастыря. Старец Иона, с любовью глядя на своего любимца, спокойно и ровно говорил о своей близкой кончине.
– Да, блажен тот, кто может тихо и мирно перейти в вечность, – с вздохом замечал Филипп.
– Еще счастливее тот, друже, кто пострадает за правое дело и примет венец мученичества, – пророческим голосом отвечал старец.
Филипп тяжело вздыхал и задумывался о будущем.
– Окончить бы дело, храм бы достроить, тогда и я умер бы спокойно, – раздумывал он.
– Будущее, друже, знает один Господь Бог, – замечал старик. – Не унывай только и будь тверд, что бы ни ждало тебя. Здесь все мимотечно: и радость, и горе, и утехи, и страдания. Кто понял это, того ничто не смутит – не опьянит счастие, не пригнетет страдание.
Умирающий забывался тихим сном, а Филипп продолжал бодрствовать около его ложа, прислушиваясь к слабому дыханию больного. Кругом все спало, все затихало, и только плакали вечно бодрствующие чайки да где-то далеко шумело вечно немолчное море своим безрадостным шумом…
Как давно было то время, когда юного Федора Колычева смутила первая попытка великого князя нарушить церковные предания и когда он горевал о доле насильно постриженной великой княгини Соломонии! Теперь игумен Филипп не успевал возмущаться известиями о разных святотатствах, вроде убийства князя Репнина в храме, и оплакивать павших под мечами убийц и палачей. Чего же смотрят духовные отцы?
Горькие думы об этом отгоняли сон от глаз Филиппа, и он бывал рад, когда мог забываться от них среди дневных хлопот и работ. В одну из таких ночей старец Иона уснул навсегда, вздохнув в последний раз сладким вздохом, как вздыхают утомленные люди, погружаясь в желанный сон. Несколько минут просидел над ним Филипп в глубоких думах, всматриваясь в черты лица святого подвижника…







