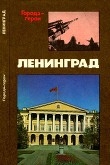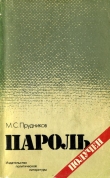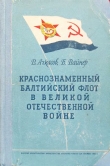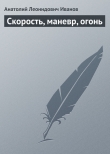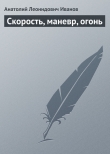Текст книги "Серая шинель"
Автор книги: Александр Сметанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Надеюсь, друг ты мой, поймешь меня, так как хорошо знал Петю, и простишь, если я обидела чем-то нашего Тимофея Тятькина. Ответы я, конечно, шлю ему регулярно, быть может, не такие, какие он ждет.
Сообщаю тебе, что мне сделали очень удобные ортопедические (шьется такая обувь для инвалидов) ботинки, и я хожу, почти не хромая.
Думаю, мне удастся убедить товарищей из военкомата рекомендовать меня на санитарный поезд.
О себе, Сережа, друг мой хороший, пожалуйста, напиши…»
Куда уехала Галя? Конечно, в Ленинград. Ведь блокаду еще зимой прорвали, и теперь, я читал в газетах, туда уже ходят поезда.
А Полине, ставшей мне таким дорогим человеком, я отвечу сегодня же. Постараюсь написать в письме все, что произошло со мной за эти полтора месяца со времени отъезда с Урала.
Впрочем, для начала постараюсь перебрать в памяти все события этих дней для себя. Систематизировать их, мысленно записать в дневнике, который все время собираюсь вести, хотя знаю, что начальство дневники не одобряет.
– Ты как знаешь, Серега, а я, пожалуй, искупаюсь. – Семен бодро вскакивает, начинает снимать гимнастерку. Но едва он потянул ее за воротник через голову, как гимнастерка с треском лопнула на лопатках, и ворот с грязным подворотничком остался в руки Сомина.
– Перепрела, сердешная. – Семен сокрушенно качает головой, садится опять, но ненадолго.
Внезапно земля вздрагивает, тишина раннего утра с грохотом раскалывается, на многие километры, насколько может видеть глаз, справа и слева от нас тысячи минометных и орудийных стволов начинают изрыгать языки огня.
Но вот, заглушая их канонаду, подают свой голос «катюши», и сотни знакомых оранжевых комет устремляются на запад. А следом за кометами, словно пытаясь до гнать их, туда же, на запад, косяками идут штурмовики.
Они появляются так внезапно и так низко над землей что я инстинктивно прячусь за дерево, потом, устыдившись своего поступка, выскакиваю на полянку и машу летчикам руками: давай, мол, соколики, давай, не всё им нас утюжить!
Выше штурмовиков, озаренные лучами пока еще не заглянувшего к нам солнца, летят бомбардировщики. Они идут на запад строгими треугольниками девяток, величественные и грозные в своей силе.
И я радуюсь, радуюсь, радуюсь, что в наступление идут наши, что у нас так много самолетов, орудий, танков, «катюш», снарядов, мин, что все это движется на запад и отступать мы больше не будем. Мы уперлись, как сказал старшина Лобанок. Жаль, он не видит всего этого.
Когда грозный вал наступления начинает медленно откатываться туда, в сторону нашей безымянной, я опять сажусь под иву, и обняв руками колени, смотрю вслед ползущим по пригоркам нашим танкам.
Мне очень хочется побежать за ними следом. Нет, не в атаку. Уже находился за эти дни. Хочется добежать до безымянной и посмотреть бой с гребня, как бы издали. Вроде командарма, который смотрит на атакующие цепи его армии в бинокль или стереотрубу.
Приказывают строиться. В командование батальоном вступает капитан Пугачев. Не приведи господь, если навсегда. Всего в батальоне нас осталось человек тридцать. Было, я знаю, перед началом наступления немцев, больше трехсот.
Назаренко стоит рядом со мной, угрюмо смотрит на свои рыжие ботинки.
– Бат-тальон, равняйсь! – скрипуче командует капитан. – Смирно! Нап-право! В тыл, на отдых, ш-шагом ар-рш!
Иду в строю, а сам вспоминаю… Итак…
Школа старшины Лобанка
Начну по порядку. Танкистом я не стал. Пулеметчиков в экипаже танковой бригады, в которую мы прибыли на пополнение, оказалось предостаточно и я вновь без большого, правда, сожаления оказался в пехоте.
Наш стрелковый батальон стоит недалеко от Нового Оскола, в большом, пощаженном войной селе, а пулеметная рота, в которой я отныне числюсь наводчиком «Горюнова», или «станкача», как любит говорить старшина Лобанок, наш командир взвода, располагается в двух саманных хатах. Хозяйка нашей хаты и ее дочь живут здесь же. Да и питаемся мы с ними вместе, кто чем богат.
Командир нашего расчета – сержант Назаренко. Ему около тридцати. У сержанта широченные плечи, здоровенные пудовые кулаки и туловище, непомерно длинное по сравнению с ногами. Судя по всему, силой его господь бог не обидел, а вот красотой определенно обошел. Он матершинник, не прочь поорать, но я не помню случая, чтобы где-либо кому-либо сержант сделал пакость.
Кроме него и меня в расчете еще двое: красноармейцы Реут и Умаров. Имя нашего Умарова труднопроизносимое, и мы попросту: зовем его Мишей. Он подносчик патронов, славный парень, родом ил Узбекистана. А вот Реут…
Не только я, наводчик, не могу понять своего помощника Реута, но даже и сам сержант.
Красивый и сильный, с черными глазами, лет двадцати с небольшим, он ничего не рассказывает про себя. А что записано в его хранящихся в штабе документах, никто из нас не знает. Назаренко полагает, что Реут, наверняка, откуда-то с юга, что людей такого типа в Сибири он не встречал. Когда я однажды сказал Реуту про это, тот лишь усмехнулся и заметил, что фантазия у нашего сержанта бедновата, и с его знаниями психологии нечего копаться в человеческой душе.
Чем от нас всех сильно отличается Реут (его зовут Иннокентием), так это тем, что всегда имеет курево, сухари или хлеб в вещмешке и свежее молоко во фляжке. Где, а главное, когда он достает такие дефицитные вещи, мы тоже не знаем.
День учебы для нас начинается с выхода на берег реки, где занимаемся материальной частью, тактикой и огневой подготовкой. На невысоком, но обрывистом берегу мы сначала отрываем пулеметные площадки, маскируем их, потом занимаем, выдвигаясь на позицию ползком, под «огнем» противника. Пулемет в таких случаях мы толкаем впереди себя, «тачкой».
Делать это приходится двоим: Реуту и мне. Но Реут, несмотря на недюжинную силу, не хочет, по его словам «грязной тачкой руки пачкать». И чтобы занять позицию к назначенному Лобанком времени, мне приходится не сладко. Ехидно улыбаясь, Реут говорит:
– Давай, лапоток (все, кроме него, во взводе – лапотки), старайся. Авось нашивки на погон заслужишь…
Я посылаю его куда, на мой взгляд, следует, но Реут лишь смеется ехидно, с наслаждением щуря выпуклые цыганские глаза. Эх, если бы я был малость посильнее! Честное слово, он не смеялся бы так. Я бы отучил его.
Едва успеваем занять позиции и открыть огонь по атакующему «противнику», то фланговый, то косоприцельный, то кинжальный, как старшина Лобанок дает команду «Отбой», возвращает нас в исходное положение и все начинается снова.
Мы опять (но уже на другом участке местности) получаем задачу поддержать огнем наступление стрелкового взвода, опять то перебежками, таща пулемет на себе, то ползком, толкая его «тачкой», выдвигаемся на указанный старшиной рубеж, до восьмого пота пыхтим, отрывая окоп, оборудуем пулеметную площадку, определяем расстояния до ориентиров, «пристреливаем» их, делаем десятки разных солдатских дел, не предусмотренных наставлениями или инструкциями.
Но без них, этих дел, немыслима повседневная армейская жизнь. Важно, чтобы выполнялись они всеми и всегда, с толком и на совесть.
Когда старшина Лобанок замечает, что весь взвод, включая сержантов, едва держится на ногах, он прекращает практические занятия и предлагает перейти к теории. Теория у него одна и та же.
– Итак, что такое пулемет? Пулемет – это все! Он – главное оружие пехоты. А если учесть, что пехота – это тоже все, значит, главнее пулемета оружия на войне не бывает.
Лобанок берет принесенную для такого случая длинную палку с заостренным концом и начинает чертить на земле условными знаками тактическую обстановку. Один за другим появляются танки, обозначенные хилыми ромбиками, станковые пулеметы, условные знаки которых напоминают мне летящих уток, цепи идущей в наступление пехоты.
Из уроков старшины мы давно усвоили, что наступающие немцы (танки, артиллерия, пехота) в первую очередь стараются уничтожить наши пулеметы, так как пока пулемет ведет огонь, пехота не прорвется на этом участке даже на брюхе.
Первая задача, по разведданным, имеющимся в распоряжении Лобанка, которую получают экипажи вражеских легких и средних танков, – это уничтожить наши пулеметы, чтобы они своим огнем не отрезали идущую следом пехоту. Потому как без нее танк далеко не уйдет.
То же самое и у вражеских артиллеристов. Каждая наша пулеметная точка, если она плохо замаскирована или чем-то до времени выдала себя, становится для них целью номер один. С началом артиллерийской подготовки они будут из кожи лезть вон, чтобы уничтожить ее.
– Какой вывод напрашивается из всего сказанного? – Старшина поочередно обводит нас взглядом и, не дожидаясь ответов, говорит: – А такой, что пулеметчиком может быть только отчаянной храбрости человек.
И здесь старшина обязательно приведет пример с Чапаевым, который одним пулеметом отразил атаку белых, когда его бойцы дрогнули и побежали вон из села.
Лобанок приводит нам пример с Чапаевым не первый десяток раз, но делает это так, как будто слышим мы о Василии Ивановиче впервые.
– Погодь, старшина, – как-то прервал его повествование о Чапаеве Назаренко, – ты ведь сам пулеметчиком два года воюешь. Рассказал бы что-либо о себе. Медаль ведь имеешь…
Наш взводный нахохлился, с укоризной взглянул на Семена, потом сказал:
– Я не Чапаев, а Лобанок. Про себя детишкам после войны расскажу.
Каждое занятие по теории тактической подготовки заканчивается одинаково: Лобанок заставляет нас поочередно повторять, какие задачи выполняют станковые пулеметы в бою, почему немцы стараются в первую очередь уничтожить пулеметы, какими качествами должен обладать пулеметчик, чтобы успешно выполнять свои задачи.
Когда мы все, кроме командиров расчетов, ответим на заданные старшиной вопросы, он объявляет перекур, после чего приступаем к огневой подготовке.
Для меня это хуже каторги, потому что придется самому заниматься с Реутом, обучать его правилам наводки пулемета в цель и ведения огня. Беда в том, что Реут не хочет учиться тому, чему обязан. Пока Назаренко находится рядом с нами, Кеша еще как-то слушает мои объяснения, но стоит сержанту отойти, как он заваливается на спину, раскидывает руки в стороны и блаженно закрывает глаза.
Сегодня все повторяется. Я начинаю:
– …чтобы навести пулемет в цель, нужно правой рукой поднять прицельную рамку и установить прицел. Для чего, нажав большим пальцем правой руки на защелку хомутика…
– …и наложив указательный палец на маховичок целика, – продолжает Реут, – передвинуть хомутик по прицельной рамке… Знаю я это, уже запомнил, о великий и мудрый учитель Кочерин! Отдохни, зря стараешься. Все равно из меня наводчика не сделаешь. Не хочу!
Реут, стрельнув глазами по сторонам, убеждается, что Назаренко ушел к командиру взвода, отползает в сторону и укладывается покимарить. Это окончательно выводит меня из терпения.
– Нет, Реут, не выйдет! Сегодня я заставлю тебя не только повторить правила наводки, но и проделать все это практически.
Реут приоткрывает один глаз, видимо, решив, что смотреть на меня двумя – много чести, и со вздохом говорит:
– Ну вот, между мной, красноармейцем Реутом, и Верховным Главнокомандующим встал еще один начальничек – Сергей Кочерин. Не буду я вам подчиняться, ваше сопленосие, товарищ Кочерин. Идите вы…
– Нет, будешь, Реут, будешь!
Я вскакиваю, подбегаю к Кошке, хватаю его за под мышки и волоку к пулемету. – Я заставлю тебя, Реут, заставлю. Через день, другой нам идти на фронт, и там…
Реут не сопротивляется. Это даже странно. Одним ударом он мог бы отбросить меня до самого пулемета, а вместо того, буксируемый мной, он ропотно едет к нему на ягодицах.
– Ты не договорил, лапоток, что значит «там»? – спрашивает Кешка, когда я наконец опускаю его на землю у правого колоса «станкача».
– Там, Кешка, меня может ранить или даже убить. И Назаренко – тоже. Кому тогда стрелять из пулемета? Только тебе. Пойми ты это.
– А если я не хочу стрелять?
– Грязной тачкой руки пачкать?
– Допустим. Не хочу и все…
– Мне кажется, Реут, ты просто трус.
– Если я сейчас вышибу твой правый глаз, – сплюнув, говорит Реут, – рота лишится лучшего наводчика. А это уже есть нанесение ущерба боеспособности батальона и уголовно наказуемо. Ладно, так и быть, прощу тебе очередное оскорбление. От начальников всегда приходится терпеть.
Не знаю, чем бы закончилась наша перепалка, если бы не пришли Назаренко и Умаров.
Реут, я замечаю, боится сержанта. И не потому, что Семен – командир, нет. Кешка знает, что сержант физически гораздо сильнее его, что в кулаках, похожих на увесистые кувалды, насаженные на длинные рукоятки, скрыта гигантская сила, знакомство с которой не сулит ему ничего хорошего.
– Будем тренироваться в стрельбе по воздушным целям, – объявляет Назаренко. – Расчет, становись!
Сержант взмахом руки показывает, где нам следует становиться, и когда мы выполняем команду, продолжает:
– «Горюнов» – машинка хорошая. В отличие от «максима» его станок приспособлен для стрельбы по самолетам. При установке пулемета на колесном станке для стрельбы по воздушным целям необходимо: наводчику отделить тело пулемета от станка. Помощнику наводчика… Реут, слушай, тебя особенно касается. Помощнику наводчика левой рукой освободить стопорный болт зажима вертикальной наводки…
До обеда мы тренируемся в стрельбе из «Горюнова» по воздушной цели. И, хотя переводим пулемет из походного положения в боевое и обратно довольно четко и быстро, Назаренко недоволен. Ему кажется, что колесный станок мы устанавливаем для стрельбы по самолетам недостаточно прочно, а ленту направляем в приемник не очень расторопно. В заключение он объявляет, что после обеда будем отрабатывать приемы изготовки снова.
Но после обеда всей ротой направляемся к центру села, где находится штаб батальона, и рассаживаемся под мрачным узловатым дубом, на котором развешаны какие-то рисунки. На них синей краской изображен один и тот же танк. Спереди, сбоку, с кормы. Жирные красные стрелки указывают на катки, гусеницы, смотровые щели. Что это за танк – для нас пока загадка. Одно ясно: не наш.
Приходит командир батальона, держа в руках палку-указку.
– Товарищи командиры, сержанты, бойцы, – майор подходит к рисункам, останавливается около крайнего, на котором танк изображен в общем виде. – Перед вами схематический рисунок нового немецкого танка Т-VI типа «тигр». С ним мы наверняка встретимся в предстоящих боях. На этот танк Гитлер и его генералы делают особую ставку. Каковы же его тактико-технические данные?
Данные нас не радуют. Толстенная броня, пушка с дистанцией прямого выстрела на тысячу восемьсот метров.
М-мда, тут сорокапяткой и противотанковым ружьем особо не повоюешь. Ими разве что пощекотать этого зверя можно. Да и то – за лапы. Майор намекает, что, дескать, и у нас для таких хищников кое-что припасено, но и, откровенно говоря, не особенно радует. А насчет того, припасенного, так ведь мы ничегошеньки о нем не знаем. Мы прикидываем в уме, что есть у нас в батальоне сейчас для схватки с такой «дурехой», и приходим к печальному выводу, что кроме солдатских рук – ничего.
Когда комбат спрашивает, будут ли какие-либо вопросы, первым поднимается старшина Лобанок и высказывает то, что наверняка думает весь батальон.
Майор советует старшине обучать своих пулеметчиков вести меткий огонь по смотровым щелям и бросать связки гранат под гусеницы.
– Ему наши пули, что слону бекасинник, а связкой надо еще попасть под гусеницу. Это не на стог сена шапку кинуть. – Лобанок садится, явно не удовлетворенный ответом майора.
А что другое мог посоветовать комбат? Быть может, он и сам не знал, что в то время уже везли на фронт новые подкалиберные снаряды, «бравшие» броню «тигров», новые противотанковые пушки и кумулятивные гранаты, что наши летчики-штурмовики на «илах» уже учились расстреливать фашистские танки реактивными снарядами. А если и знал майор, то до поры до времени не имел права рассказывать.
Сразу же после беседы комбата начинается читка пьесы А. Корнейчука «Фронт», печатавшейся в «Правде». Многое в ней было для меня непонятным, но вот что я ухватил с лету, так это то, что даже большие начальники, такие как командующий фронтом, могут, оказывается, что-то делать не так, как следует. И что за это их даже снимают с постов.
Ухватить ухватил, а вот переварить в своем мозгу не мог. Слишком все казалось невероятным. Ведь командующий фронтом! Человек, стоящий даже над самим командиром дивизии!
Лобанок начал учить нас стрелять из «Горюнова» по смотровым щелям «тигров». После длительных дипломатических переговоров ему удалось получить разрешение хозяйки нарисовать углем «тигра» на стене ее сарая. С сокращенных дистанций мы наводим пулемет в смотровые щели и открываем «огонь» длинными очередями.
Назаренко называет такую методу неудобным для печати словом, но тем не менее неукоснительно выполняет приказ старшины. В итоге этих занятий я прочно усвоил одно: где находятся у нового немецкого танка смотровые щели. А вот попаду ли в них при движении «тигра» и какой от этого будет прок – не знаю.
Назаренко приказывает мне обучать стрельбе из пулемета Мишу Умарова. Догадываюсь, что Семен не доверяет Реуту и полагается больше на новичка, скромного, молчаливого, на редкость исполнительного паренька, который, мне кажется, больше всего любит копаться в земле. Во всяком случае, при отрывке окопа и оборудовании пулеметной площадки он за одно и то же время успевает сделать больше, чем мы с Кешей вместе. Сад у хозяйки он привел в такой идеальный порядок, что наша воинственная Прасковья не могла нарадоваться.
Миша учится. Да как учится! Признаюсь, не думал, что он такой понятливый. По-русски Умаров читает очень плохо, наставление по пулемету осилить не может, и я рассказываю ему самое главное. Миша сначала повторяет сказанное мной – слово в слово, потом, глядя, как это делаю я, проделывает на материальной части сам.
Лобанок одобряет затею Семена. Нашему командиру взвода Умаров тоже, видимо, пришелся по сердцу. Старшина часто занимается с Мишой сам, выказывая куда больше терпения и выдержки, чем любой из нас. Лобанок обращается с пулеметом, как с живым существом. Маленькие с костлявыми пальцами руки старшины так любовно и нежно прикасаются к металлу, словно Лобанок затем и лег к пулемету, чтобы погладить его вороненую твердь с грубоватыми бугорками наскоро обработанных сварных швов.
И все таки мне всякий раз хочется, чтобы Лобанок быстрее кончал занятия с Умаровым. Чего доброго, старшина откроет крышку приемника и уж чего, чего, а песочка, хоть самую малость, но найдет для того, чтобы иметь основание сказать:
– Непорадок это. Бери трапочку, дорогой, и нарад вне очереди в прыдачу…
На этот раз обошлось без «нарада». У взводного хорошее настроение. По дороге в расположение, как любит выражаться Лобанок, он говорит:
– Можете поздравить меня, товарищи. Утром принят в кандидаты партии…
Мы нестройно поздравляем своего командира. Теперь и в нашем взводе есть партийный товарищ.
Лобанок, Лобанок! Что ты за человек, Лобанок? Между Иваном Николаевичем Журавлевым и тобой ой какая большая дистанция! Тот знал все, у тебя, старшина, грамотешки класса два-три. А вот поди ж ты, похожи вы. Очень похожи. Чем? Не знаю. Сразу так вдруг и не скажешь, но похожи, ей-богу.
Но для начала – своим отношением к войне, к своему солдатскому делу. Для Журавлева и Лобанка война – это страшная, трудная, то кровавая, то бескровная работа, которую нужно выполнить ради возвышенной благородной цели защиты своей Родины, народа от чужеземных врагов. На этой работе – они рабочие, именуемые солдатами. И, как всякие добросовестные рабочие, они выполняют свою работу по-мужицки, основательно, с умом, сметкой, не подразумевая своего существования в эту грозную страду вне ее. Наверное, это и делает похожими Журавлева и Лобанка.
Ночью нас поднимают по тревоге. Только пулеметную роту. Быстро одеваемся, кляня, как обычно, обмотки, скатываем шинели в скатки, навьючиваем на себя пулеметы.
Хозяйка, отодвинув ситцевую занавеску, заспанная, с разлохмаченными волосами испуганно смотрит на нас с печки. Ее груди, не по возрасту полные и округлые, молочно светятся в глубоком вырезе холщовой сорочки.
– Прикрылась бы, Прасковья, – сердито говорит ей Лобанок. – Чего ради весь товар вывалила? Непорадок это.
– А вы куда? – не обращая на слова старшины никакого внимания, спрашивает хозяйка.
– Закудыкала! Куда нужно, туда идем. К вечеру будем. Вари картошку.
Я беру тело пулемета. Реут – станок, Умаров навешивает на себя коробки с лентами, перевязанные веревками.
Командир роты поочередно обходит взводы, проверяет экипировку. Нашему взводу замечаний нет, в других взводах что-то приказывает устранить, после чего вводит в тактическую обстановку.
Мы узнаем, что где-то, в двадцати километрах отсюда немцы выбросили десант. Нашей пулеметной роте приказано совершить марш-бросок в район выброски вражеского десанта и уничтожить его.
Мы догадываемся, что никакого десанта в том районе немцы не выбрасывали, что все это – просто тактический фон для совершения марш-броска. Пожалуй, только Миша Умаров не догадывается об этом. Но ничего, по дороге мы ему растолкуем.
Идем в колонне по одному. Впереди взвода – Лобанок с вещмешком, скаткой и самозарядной винтовкой на ремне, за ним – Назаренко, следом я. Позади меня топает что-то бурчащий себе под нос Кеша. Ясно: не успел выспаться – и клянет всех и вся.
Старший лейтенант ведет роту по кромке пшеничного поля, хотя рядом угадывается проселочная дорога. Цепляемся ногами за комья высохшей земли, попадаем носками ботинок в норки, падаем, чертыхаемся, материмся, гремим амуницией, за что влетает от Лобанка, и идем дальше.
– Полководцы тоже, лапотки несчастные, – слышу голос Реута. В темноте ковыляем по чертополоху, а днем будем маршировать по дороге…
Кеше не сладко. Колесный станок «Горюнова» весит больше двадцати пяти килограммов, и, чтобы нести его в таком темпе, в каком движемся мы, нужна именно Кешина сила.
Хочется пить. Дьявольски хочется. Во фляжке булькает вода, но я не имею права сделать и глотка. На то будет особая команда. Поскольку идем на запад, рассвет настигает нас где-то на полпути к назначенному району. Наши гимнастерки и пилотки давно черны от пыли. Местами на них выступают белые разводья соли. Ботинки и обмотки стали серыми.
Кажется, во взводе не потеют только двое: Лобанок и Умаров, У первого лишь на тонкой морщинистой шее видны мелкие темные бисеринки, у второго – на красивом смуглом лбу.
Командир роты, идущий где-то в голове цепочки, убыстряет шаг, словно спешит убежать от робких солнечных лучей, греющих и без этого наши горячие спины. Мы устали. Даже Кеша и тот больше не бурчит. Бережет силы, не расходует энергию напрасно. Свою скатку он надел через голову на шею, как хомут, на нее взгромоздил станок, чтобы не так сильно тер плечи, и идет последним во взводе, поминутно вытирая изнанкой пилотки посеребренное пылью лицо.
Тело пулемета обдирает мне плечи. Я кладу его то так, то этак, но железо не становится мягче от моих манипуляций. Удобнее всего все-таки держать на правом плече, на скатке, хотя ноша поминутно сползает с тугого ребра шинельного сукна.
В самом деле, почему бы нам не идти по дороге? Вон она, метрах в двадцати слева. Ура! Кажется, ротный услышал мою безмолвную просьбу. Он сворачивает на дорогу, колонна тянется за ним. А обочиной шли не напрасно: хождение ночью по бездорожью было предусмотрено заранее. Пехоте надо привыкать шагать в темноте по кочкам и норам, через бурьян, репейник. Шагать бесшумно, так, чтобы ни винтовка, ни лопата, ни что другое металлическое не звякало, не брякало.
Последние километры до места нахождения «десанта» мы уже почти бежим. Бежим отупевшие от духоты и усталости, плохо соображающие, с широко открытыми красными от пыли и бессонной ночи глазами, с потрескавшимися от жажды черными губами.
Приближаемся к какому-то селу. Уже отчетливо видны не только хаты, но и кринки для молока, надетые на колья палисадников. Скоро мы войдем в него и наконец дорвемся до колодца…
Войдем ли? Оказывается, нет. Старший лейтенант круто поворачивает влево, и начинаем спускаться по пологому склону в балку.
А ведь мы так ждем села! Уж где-где, а там-то должны были разрешить напиться. Утолить адскую жажду прямо из колодезного ведра холодной, пахнущей тиной и старым срубом водой. И вдруг! Эх-ха, все к черту!
Мы почти бежим по склону, густо поросшему лозняком и дикой грушей. Куда еще несет ротного? Есть у этого командира хоть капелька совести, жалости к подчиненным?
Стоп! Кажется, есть! Не верю своим глазам: впереди виднеется большой пруд.
Вам приходилось когда-либо подходить к деревенскому пруду чудесным июньским утром, когда это диво природы еще нежится под легким покрывалом тумана? Вы прислушивались, как звенят капли, падая с ивы в его звонкую гладь? Подходить не просто освеженному спокойным сном, а так, как подходили мы после зверского двадцатикилометрового марша? Если не случалось с вами такого, но буду и рассказывать. И вовсе не потому, что не могу рассказать об всем, что пережил, перечувствовал в эту минуту каждый из нас. Это надо испытать самому…
Ротный не подает команды. Мы догадываемся что делать, видя как старший лейтенант еще на ходу снимает полевую сумку, ремень и расстегивает ворот гимнастерки.
Вода жжет тело. Но каким приятным огнем! Я гогочу что есть мочи и плыву саженками к середине пруда, то и дело опуская голову в воду. Гуси с противоположного берега дружно отвечают мне своим гоготаньем. Справа и слева на зеленовато-голубой глади пруда белеют солдатские ягодицы, круглыми шарами словно катаются по поверхности стриженые головы, орущие, гогочущие, визжащие от неповторимого наслаждения.
Много ли человеку надо! Две-три минуты назад мы готовы были рухнуть в дорожный прах от усталости, а стоило окунуться в воду, как снова почувствовали себя молодыми и сильными, абсолютно не испытывающими никакой жажды. Спасибо тебе, вода!
Мы лежим на успевшей пожухнуть траве и думаем о том, что не плохо бы теперь и позавтракать. Но завтрак на нас оставлен в расположении, на батальонной кухне, и чтобы получить его (черпак какой-то каши, ломоть хлеба и две чайные ложки сахара), нужно пройти еще двадцать километров. Вот так!
Назаренко, густо поросший рыжеватыми волосами, с пышнотелой, короткохвостой русалкой на груди, приподнимается на локтях, осматривает нас.
Нет Реута. Семен спрашивает меня, куда девался Кеша, но я не знаю. В воду мы прыгали с ним вместе, я еще успел заметить на его спине шрам, ровный, гладкий, как от ранения чем-то острым, потом потерял Реута из виду. До него ли мне было?
– Может, кусты пошел мало-мало, – высказывает предположение Умаров. – Рубашка его нет…
Кеша появляется минут через десять с котелком молока и краюхой хлеба, черного, сырого, пополам с мякиной. Не доходя до нас, он усаживается под кустик и начинает закусывать.
– Где ты был, Реут? – Назаренко, натянув на мокрое тело подштанники и брюки, подходит к Кеше.
– В деревне. – Реут кивком головы кивает на белеющие за прудом хаты.
– А почему без разрешения?
– Вы, товарищ сержант, как мне было известно, находились в пруду. А так как голого царя не отличишь от нагого солдата, то судите сами…
Реут аппетитно отхлебывает молоко и нагловато, вопрошающе смотрит на сержанта, как бы спрашивая: «Ну, что съел, а?»
– Ты знаешь, Реут, у кого хлеб отнял?
– Уточняю: купил.
– Врешь. Здесь хлеб не продают. Деньги им все равно без надобности, за них ничего не купишь. Повторяю, знаешь, у кого хлеб отнял?
– Попросил…
– У голодных сирот солдатской вдовы отнял ты хлеб, вот у кого.
– Повторяю, попросил… Она пожалела бедного солдатика…
– Давай договоримся так: сейчас ни хлеб я у тебя не отберу, ни молоко не вылью. Дорогие они в наше голодное время. Грех это делать. Но если еще раз увижу такое, я с тобой такую воспитательную работу у проведу, что и на смертном одре не забудешь. К сведению: на спор я как-то сыромятную кожу рвал. Учти!
Назаренко возвращается к нам, надевает гимнастерку и садится на бережок, опустив ноги в зеленоватую, затянутую ряской воду. Вид Реута, жующего хлеб, вызывает у меня мучительное чувство голода, и, чтобы не глядеть на этого живоглота, переворачиваюсь на спину, беру фляжку с теплой водой.
Высоко-высоко в небе летит самолет. Он напоминает о том, что война все еще продолжается, и эта тишина у пруда, эта пара гусей, величаво плавающих по нему, – не на век, на время. На очень короткое время.
Командир роты созывает командиров взводов и сержантов, что-то говорит им, и вот уже слышится его команда:
– Приготовиться к построению!
Обратно идем медленнее. Если на пути сюда очень хотелось пить, то теперь в такой же степени – есть. Но в тощих солдатских сидорах лишь котелок, запасные портянки, грязноватое полотенце, обмылок да помятая жестяная кружка.
Пайки НЗ нам выдают только перед выступлением на фронт. Таков кем-то изданный приказ. Впрочем, правильный, наверное, приказ: мы все равно бы их поели. К тому же бумажные пакеты с сухарями в вещмешках быстро рвутся. К нашему удовольствию, конечно.