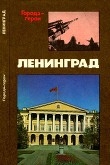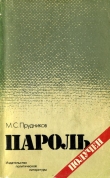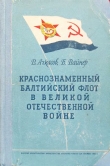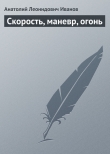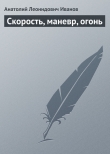Текст книги "Серая шинель"
Автор книги: Александр Сметанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
От кухонного ужина отказываемся. Журавлев посылает Вдовина выпросить у повара щепотку чая. Это Ивану Тихоновичу удается, и мы пьем чай вприкуску, не торопясь.
Что нам сулит завтрашний день?
Мне, например, он сулил неприятность – прожег валенок: решил посушить его, близко пододвинув к печке, – и вот результат.
– Казенное имущество нужно беречь, красноармеец Кочерин, – выговаривает мне старший сержант. – В дырявой обуви ты уже не боец Красной Армии, а человек с отмороженной ногой, госпитальная единица. Понял?
– Понял…
Я стою перед Журавлевым, отчитывающим меня, в одних портянках, держа в руке злополучный валенок.
– В него, – Иван Николаевич стучит длинным костлявым пальцем по голенищу, – вложен труд многих людей, которые все, подчеркиваю, все отдают нам для победы. Даже последний кусок хлеба. И затем только, чтобы ты здесь, на фронте, был сыт, обут, одет. И это понял?
– И это, товарищ старший сержант.
– Ну и отлично. За халатное отношение к хранению казенного имущества объявляю тебе выговор. К ремонту валенка приступить немедленно.
– Есть!
Я сажусь на нары, достаю из шапки иголку с ниткой и думаю, чем залатать дырку. Хорошо, что валенок прогорел сбоку, а то бы беда.
На выручку приходит Вдовин.
– На-ко тебе, парень, войлока кусочек, для стелек припас, – Иван Тихонович тянется к вещмешку, но Журавлев останавливает его.
– Не годится войлок, Вдовин. У меня есть кусочек кожи от трофейного подсумка. В самый раз будет.
Иван Николаевич берет валенок, прикладывает к нему лоскуток черной в пупырышках кожи.
– Нитки твои тоже не годятся. – Журавлев достает из кармана моток зеленых ниток, надерганных из брезентового винтовочного ремня, отрывает нитку нужной длины, натирает ее кусочком свечи и принимается за дело.
– Нет, товарищ командир, не так ты чинишь, – Вдовин тянет валенок к себе. – Ты не умеешь, а я в колхозе по шорному делу был. Так ты уж дай-кось мне. Любо-дорого будет.
Я сижу рядом с Вдовиным, поджав под себя ноги в портянках, и смотрю, как он работает. Руки у Вдовина крупные, короткопалые, с фиолетовыми буграми вен, с темно-коричневыми пластами мозолей, навечно прилипшими к жестким краюхам ладоней.
Чего только не делали эти руки русского крестьянина! Они все умеют. Вот как ловко, споро, красиво чинят они мой валенок! Щетину бы ему еще, да настоящую деревенскую суровую дратву, натертую варом.
…Сегодня я первый раз стою на посту. Под охраной и обороной состоит вход в землянку и позиция отделения. Я должен периодически ходить взад-вперед по траншее, главное внимание все-таки уделяя землянке. В ночное время я должен вообще находиться у входа в нее.
Вечереет. Вот и небо уже делается из темно-синего фиолетовым, потом темно-лиловым и, наконец, как бы чернеет, зажигая одну за другой желтоватые звезды.
Где-то левее меня гудит самолет. Но высоко-высоко, И, судя по прерывистому, ноющему гулу, – немецкий. За черной лентой леса, похожей на двухручную пилу; поставленную зубцами вверх, – фронт. Там, я знаю, скоро начнут прыгать в небо немецкие осветительные ракеты, и изредка будет слышаться отдаленная пулеметная дробь.
Там, за лесом, – фашисты, гитлеровцы. Я видел их только в кино. Нет, не тех, которых играют наши актеры, а пленных, взятых в боях под Москвой. Неужели они все такие: в бабьих платках, в резиновых женских ботах, жалкие и беспомощные? Но как же они сумели оттеснить нас до самой Москвы? Нет, наверное, все же не такие, какими показывают фронтовые операторы. Перед такими не стали бы отступать Иван Николаевич, Тятькин, Ипатов. Что-то тут не так.
Я плотнее прижимаю приклад винтовки локтем к туловищу, засовываю руки в рукава полушубка, рукав к рукаву, и начинаю быстрее ходить по траншее, чтобы согреться.
Впереди – поле, полого сбегающее к лесу. Танкоопасное направление, как говорит Иван Николаевич. А Тятькин утверждает, что оно может быть танкоопасным, но только летом. Сейчас в этом снегу не только немецкий танк, а сам черт не пролезет.
Сегодня меня учил Журавлев. Чему учил? Ага, вот чему: как бросать гранату из положения лежа в окоп, в амбразуру, как не замерзать на снегу, разводить костер, чтобы дым не был виден, как отрывать окоп в снегу малой саперной лопатой.
– Эх, Сергей, Сергей, – вздохнул как-то он, воткнув свою лопату в снег. – Не такие бы уроки мне хотелось тебе давать. Видит бог, не такие. Но сам понимаешь… Где-то я читал, Сережа, что жестокость порождает жестокость. Ответную, еще большую. Тут все как в прямой геометрической прогрессии. И вот я, твой учитель по одной из гуманнейших наук – родному языку, учу тебя…
…Сколько мне еще быть на часах, не знаю. Мороз уже давно гуляет по спине, стынут в валенках ноги, а стоять мне никак не меньше часа. Спрашивать у Тятькина часто, сколько там на его будильнике, неудобно.
В отделении на всех одни часы – этот самый тятькинский будильник, обшарпанный, с треснувшим по диаметру стеклом. Тятькин носит его завернутым во фланелевую тряпочку в специально пришитом к телогрейке брезентовом кармане. Будильник мы получаем у Тимофея только на ночь, чтобы будить себе смену через каждые два часа.
– Не замерз, Сергей? – Передо мной стоит Журавлев. Когда он вышел из землянки, я не заметил. – Раз не замерз – хорошо. Ты больше двигайся. Ходи по траншее взад-вперед, согреешься.
– Есть, Иван Николаевич! – Делаю поворот кругом, но Журавлев удерживает меня.
– Сгорела, говоришь, наша школа? Ничего, после войны новую построим. Двухэтажную, просторную. В одну смену будем заниматься. Вот, например, ты. Вернешься с войны, выучишься на архитектора и построишь школу…
Иван Николаевич снимает очки, дышит на стекла, протирает их заскорузлыми пальцами, не торопясь водружает на место и долго молча смотрит туда, на север, где осталась наша деревня.
После ухода Журавлева стоять на посту особенно тягостно. Из трубы над нашей землянкой весело выскакивают искры, кто-то шурует в печке. Ах и тепло же там! Интересно, скоро ли меня все-таки сменят?
Скрип снега под чьими-то ногами обрывает мои сладкие мечты о землянке, нарах и печке.
– Стой, кто идет!
– Свои. Я это, Полина.
Полина шла от соседнего отделения прямо по целине, а не по тропке, и теперь стоит на бруствере траншеи где-то вровень с моей головой.
– Помоги-ка мне спрыгнуть, Сережа.
Я беру винтовку на ремень, протягиваю руки и помогаю девушке. На какое-то мгновение она оказывается в моих объятиях, прижатой к груди, и от этого ее прикосновения у меня словно мутится разум, дыхание замирает, и я не знаю, что творится со мной. Не знаю, не знаю. Все это первый раз в жизни.
– А ты, оказывается, сильный, Кочерин, хотя с виду не скажешь этого.
Полина улыбается, поправляет на голове кубанку, бросает мне «спасибо» и быстро уходит в землянку.
Через несколько минут я вижу их уже вдвоем с Петькой, шагающих по направлению к лесу. Вчера они тоже, похвалив Галямова за угощение, ушли в лес вдвоем.
Поздно ли вернулся вчера Ипатов, я не знаю. Спал. В голову сейчас лезет всякая чертовщина, от которой, чувствую, горят на морозе щеки. И чтобы как-то выбросить из головы все, о чем думаю, что мысленно представляю, беру пригоршни снега и тру себе горячий лоб.
Мне уже ни капельки не холодно.
И все-таки это хорошо, что Полина любит именно Петра. Мне не так обидно. Если бы был кто-либо другой – не Ипатов, – я бы, наверное, ревновал ее. А к Петру – нет. Хороший он. Добрый. И умный. А как интересно рассказывает про ученых, архитекторов, скульпторов! Я никогда не был в Ленинграде, но теперь знаю, кто строил Зимний дворец, Смольный, Исаакиевский собор; где жил Пушкин, так любивший «Петра творенье», его «строгий, стройный вид».
Над передним краем взвивается целая серия ракет. Что там? Почему так много?
Кто-то идет: издалека слышится звонкий хруст снега под ногами. Кто это? Ага, Ипатов. Уже проводил Полину. Быстро же.
– Не озяб, Сережа? – спрашивает меня Петр, обметая голиком валенки.
– Терплю. А ты чего так скоро?
– Как ты догадываешься, на капэ роты меня никто не ждет. Проводил Полину туда – и все. Ну бывай, сейчас сменю.
Фронтовые будни
Сегодня исполнилась неделя моей службы во втором стрелковом отделении Н-ского полка.
Никаких особенных событий за это время не произошло. Журавлев либо командир взвода младший лейтенант Козуб учат нас стрелять, колоть штыком, метать гранаты, быстро выскакивать из траншеи и перебегать под огнем противника. Короче, готовят они нас к наступательным боям.
Дня два назад в отделении побывал заместитель командира роты по политической части лейтенант Иванов, маленький, лысый, с какими-то крохотными сонными глазками. Тятькин называет его самым нудным политруком. Когда он при мне сказал это, я ожидал, что Журавлев, как командир и человек партийный, одернет Тимофея, но Иван Николаевич, грустно покачав головой, согласился: «Да, это не Фадеев».
Из разговоров Тимофея со старшим сержантом я знаю, что раньше у них замполитом в роте был Фадеев, но что теперь его повысили и он ушел в батальон.
А Иванов до назначения в роту был замполитом банно-прачечного отряда дивизии. Однако не обеспечил там надлежащее «моральное состояние» некоторых своих подчиненных и угодил к нам в роту.
С Ивановым мы не понравились друг другу с первой встречи, с первого взгляда. Уже через минуту после моего доклада, что я и кто я, лейтенант спросил, знаю ли я содержание последнего праздничного приказа Верховного Главнокомандующего? И хотя я с пятого на десятое кое-что помнил, отвечать все-таки не стал.
Иванов обозвал меня лодырем и дал затертый листок дивизионки с приказом. Я обязан выучить его наизусть и доложить об этом замполиту завтра к четырнадцати ноль-ноль.
Приказ, напечатанный в газете, у меня в руке, но учить его наизусть не хочется. Тем более, что у нас выдался свободный день: Журавлев ушел на собрание партийного актива полка. Как всегда, он оставил за себя Тимофея, определил круг задач, которые мы должны решить или отработать в его отсутствие, но Тятькин объявил, что все это «сто раз делано» и разрешил отдыхать: «Раз актив, братцы, то, верьте слову, скоро в наступление. А мы к нему готовы».
Тятькин лежит рядом со мной, поглаживая усы – предмет своей особой гордости. Рядом с ним Галямов; дальше – Вдовин и Чапига. Ипатов на посту.
– Слышь, Степан, – упрашивает Чапигу Тятькин, давай, будь друг, сказочку. А?
– Нет уж! Умники у нас теперь завелись…
– Да полно тебе, Степан. И Петра все равно нету…
Чапига не отвечает. Второй день он дуется на Ипатова. И вот из-за чего. Чапига любит рассказывать сказки, которые, по его словам, слышал еще от деда у себя в деревне, где-то за Оренбургом. Вчера он рассказывал новую, не слышанную нами. Сказка была про старого барина, его молодую жену, про приказчика, который нашел потерянный барыней платок и сказал старому барину, что она будто бы этот платок своему любовнику подарила. Барин был ревнивый, задушил свою жену, а сам заколол себя кинжалом.
– Ты знаешь, Степан, что рассказал? – спросил его Ипатов, когда Чапига умолк.
– Известно что, сказку.
– Нет, ты пересказал знаменитую трагедию английского писателя Вильяма Шекспира «Отелло».
– Выдумывай больше, – обиделся вдруг Степан. – Я про такого и слыхом не слыхивал.
– Да ты не сердись, Степан. Ничего в этом плохого нет. – Ипатов сел на нары, тронул Чапигу за плечо, но тот зло оттолкнул руку Петра и улегся в угол, натянув шинель на голову.
– Значит, не будешь рассказывать, а, Степан? – Тимофей поглядел в угол, где укрытый шинелью лежал маленький сердитый сегодня Чапига.
– Сказано, не буду. Куда мне с ним, с образованным, тягаться?
– Ну ладно, тогда я расскажу. Что-либо такое из того, как после войны все будет.
– Ха, Тимофей, верно. Больно хорошо. Валяй. – Галямов садится, сверкая в полутьме выбритой до блеска головой, подгибает под себя ноги, жадно глядя на Тятькина.
Он, впрочем, как и все мы, любит, когда ефрейтор выступает со своими импровизациями о том, что будет после войны.
– Хорошо-то хорошо, Галимзян, да закурить бы тоже не худо.
Галямов, кряхтя, отсыпает Тимофею махорки на закрутку, тот блаженно затягивается крепчайшей «моршанской», не спеша ложится на спину и мечтательно начинает.
– Да, братцы, мои. Приезжаю это я, значит, раз в Кировскую область по своему киношному делу. Костюм на мне коверкотовый, сапоги с галошами, кепка такая с пуговкой. Да… Иду это я, значит, по деревне Веснянке…
– Веслянка, – неохотно поправляет его Вдовин. – Веслами раньше славилась.
– А ты почему, Иван, думаешь, что это про тебя и твою деревню?
– А за коим бы лешим ты в Кировскую область поехал?
– Ну ладно, Вдовин, в Веслянку. Да, иду это я по деревне Веслянке, а дома в ней один к одному: добротные, высокие, с резными наличниками, к каждому радио подведено. Сразу видно – богато народ живет. Люди в селе такие уважительные, степенные, кланяются мне все, здравствовать желают. Спрашиваю я, значит, одного старичка в новеньком треухе: «А скажи, дедушка, где тут у вас Вдовин Иван Тихонович живет?» – «Это председатель-то наш?»– «Не знаю, кто он, дедушка, но это мой первейший друг на войне был». – «Он, он, родимый, – говорит дед. – Председателем колхоза у нас. А сейчас самый раз в Москву за орденом уехал».
– Ха, Иван, слышишь? – Галямов хлопает Вдовина, лежащего ничком, по спине. – Какой орден Москва давал?
– Да ну его. – Вдовин смеется, плечи его вздрагивают. – У меня грамоты, Тимофей, один класс, а ты – в председатели.
– Дальше, дальше, – торопит Тятькина Галямов.
– А дальше я и говорю, значит, тому древнему деду: «А где же дом его, супруга, детки?..»
Жаль, на на этот раз мы не узнали, чем закончилась поездка Тятькина в Веслянку. Входит связной командира взвода и передает распоряжение: оставив одного часового, всем идти в баню.
– Что я говорил? – подхватывается Тятькин, – И в бане решили помыть. Определенно, перед наступлением.
В баню идем пятеро. Наш командир на собрании партактива полка, Чапига заступил на пост.
– Давно Полина обещал баню, а только сегодня пришел наша очередь, – Галямов, причмокивая, качает головой.
Он уже приготовил веник из голых березовых прутьев, ломких на морозе, но утверждает, что если такой веник распарить хорошенько в кипятке да погреть на горячих камнях, он не уступит тому, что обычно вяжут из молодых побегов.
У бани – маленькой землянки, врытой в обрывистый берег скованной льдом речки, из которой и берут для мытья воду, стоит обитая железом автомашина. Я знаю – это дезокамера. Сейчас в предбаннике мы разденемся, завернем свои документы и письма в отдаленное подобие носовых платков, свяжем на одну веревочку обмундирование и сдадим санитару. Тот отнесет наше добро в дезокамеру, развесит там, и через несколько минут воздух, нагретый до сотни градусов, беспощадно расправится с преподлыми разнокалиберными насекомыми, которых на фронте давно окрестили «автоматчиками».
Тятькин, отвязав от пояса котелок, из которых мы будем мыться, бойко шагнул к предбаннику, но пожилой усатый санитар останавливает его:
– Погодь, парень. Девка там раздевается…
– Вот те на! Кто такая?
– А тебе не все разно? Ну… Полина.
– А-а, – пожимает плечами Тимофей, намереваясь уйти, но санитар говорит:
– Сейчас и вы зайдете. Время – в обрез. Для одной баню не истопишь. Я уголок там плащ-палаткой отгородил. Вместях и помоетесь.
Санитар сдержал слово. Скоро мы, вышагивая, как цапли, по мокрым холодным лапам хвои, гуськом проходим через крохотную, разбухшую от пара дверь в мыльную. Узенькое окошечко над дверью скупо пропускает свет, и обнаженные тела моих товарищей, как бледные привидения, медленно движутся в клубах пара.
За плащ-палаткой, закрепленной щепочками в пазах сруба, моется Полина. Из-за занавеси видны ее маленькие, словно детские ступни на мокрых досках пола, позвякивает дужка ведра.
– Полина! – окликает ее Тимофей.
– Что?
– Может, спинку потереть в порядке комсомольской нагрузки?
– И не стыдно тебе, Тимофей? Смотри, Петру пожалуюсь.
– А он вот здесь, – хохочет Тятькин. – Рядком стоит.
– Тогда пусть нальет мне воды. – Полина приподнимает плащ-палатку и ногой двигает ведро Ипатову. – Не очень горячей, Петя…
Галямов, широко расставив ноги, стоит с котелком в руках, готовый плеснуть воду на горячую каменку.
– А ну, уходи все. Все сторона уходи!
– Да ты, Галямыч, из ведра лей. Котелка только на пшик хватит.
Ипатов подает Галямову ведро с водой, тот с размаха выплескивает ее на камни, клубы пара, как дым из старинной пушки, рвутся во все стороны, и в то же мгновение слышится испуганный крик Полины:
– Отвернитесь!
Мы, конечно, отворачиваемся, но не сразу. Сначала невольно бросаем взгляды на Полину, испуганно забившуюся в самый угол. Полуприсев, скрестив на груди руки, она держится к нам боком. У ее ног лежит плащ-палатка, сорванная со своего места паром и брошенная на пол.
Мы хохочем. Вместе с нами, отвернув лицо, смеется и Полина, кажущаяся мне сейчас маленькой беззащитной девочкой.
– Петя, повесь скорее плащ-палатку, – сквозь смех говорит она. – А вы все не поворачивайтесь сюда.
Ладно, не будем. Сидим на корточках, ждем, когда Ипатов восстановит сооружение старого санитара.
– Скорей, Петька. Пар больно хорошо. – Галямов трет своим знаменитым веником плечи, грудь. Мышцы упругими валами перекатываются под его смуглой от природы кожей.
– Все, братцы, занавес в порядке. Начинаем мыться!
Ипатов берет у Галямова веник, тот залезает на импровизированный полок, и Петр, плеснув на спину богатыря котелок воды, тихонько ударяет по ней веником.
– Кто так парит? Дай сюда, – Тятькин, вислоплечий, малость кривоногий, с тонкой талией и крутой сильной грудью, решительно берет инициативу в свои руки. – Держись, Галимзян. Я покажу тебе, как парятся наши псковские скобари. Хоп-ха!
Веник срывается с места и, мелко подрагивая, бежит по широченной спине Галямова. Раз, другой, третий.
– Это массажик для начала, для затравки. А сейчас самый смак будет.
Тятькин окатывает Галямова водой и начинает неистово хлестать его по спине. Тот с наслаждением кряхтит, ворочается, подставляет бока, грудь, живот. Глаза его блаженно прищурены.
– Больно хорошо! Эх как хорошо, Тимофей! Сильней давай!
Мы с Вдовиным моемся, сидя на полу. Конечно, какое уж там мытье из котелка! Раз, другой плеснул на себя и черпай снова.
– Становись на корточки, помою тебя. – Вдовин намыливает клочок вафельного солдатского полотенца, служащего нам мочалкой. Кусочек черного жесткого мыла, выданного санитаром, поминутно выскальзывает из крупной вдовинской ладони, он чертыхается, ищет мыло среди мокрой хвои и продолжает намыливать клочок полотенца.
– Это где-ка ты так? – Иван Тихонович тычет пальцем в ссадины на моих локтях и коленях.
– Тимофея работа…
– Что он спятил, что ли? Парнишку не жалеет.
Вдовин знает: последние дни Тятькин учит меня вести рукопашный бой «без ничего», как он говорит. Такое распоряжение он получил от Журавлева.
«Бьемся» мы с Тимофеем в траншее. Но пока достается одному мне. Никогда не думал, что Тимофей такой сильный. Он перебрасывает меня через себя, как мешок с мякиной. В такие минуты ефрейтор напоминает гигантской силы пружину, сорвавшуюся со стопора. «Хочешь выжить на войне, учись драться», – говорит он мне, когда жалуюсь на то, что уже весь в синяках. И еще говорит: «Я у вас в отделении агитатором числюсь и теперь подкрепляю слово делом, учу тебя, Серега, воевать…»
– Эй, берегись, Иван! – Галямов красный, как вареный рак, вдруг срывается с полка, распахивает дверь и выскакивает наружу.
– Вот черт шалопутный! – качает головой Вдовин и, сладостно покряхтывая, лезет на освободившийся полок. – Ну, Тимофей, парь теперь мои старые косточки.
– Эй, ребята, вы скоро? – слышится из-за занавески голос Полины. – Мне выходить надо…
– Поля, дочка, да мы только во вкус входим. – Вдовин берет у Тятькина веник и начинает неистово хлестаться. – А ты ступай себе, ступай, нас не сглазишь. Вон разве что Серегу…
От одной мысли, что Полина может увидеть меня в таком виде, становится прохладно даже в бане. На всякий случай поворачиваюсь спиной к занавеске и усиленно тру себе грудь вдовинской мочалкой.
Входит Галямов с пригоршнями снега. Следом за ним из предбанника ползет морозный воздух, стелется по полу зыбким, колючим пластом.
– Ну, Тимофей, сто грамм тебе давать нада. Больно хорошо! Давай тебя парить буду. Шибко парить.
Неслышно ступая босыми ногами по мокрому полу, в полушубке, накинутом на плечи, сзади меня быстро пробегает Полина.
– Петя, мойся из ведра, – говорит она Ипатову, захлопывая дверь.
Из бани мы идем ублаготворенные, пахнущие чистым телом и дезокамерой, снабженные дивизионной газетой за «тонкое число».
Вдовин предложил сразу же разделить ее для самокруток, но Тятькин сказал, что сначала прочитает ее вслух как должностное лицо, а уж потом видно будет.
Вблизи нашей позиции встречаем группу командиров-танкистов с картами в руках. Один из них с тремя шпалами на петлицах кожаной куртки что-то говорит своим спутникам, показывая то на поле впереди позиции отделения, то на опушку виднеющегося вдали леса.
– Намечают пути выхода танков к переднему краю, – авторитетно заявляет Тятькин. – Скоро мы, братцы, вместе с танкистами врежемся в немецкую оборону, как нож в масло…
Слова Тимофея вызывают горький смех.
– Врезаться, может, и врежемся. Но далеко ли, Тимоха, уйдем? – Вдовин вопрошающе смотрит на ефрейтора. – В прошлом годе под Ростовом я и до первой траншеи не дошел. Ранило.
– Ну, на этот раз, Иван, немец стал не тот. Видишь, что под Сталинградом творится? Ведь сорок третий теперь, а не сорок второй.
– Значит, дойдем до второй траншеи?
– Может, и дальше… Конечно, пехотные отделения живут не долго, – внезапно ставший грустным говорит Тятькин. – С прошлого наступления под Великими Луками нас осталось во взводе трое: Журавлев, я да помкомвзвода.
– А остальные где? – бестактно вмешиваюсь я.
– Известно где, Серега: кто в наркомземе, кто в наркомздраве. Где же им еще быть?
Сразу же после возвращения в землянку я меняю на посту Чапигу, и он с Журавлевым идет в баню.
Как и тогда, когда я в первый раз заступил на пост, здесь, в траншее, после ухода Чапиги остаются одни звезды. То угасая, то загораясь вновь, они словно живые разумные существа перемигиваются со мной, пытаются развеселить меня, хоть как-то скрасить мое одиночество. Спасибо вам, звезды. Никогда раньше не думал, что вы можете быть такими ласковыми и добрыми.
Вот уже три недели я на фронте. Что удивляет меня, так это то, что я до сих пор не видел войны. Здесь так же тихо, как и на Урале, под Камышловом, где я служил в запасном полку. Нет ни стрельбы, ни бомбежек. Я, например, до сих пор не видел ни самолета, ни танка.
Тимофей говорит, что на войне так бывает, когда подолгу стоят в обороне. Еще он говорит, что вся война переместилась к Сталинграду. Там нужнее и снаряды, и танки, и самолеты. Да и Гитлер, по словам Тятькина, стал не тот. Не по силам ему везде наступать, как это было в начале войны.
Вьюжит сильнее. Я поднимаю воротник полушубка и поворачиваюсь к войне спиной, хотя этого делать и не положено. Я обязан вести наблюдение строго в сторону фронта.
Но Журавлева нет, а Тимофей, наверное, опять что-либо «травит» о послевоенных делах. Скоро сочинит какую-нибудь байку и про меня. Интересно, какую?
Пожалуй, хорошо, что я повернулся спиной к войне, к фронту. С тыла на позицию отделения движутся две темные фигуры, видимые на фоне снега. Кто бы это?
Окликать еще рано, далековато, пусть подойдут. Так, теперь в самый раз.
– Стой, кто идет? – набрав полные легкие воздуха, громко окликаю я.
– Командир взвода, – слышится знакомый мне голос младшего лейтенанта.
– Проходите!
Интересно, кто это с ним? Конечно, начальство, раз полушубок-то комсоставский.
– Кто на посту?
– Красноармеец Кочерин, товарищ младший лейтенант.
– Новичок, значит? Ну, здравствуй, Кочерин, будем знакомиться. – Тот, в комсоставском полушубке, подходит ко мне, протягивает руку. – Заместитель командира батальона по политической части старший лейтенант Фадеев.
«Вот вы какой, старший лейтенант Фадеев! – мелькает в моем сознании. – Интересно, за что вас так любят в батальоне? Почему Журавлев и Тимофей так часто вспоминают вас добрым словом?»
Пожелав мне успеха в несении службы, командиры уходят в землянку. Я опять остаюсь наедине со звездами.
Внезапно со стороны переднего края доносится гул разрывов, приглушенных расстоянием, стрекот пулеметов, вспыхивают бледные сполохи ракет.
Что это? Неужели бой? Неужели началось?
Как и положено, подбегаю к землянке, открываю дверь, скороговоркой докладываю:
– Там, на «передке», бой идет. Сильный. Тревогу, что ли, объявлять?
К моему величайшему удивлению это сообщение никого особенно не встревожило. Никто не схватился за оружие, не бросился из землянки вон, в траншею. Фадеев достал карманные часы, посмотрел на них и спокойно сказал:
– Немец в такое время, товарищ Кочерин, наступать не станет. Он темноты боится. Скорее всего наших разведчиков обнаружили. Вот и подняли переполох. Иди на свое место, Кочерин.
Чертовщина какая-то! Я ожидал чего угодно, но не этого. Пусть не назвали меня молодцом, не похлопали по плечу за проявленную бдительность. Пусть! Но я полагал, что все, как в настоящем бою, займут места на позиции, Галямов установит свой ручной пулемет, ввинтят в гранаты запалы, будут настороженно прислушиваться к гулу приближающегося боя, встанут рядом со мной плечо в плечо, как в старинном каре. А они и не пошевельнулись. И даже этот, старший лейтенант, спокойно так: «Иди на свое место, Кочерин!»
Ну что ж, я прошел на свое место в траншее. Стою, прислушиваюсь к отдаленному гулу боя, но он очень скоро затихает, и небо над передним краем опять становится иссиня-черным. Да, правы оказались, черти.
Тихо. Тятькин говорил мне, что он боится тишины на фронте. Особенно, когда находишься на «передке». Тишина, по его словам, ничего доброго не сулит, жди от фашистов какой-либо каверзы.
Меня сменяет Ипатов. С закоченевшими руками и ногами вбегаю в землянку. Начальства уже нет. Вернулись Журавлев и Чапига. Все ужинают. Сегодня интендантство потчует нас пшенной кашей со свиной тушенкой и чаем, который подогревается на печке.
– Вот кончится война, – облизывая ложку толстыми пунцовыми губами, говорит Тимофей, – вернусь домой, куплю себе банку тушенки, буханку черного хлеба и сразу все съем. Вкуснота!
Журавлев улыбается, не без лукавинки спрашивает:
– Ты полагаешь, что и после войны американцы будут тебе тушенку слать?
– А куда им ее девать? Поди и так каждый день жрут от пуза. Надоест.
– Нет, Тимофей. Они сейчас подкармливают меня и тебя, чтобы мы Гитлера били. Хозяевам Америки это нужно. Да и то за наши кровные, за золото…
– Не знаю, командир. Может, и прав ты… Кстати, что там насчет второго фронта сказали вам, партийным?
– Да ничего. Воюют в Африке с Роммелем да итальянцами. Вот и весь второй фронт.
– Ну а насчет нашего наступления? – не унимается Тятькин.
– Про это ни слова. Секрет. Но судя по всему – скоро. Знакомый сказал, что в типографии нашей дивизионки листовки печатают с призывами: крепче бить врага в наступлении.
Это была наша последняя ночь на обжитой позиции отделения. Я даже как-то привык за эти дни и к крохотной землянке, и к ее скромному по военным временам уюту, к размеренной, словно в карауле, жизни второго эшелона.
Утром командиры отделений получили приказ подготовиться к передислокации с целью занять положение непосредственного соприкосновения с противником.
Мне нравятся эти военные термины. В них есть что-то таинственно-торжественное, многозначительное, романтическое: «передислокация», «первый эшелон», «непосредственное соприкосновение».
Мы могли, даже обязаны были ждать поступления такого приказа в любой день, час, минуту, а когда его получили, все-таки встревожились. Даже Иван Николаевич. Не знаю, почему?
Быть может, потому, что опасность быть убитым увеличится? Что уже не будет у нас такого вольготного хождения в полный рост, без свиста снарядов над головой, без риска быть задетым шальной пулей?
Но ведь некоторые всю войну воюют именно так. С неделю назад все наше отделение ездило на разгрузку снарядов в район армейских артиллерийских складов на какой-то железнодорожной станции. И я сам видел, как один из начальников этих складов умывался в нательной рубашке прямо на улице. И даже чистил зубы! А красноармеец поливал ему из котелка и держал свежее полотенце. Мне все это показалось странным. А Тятькин почему-то назвал его «тыловой крысой».
Но все-таки, по-моему, Тимофей не прав. Не всем же быть на передовой. Надо кому-то и снарядами, патронами заниматься, кормить, обувать, одевать, лечить нас.
Итак, завтра на «передок», для меня таинственный и непонятный, полный тайн и опасностей. Я стану лицом к лицу с врагом. Между нами не будет никого, ничья спина меня не прикроет. Сотня, две сотни метров будут отделять меня от врага. Того самого, с которым сейчас связано все самое плохое и страшное в жизни моего народа. И я пойду биться с этим врагом. Жестоко, насмерть. Я обязан делать это по долгу советского человека, воина, мужчины.