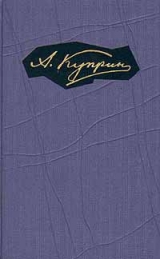
Текст книги "Том 3. Произведения 1901-1905"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
– Останьтесь, я хочу попросить вас об одном деле… Когда гости и хозяева проходили через полутемную диванную, Башкирцев взял за локоть Дурдина и задержал шаги. Оставшийся сзади Дружинин успел услышать начало фразы…
– Ты же смотри…
И Дурдин громко ответил:
– Да что вы, Илья Андреич, рази я сам себе враг… Это обращение Башкирцева к Дурдину на «ты»; в связи с впечатлениями всего вечера вдруг без колебаний и переходов объяснило Дружинину многое, что раньше отпечатывалось в его мозгу туманно и неясно, как предчувствие. Он сразу вспомнил тысячу мелочей, наблюденных в доме Башкирцевых, которые, дополняя одна другую, объяснили ему нечто страшно неприятное, тяжелое и противное. Теперь небольшим фактам Дружинин придавал большое значение.
Перед ужином Башкирцев с гримасой оглядел костюм Риты и сказал:
– Ты бы, знаешь, тово… чужие люди, а у тебя этот артистический беспорядок.
Эта показная бутафорская роскошь и всегда какие-то деловые люди, шушуканье. Впечатление ожидания чего-то, что должно разрешиться и сделать всех счастливыми…
И Рита говорила часто: «Вот устроятся дела папы, мы поедем в Ниццу…»; А что это были за дела – никто точно не понимал, хоть при разговоре о них кивали сочувственно и на лица набегала тень глубокомыслия.
И когда Башкирцев, возвратившись из передней, расстегнул три пуговицы жилета и с облегченным видом актера, сошедшего со сцены, весело и громко по-домашнему сказал, – слушай, мамочка, нельзя ли нам чаю сюда, – Дружинин почувствовал, что он как будто состоит в молчаливом против кого-то заговоре.
– Вот, батюшка, видали синицу? Три миллиона нетронутых денег на текущем счету держит… – сказал Башкирцев, разваливаясь в кресле.
– Ну, что он, как? – с тревожным и униженным лицом нерешительно спросила Башкирцева.
– То есть, что это «как»;? – строго сказал Башкирцев и дал этим понять, что вопрос, который затрагивает жена, чисто домашний, неудобный при посторонних.
– Павел Дмитриевич свой человек, – как бы оправдываясь, робко отозвалась жена.
Башкирцев выпустил из надутых щек воздух и расстегнул еще одну пуговицу жилета.
– Устал я сегодня зверски, – сказал он, подавив судорогу зевоты, и, помолчав, обратился к Дружинину с обычной у него уверенностью и определенностью голосовых интонаций: – Хотел я вас, дружище, попросить вот о чем: съездите, пожалуйста, ну, хоть завтра, в дом предварительного заключения и, если вам позволят увидеться с этой девицей, объясните ей, что это очень неделикатно с ее стороны – людей, которые относились к ней хорошо, принимали участие, таскать по судам. Должна же она это понимать.
Рита, перебиравшая у рояля ноты, бросила тетради, выпрямилась и, опустив вдоль тела руки, как бы приготовилась к чему-то. Она значительно взглянула на Дружинина, но тот сидел в кресле согнувшись и глядел не то в пол, не то себе в колени.
– Я бы это сделал и сам, но вы видите, у меня минуты свободной нет… – добавил Башкирцев, так как Дружинин молчал.
Последний и на это ничего не ответил, а когда заговорил, то в это же время начал что-то говорить и Башкирцев, они столкнулись первыми слогами и замолчали…
– Виноват, что вы хотели сказать? – извинился Башкирцев.
– Меня немало удивляет, Илья Андреевич, – глухо и медленно начал Дружинин, не подымая головы, – что вы, не зная даже, как я смотрю на этот предмет, предлагаете мне уже ехать куда-то, что-то устраивать по тому плану, который вам нравится.
– То есть это вы о чем же? – наморщившись, спросил Башкирцев, в первый раз повернув лицо в сторону Дружинина.
– Да видите ли, дело в том, – заговорил Дружинин громче и встал с кресла, – что я на всю эту историю несчастия со Снежко смотрю, кажется, совершенно иначе, чем вы.
– Ах, вот как… тогда извините, пожалуйста, как же вы смотрите?
– Я смотрю так, что долг всякого порядочного человека помочь своему гибнущему ближнему… Тем более что и помощь эта в данном случае выражается в немногом: прийти в суд и сказать, что человек беспомощный, не умеющий заработать, страшно нуждался и выбрал из двух падений то, которое ему казалось легче… я так смотрю. Рита все время стояла, не меняя позы, с немигающими, сделавшимися огромными глазами, и два раза, пока говорил Дружинин, думая, что он кончил уже, сорвавшимся голосом говорила: «Папочка».
– Ну, вы что можете сказать? – обратился к ней Башкирцев, когда Дружининумолк и остановился у окна спиной к комнате.
– Папочка, ведь она действительно страшно нуждалась, ведь нужно же ей помочь, бедной, ведь иначе ее осудят…
– И помощь эта должна выражаться в том, – заговорил раздельно, сухо и металлически звонко Башкирцев, – чтобы в публичном заседании столичного суда mademoiselle Башкирцева выступила как близкий друг подсудимой? Ведь другого положения нет.
Рита подняла к подбородку стиснутые руки и зазвеневшим голосом быстро заговорила:
– Папочка, но ведь ее иначе осудить могут, ведь кто там за нее заступится. Если ее осудят, я никогда себе этого не прощу, мне все будет казаться, что в этом я виновата.
– Что ты говоришь, Рита, – болезненно отозвалась Башкирцева, все время боявшаяся вступить в разговор, видя, что он, благодаря данному Дружининым тону, принимает серьезный, обостренный характер, – что ты говоришь, опомнись! Пусть уж Павел Дмитриевич так говорит, он чужой человек, но как ты нас и себя не жалеешь… ведь это такая грязь, такой ужас!., ведь об этом станут в газетах писать… Я не говорю, конечно, но это может и на делах наших отразиться.
– Не говори глупостей! – сурово оборвал ее Башкирцев. Дружинин быстро и резко обернулся от окна.
– И что вы так настойчиво говорите, Мария Павловна, о грязи? Поверьте, в каждом из нас столько грязи, что ее хватит на сто таких несчастных девушек, как Снежко. Башкирцева вопросительно посмотрела на мужа.
– Я думаю, что тебе самое бы лучшее уйти отсюда, – сказал он дочери.
– Папочка… – вырвалось у Риты, и она, не отымая от подбородка рук, осталась на месте, как будто собираясь броситься перед кем-то на колени.
Все почувствовали, что какая-то струна, соединяющая находящихся в комнате, натянулась до последней возможности и собирается лопнуть.
Башкирцев близко начал рассматривать ногти и заговорил в нос и комкая слова:
– Я уже давно собирался вам сказать, Павел Дмитриевич, (Дружинин в эту минуту подумал, что за несколько месяцев Башкирцев его в первый раз назвал по имени и отчеству)… но все как-то откладывал, теперь это, кажется, наиболее удобно… Башкирцев похлопал пальцами правой руки по щиколоткам сжатой в кулак левой, потом быстро встал и почти весело, глядя прямо в глаза Дружинину, сказал:
– Я нахожу, что ваше общество вредно для моей дочери…
Как ни далек был Дружинин от слияния со всей этой, как он иногда называл, башкировщиной, но в эту минуту он почувствовал, что вся эта хорошо знакомая ему обстановка гостиной, эти люди, которых он видел довольно часто, и даже сама Рита – все вдруг как-то сразу отодвинулось и стало ему совершенно чужим и неприязненным. Сам Башкирцев, уверенный и неприятный, в расстегнутом сверху жилете, напоминал ему почему-то одно ресторанное столкновение, где пожилой господин коммерческо-кабинетного типа говорил с ним изысканно-вежливо, но Дружинин и бывшие с ним и даже лакей каждое мгновение ждали, что сейчас начнется свалка. Как и тогда, Дружинин почувствовал, что ему трудно дышать и легкий приступ какой-то общей нудности, похожей на тошноту. Вместе с тем в голове Дружинина быстро, вместе с приливом крови в виски, созрело решение, что теперь наступил «момент» и он должен сказать все то, что долго копилось в нем против Башкирцева и чего он никогда не собирался говорить ему.
– Вы это находите? – сказал Дружинин чужим голосом и высохшим ртом, и в переводе это значило: я тебя ненавижу…
– Да, я это нахожу, – ясно и резко ответил Башкирцев, прямо глядя в глаза Дружинину, и это означало: я тебя тоже.
– Рита, уйди отсюда, – крикнула Башкирцева.
– Папочка, папочка! – восклицала Рита… Но у двух стоявших друг против друга людей уже началось то «нечто», что не ищет ни логики, ни оснований, не замечает места, времени, разницы возрастов, положений…
– Так я же вам на это скажу, – заговорил Дружинин вдруг окрепшим голосом бешенства, – что самое вредное, самое развращающее, самое грязное общество у вашей дочери это вы сами, ваши темные операции, жулики, с которыми вы водите компанию и устраиваете ваши делишки… бездельная жизнь не по средствам, отсутствие принципов в вас самих, принципов и человечности, – вот отчего она может развратиться, а не от моего общества…
Все на минуту окаменело… Привлеченный голосом Дружинина, в двери выглянул лакей и сейчас скрылся. Башкирцев, зажав в руке горсть брелоков от часов, очевидно, не знал еще, что он сейчас сделает.
– Или вы сию минуту уйдете, или я выброшу вас, как щенка, – сказал он, не разжимая зубов, и глаза его неестественно округлились, лицо стало похожим на кусок вареного мяса – обнаженное от светскости приличий и напускного благодушия, оно представлялось только старым, животно необузданным и страшным.
– Поберегите эти угрозы для ваших лакеев, жалкий пройдоха!.. – крикнул Дружинин.
Башкирцев двинулся вперед, но его схватили сзади чьи-то руки. Это вскочила с места Башкирцева.
– Илья, что ты! Рита, уйди отсюда… – говорила она сквозь слезы.
Рита бросилась на средину комнаты.
– Папочка, Павел Дмитриевич, оставьте, голубчики вы мои, – говорила она, ломая руки и как будто опускаясь на колени.
– Павел Дмитриевич, уйдите, ради бога! – кричала Дружинину Башкирцева.
– Я завтра же еду к градоначальнику и этого мазурика вышлю в двадцать четыре часа, – хрипел Башкирцев.
Дружинин уже не соображал, что он делает, и с побелевшими губами, с пеной в углах рта наступал на Башкирцева.
– Раньше, чем ты поедешь к градоначальнику, я Пташникову напишу… я выведу тебя на свежую воду с твоими дурдинскими коммерциями… не бывать твоему акционерству, врешь!.. Ты его в зятья метишь – и это я скажу, врешь… я все махинации разоблачу, печатно разоблачу… и к процессу Снежко я тебя притяну… там тоже кое-что есть… врешь.
Послышался чей-то женский визг и одновременно хруп и топот ног, что-то тяжелое потащили по полу. Это Башкирцев с изуродованным лицом бросился к Дружинину, но на нем повисли жена и дочь. И странным было в это время совершенное отсутствие прислуги, наполнявшей дом…
– Павел Дмитриевич, уходите, голубчик, уходите, – кричала ему Рита… – оставила отца и потащила Дружинина к выходу…
Забрав в руки пальто, калоши и шапку, Дружинин вернулся к дверям. Рита не пускала его, но он продвинулся до половины и злорадно крикнул:
– О Пташникове, господин акционер, не забудьте, я вам покажу, кто кого вышлет…
Дома Дружинин, не раздеваясь, сел у стола и тупым, нежалеющим укусом зажал зубами мякоть пальца.
Прошло два дня. Дружинин получил письмо. На желтой дорогой бумаге с трепаными концами Башкирцев писал ему своим крупным министерским почерком:
«Павел Дмитриевич, в том, что произошло между нами, я думаю, не виноваты ни вы, ни я. Хорошие отношения не могут рваться между людьми только потому, что они очень нервны и не умеют сдерживать своих порывов. Приходите, мы будем вам очень рады. Сара Бернар даже заболела, бедняжка».
Дружинин ничего не ответил.
На другой день Башкирцев два раза приезжал к Дружинину, но не застал его дома.
Жрец
I
Доктору Чудинову надоела его городская квартира, с зеркалами и альбомами для развлечения посетителей, опротивели и сами пациенты: вновь заболевшие – испуганные, бестолковые; старые, уже привыкшие – уныло-покорные. И все они казались Чудинову ужасно невежественными, неразвитыми, с детской наивностью, которая так не шла к усатым взрослым лицам.
Когда-то эта беспомощность умиляла доктора, заставляла работать; теперь же он, встречая виновато-доверчивый, вопрошающий взгляд больного, делал гримасы и кричал:
– Я не господь бог, поймите вы это раз навсегда. Я – врач, у меня лечебница, а не силоамская купель. Каждому из вас я сто раз твержу: не пейте, даже не нюхайте вина!.. Нет, свое… ну, теперь радуйтесь!..
Случалось, что он бросал на пол инструменты, женщинам говорил дерзости. В больнице его раздражал острый запах йодоформа. А раньше он ему нравился, и жалующимся на него Чудинов говорил, крепко потирая руки:
– Это потому, что вы не врач… А я нюхаю его и говорю – это здоровье, здоровье… Слышишь этот запах, и работать хочется.
Порою на Чудинова нападала тяжелая тупая хандра, грудь давило тошнотное ноющее чувство, и он проклинал свою известность, которая сделала его одиноким.
– Отчего это у меня? – недоумевал Чудинов и, боясь дать себе давно назревший у него, определенный ответ, принимал бром, успокаивал себя, что он заработался и все это пройдет, как только он съездит за границу. Поделиться мыслями ему было не с кем, так как странным показалось бы и неподобающим, чтобы знаменитый Чудинов, «авторитет», вдруг начал жаловаться на скуку и неудовлетворенность в жизни.
Во вторник на страстной его позвали на консилиум к умирающему паралитику. Посещение богатого знатного дома доктором с такой известностью, которой пользовался Чудинов, могло быть шокирующим, и молодой домашний врач, приглашавший его, объяснил, что для семьи больного Чудинов будет в некотором роде инкогнито.
– Допустим, что ваша фамилия Заславский, или нет, подумают – еврей, лучше Павлов, доктор Павлов… хотя это, впрочем, и не понадобится, вероятно… – говорил молодой доктор, входя с Чудиновым в бесшумно распахнувшуюся перед ними гигантскую стеклянную дверь подъезда на Сергиевской.
Чудинова охватила нравившаяся ему с детства прозрачная и пахучая атмосфера богатого барского жилья.
Лениво потягиваясь, от камина поднялся красавец пойнтер и доверчиво тыкался холодным носом в руки раздевавшихся докторов. На овальной вешалке, между ротондами, жакетами, висела шашка в металлических ножнах, несколько военных шинелей. Одна с красной подкладкой и кантами, другая – с вензелями на погонах и орлами на пуговицах.
И это издававшее аромат, брошенное на вешалку платье, странным образом возбуждая мечтательность, говорило Чудинову о владельцах вещей – беспечных, богатых, вероятно, веселых. Оттого, что он не видел их лиц, они представлялись ему интереснее, ярче, типичнее, и у Чудинова шевельнулось чувство, близкое к зависти: почему он сам не гусарский корнет, конфетно-красивый, имеющий успех у этих глупых, но интересных светских женщин?
Подымаясь за лакеем по ковровой дорожке, закрытой полотном и притянутой к отлогой лестнице бронзовыми прутьями, Чудинов думал: «А все же вы зовете меня…»
И то, что он являлся местью за эту праздную, дразнящую его по временам беспечную жизнь, служило ему злорадным удовлетворением.
Чудинов поймал себя на дурных мыслях и подумал то, что часто думал за последнее время: «Да, это старость подходит… преждевременная старость в сорок пять лет. Раньше все было впереди, теперь нечего ждать, и организм требует грубых удовольствий, простой, несложной жизни…»
В полутемной гостиной, с тускло блестевшей мебелью и зеркалами, молодой коллега Чудинова сказал ему: «Одну минутку, я сейчас», – и бесшумно скрылся за портьерой. Не зная, что ему делать – стоять или сесть, Чудинов ожидал минут пять. Постепенно приближаясь, послышался разговор вполголоса, шелест юбок, и с молодым врачом позади к Чудинову вышла высокая девушка в черном, с той уверенной манерой держаться, которая дается воспитанием.
– Простите, maman не совсем здорова, – заговорила она, подавая Чудинову руку без замедления и просто, как здороваются с людьми, позванными по делу. – Я не знаю, право, как быть… Папе теперь немного лучше, он уснул, и доктор Штроок не велел его будить, но maman, если вы позволите, имеет еще к вам просьбу… осмотреть моего больного брата… Может быть, пока папа проснется, вы употребите на это время…
Чудинов угловато и сдержанно поклонился.
– Тогда пройдемте… – Привычным движением носком ботинки она откинула длинное завернувшееся наперед платье и, подобрав его, пошла впереди, легко посту кивая каблуками.
У Чудинова мелькнула мысль, зачем она нужна, когда здесь домашний врач, но сейчас же он понял, что это просто та любезность, по которой его не желали заставлять ждать и выдумали еще больного…
Незаметными, сделанными под обои боковыми дверями они вышли из зала и по трем ступенькам спустились в теплый коридор, далеко лоснившийся своим дубовым паркетом.
Потолок здесь был ниже, и Чудинов вместе с каким-то закулисным запахом краски и старой мебели, идя рядом с молодой девушкой, ощущал острый дразнящий аромат сильных духов, и беспокойное чувство, которое они сообщали, усиливалось шелестом юбок. Чтобы объяснить некоторую дальность пути и подготовить доктора, она говорила:
– Я должна сказать вам – брат мой всегда болен, то есть он болен от рождения… он страдает слабоумием… любезностью, ясно поглядывая в глаза доктору, и так просто и спокойно, как сообщают о насморке, лихорадке.
Чудинов с учтивой готовностью в глазах покачивал при каждом ее взгляде головой, точно ему очень приятно было слышать, что брат его шуршащей шелком, пропитанной духами собеседницы страдает идиотизмом.
– Раньше он был очень спокойным, – говорила она, – теперь же несколько месяцев страшно волнуется. Maman очень встревожена. Если так продолжится, его придется отправить в лечебницу. Недавно укусил за руку сиделку… Вот здесь, направо…
Свернули еще в боковой полутемный коридор. В конце его желтым пятном светила лампочка. Здесь уже тянуло холодом, пахло крысами и чем-то подпольным. Откуда-то из глубины коридора неслись странные рыкающие звуки и чей-то визгливый женский голос не то бранил, не то убеждал кого-то.
– Он страшно беспокоится, – оправдываясь за помещение, говорила барышня, передергивая от сырости плечами. – Иногда ужасно кричит…
Рыканье вперемежку с каким-то поросячьим визгом послышалось близко.
– Видите, чем-то недоволен, – сказала она, остановившись у двери, и постучала в светлый квадрат стекла, завешенного белым.
В двери высунулась женская голова в батистовой наколке.
– К вам можно? я с доктором…
Голова исчезла, и через несколько минут дверь распахнулась, и открывшая ее сиделка посторонилась, давая дорогу…
Вошедших охватил спертый кислый воздух, и самолюбие Чудинова неприятно тронула мысль: «Как мало эта девушка интересуется им, как человеком, как мужчиной, если без особой нужды сама пришла сюда».
У стола, привинченного к полу железными кошками, в кожаном истрепанном кресле сидела огромная голова, подвязанная салфеткой. Рыканье замолкло, и в вошедших впились два белесых глаза, казавшиеся страшными отсутствием ресниц и бровей. Широкий, прямо разрезанный мокрый рот раздвинулся, обнаруживая желтые, клыковатые, лезшие вперед зубы, голый подбородок блестел слюной. На полу валялись игрушки, сделанные тяжело и прочно.
Рядом с креслом идиота стоял служитель, крепкий парень с осоловевшим, глупо-смущенным лицом. И на нем, и на сиделке, и на всей грязной, поцарапанной, упрощенной обстановке лежал отпечаток какой-то обособленной бесправной, не своей жизни. Казалось, эти нездоровые лица прислуги заражены были безумием и отверженностью, живущими в этой комнате…
– Ну здравствуй, Дима, – утрированно весело заговорила сестра, первой направляясь к брату. – Что ты, ужинаешь?..
– Он немного понимает, – тоном демонстранта сказала она, оборачиваясь к Чудинову, и вслед за этим рыканье наполнило комнату.
Идиот тянулся к сестре, вскрикивая в промежутках между хрюканьем:
– Дай, дай… бба бба… д-а-д-а-й…
– Что он хочет? – тревожно спросила девушка, обращаясь к сиделке.
– Вот как видите… – ответила сиделка, – целый день сладу нет. Сегодня с утра связанный сидит…
– А вы давали то, что я вам оставил?.. – озабоченно спросил домашний врач.
– Да как ему дашь? видите…
– Гры-гры, дай, дай, ба, ба, – кричал идиот. Он схватил со стола суповую эмалированную чашку и бил ею по столу.
– Григорий, возьмите же чашку… да что вы смотрите!..
– Дай, дай – гры, гры.
Дикий гик наполнял комнату, мешал говорить.
– Ну зачем же сердиться, не надо кричать, – говорил молодой врач, подходя к больному, но голос его раздавался слабо, заглушаемый, как на улице.
Идиот, обходя врача, тянулся к сестре и бил под столом ногами. Врач пожал плечами и вопросительно посмотрел на Чудинова.
– Я думаю, пока он не успокоится, без горячечной рубашки не обойтись… ведь он весь избился.
Чудинов подумал что-то свое и, не отвечая коллеге, попросил выйти сестру идиота и сиделку.
На минуту идиот умолк, большая голова, как у заводной куклы, поворачивалась, ища чего-то глазами… Потом раздался сорвавшийся пронзительный визг. Идиот уперся в стол ногами, и тяжелое кресло опрокинулось вместе с ним набок.
– Давай еще полотенец! – кричал служителю молодой врач, барахтаясь на полу с пытавшимся подняться идиотом.
– Нет, он положительно становится опасным, – говорил запыхавшийся доктор, оправляя сломанные манжеты, когда идиота связали и вкатили в смежную комнату.
Оттуда слышался придушенный, задыхающийся стон.
– И силища какая!..
– Сколько ему лет? – спросил Чудинов.
– Кажется, двадцать… Вы полагаете, что это…
– Убежден даже… женскую прислугу, во всяком случае, надо убрать.
Чудинов не договорил, как в коридоре послышались встревоженные голоса, дверь распахнулась, и в ней вырос перепуганный бледный лакей в странно не идущем к этой обстановке коричневом фраке с золотыми пуговицами.
– Пожалуйте к барину. Очень худо… – проговорил он, переводя дыхание.
С той озабоченной бесцеремонностью, с которой врачи держатся в квартире умирающего, они шли через комнаты, где суетились люди и слышался испуганный шепот…
Чудинов, торопясь в той мере, сколько этого требовало приличие, шел за своим коллегой и по временам думал, что все это глупо, не нужно и напрасно он поехал на этот консилиум.
В комнате, предшествовавшей помещению больного, Чудинов по свежему сквозняку, женскому истерическому плачу и по тому, как лакеи с глупыми, подделанными под испуг лицами свободно входили в дверь, откуда несло лекарствами, понял, что все кончено. Батюшка с растерянным лицом снимал епитрахиль. Что-то выносили и просили посторониться.
К домашнему врачу подошел молодой гвардейский офицер. Он закрыл глаза, кивнул головой и проговорил: «В месте светлом, в месте злачном»… Второй удар во сне, и его даже не успели приобщить».
– Бедная Зина, она так любила отца…
Молодое лицо офицера светилось сдержанным печальным оживлением и, казалось, говорило: «Да, вот бывает же так, что умирают люди».
В разговоре офицер два раза взглянул на Чудинова, покраснел и нерешительно качнул корпусом. Потом ниже наклонил голову и, точно от удара плетью, быстро повернулся и отошел.
Чудинов, видевший много раз этого человека в своем кабинете голышом, смутился тяжелым неловким смущением пожилого солидного человека.
Пощупав без нужды в кармане стетоскоп, он беспомощно посмотрел на молодого врача.
– Выведите меня, ради бога, из этого лабиринта, – сказал он упавшим голосом.
– Сейчас, сейчас, – шепотом ответил тот, ища кого-то глазами.
В комнату вошла толстая заплаканная дама. Всхлипывая, нюхая спирт, она в то же время отдавала приказания шедшим за нею лакеям.
По тому, как домашний врач, быстро подойдя к ней, зашептал что-то, наклоняясь, и дама торопливо опустила руку в карман, Чудинов понял, что его задерживают, желая уплатить за приезд.
И, как в первое время своей практики при получении гонорара, он вдруг почувствовал мучительный горячий стыд. Сморщившись, втянув голову в плечи, он отвернулся и, стиснув зубы, облитый теплом внезапной ярости, подумал: «Проклятая… отвратительная профессия, подлая, гадкая. Всем людям за их труд платят открыто, как следует, а здесь суют в руку крадучись, непременно бумажку, и конфузятся чего-то. – Да и за что́ мне здесь платить?»
Решивши не стесняться, он круто повернул и, глядя под ноги, пошел к выходу.
В той суматохе, которая бывает в домах, где только что умер человек, на Чудинова никто не обращал внимания, и он шел, большой, высокий и мрачный, с таким видом, точно решил прибить всякого, кто станет на его дороге.
В знакомом Чудинову зале, у рояля на низеньком табурете, сидела девушка, сестра идиота. Согнувшись, она закрылась платком, и стан и плечи ее вздрагивали. Возле стоял офицер и в замешательстве, не зная, очевидно, что ему делать, время от времени касался рукой волос девушки.
На лестнице Чудинов услышал за собою торопливое бряцанье шпор и, обернувшись, увидел покрасневшие, робкие и просящие глаза.
– Ради бога, доктор, – проговорил, захлебываясь и давясь, офицер, – когда я могу вас видеть?..
Чудинов осмотрел его с головы до талии тяжелым, неприязненным взглядом и глухо сказал:
– Зачем?
Офицер заволновался.
– Ах, доктор, мне очень, очень нужно с вами поговорить.
Чудинов повернулся и, уже не оборачиваясь, сказал:
– Если очень нужно, когда хотите, сейчас, завтра…
II
Когда Чудинов по вечерам возвращался домой, его всегда неприятно настраивала темнота и безлюдная гулкость огромной квартиры.
– Точно депо какое, – сердился он на свое жилище. Медля раздеваться, он обыкновенно просматривал в передней корреспонденцию и визитные карточки и недовольно бросал старику лакею:
– Говорил, не пускать этого больного! – или: – Зачем мне присылают объявления о всяких дешевых предметах и зеленных лавках? Выбрасывать к черту! – И чем терпеливее был слуга, тем больше сердился хозяин.
Переодевшись в просторную серую тужурку и меховые туфли, Чудинов велел затопить камин и принести чай. Потом достал из гардероба музыкальный ящик, долго перебирал железные шершавые кружки пьес и поставил «Дунайские волны».
Это развлечение Чудинов придумал себе в последнее время и почему-то стеснялся его даже перед прислугой.
Мелодичное треканье инструмента, похожее на бульканье дождевой воды, напоминало Чудинову губернский городской сад, где он гулял семинаристом, рождественские вечера в общественном собрании и многое другое, чего он ранее не ценил и считал обыкновенным, а теперь эти воспоминания вызывали в нем щемящую сладкую грусть. Однажды, осматривая светскую барышню, перепуганную, растерявшуюся, с распухшими от слез глазами, Чудинов вдруг поднял голову и серьезно спросил:
– Вы какими духами душитесь?
Этим вопросом он удивил и себя и пациентку, а потом купил флакон апопанаксу и по вечерам, слушая «Дунайские волны», сидел и нюхал надушенный платок. В такие минуты Чудинов думал: «Сколько лет это было назад?» Насчитывал двадцать два, двадцать пять, сбивался и опять считал. И мысленно, пересчитывая вновь длинную вереницу годов, он невольно подводил итог тем радостям жизни, которые он постепенно терял.
Вот скоро пасха… Как это было радостно в прежнее время и как безразлично теперь. Пасхальная ночь… такая веселая, беспокойная ночь – а каникулы, ночевки на сеновале… Вспомнились ему первые студенческие годы. На вакациях он жил однажды у добрых стариков помещиков, приготовляя их внука в кадетский корпус. В комнате, которую отвели Чудинову, на окнах висели белые невинные занавесочки, а по стенам старые, в лиловых рамках с золотым бордюрчиком иллюстрации к «Евгению Онегину». Здесь всегда пахло сухими васильками, ореховой оклейкой мебели и чем-то старым, удивительно покойным. И часы тикали, как будто говорили: здесь хорошо, здесь хорошо.
Утром, с первыми лучами солнца, за окном на бузине и кустах сирени воробьи подымали возню. Было еще рано, стоял утренний холод, но Чудинов вскакивал с таким чувством, как будто боялся что-то пропустить. Часто, не одевшись еще, радуясь своей молодости и июньскому светлому утру, он отплясывал по комнате трепака и потом, улыбаясь сам себе в зеркало, оправленное в облупившуюся раму красного дерева, говорил:
– Вот дурак, не правда ли?
Да, вот и все. А потом тяжелая лямка, каторжный труд, греческие кухмистерские и одиночество, одиночество, одиночество… Теперь ему уже под пятьдесят; он известен, деньги, при желании, потекут к нему водопадом, но у него нет ни друзей, ни близких, даже нет просто хороших знакомых. То, что другие тратят на устройство своего личного, теплого логовища, – энергию, смелость, молодость, даровитость, он отдал «святому служению науке». Да-с.
Волны Дуная от края до края,
Тихо играя и тихо сверкая… —
фальшиво, в нос, с какой-то горькой злобой мурлыкал Чудинов. Далеко в передней затрещал звонок. Чудинов насторожился и, когда услышал, что лакей разговаривает с кем-то посторонним, поспешно спрятал музыкальный ящик в шкаф. Обыкновенно, бывая по вечерам дома, Чудинов отдавал приказание никого не принимать, но на самом деле это была одна форма, так как на все звонки он выходил сам. Бессознательно ему казалось, что среди этой массы осаждавших его посетителей, просящих, спрашивающих, он пропустит кого-либо интересного или просто нового. Так, однажды к нему пришел старый священник – его товарищ, в другой раз его ученик – инженер.
Старик лакей выпроваживал уже посетителя на лестницу, когда в переднюю вошел Чудинов и недовольно спросил:
– Кто там?
Из дверей с Чудиновым смущенно раскланялся молодой врач, возивший его на консилиум.
– А я думал, офицер, – сказал Чудинов, – что ж, входите.
Раздеваясь и чего-то конфузясь, доктор объяснил, что он привез гонорар и приехал, «собственно, на минутку».
– А я предполагал, что ваш покойник воскрес и вы опять собираете консилиум, – попытался сострить Чудинов, но вышло тяжело и непонятно… Молодой врач улыбнулся из приличия и протокольно начал объяснять конечную причину смерти его пациента.
Выходило так, что его в чем-то не послушали, сделали горячие ванны, и оттого смерть наступила раньше, чем следовало ожидать…
Чудинов долго смотрел на гладкий лысеющий лоб молодого доктора, на его усталое нездоровое лицо и вдруг, перебивая его речь, спросил:
– Скажите, пожалуйста, вы были в Италии?
Доктор не ожидал этого вопроса и потому, осекшись, почти с тревогой сказал:
– Нет, а что?
Чудинов помолчал, побарабанил пальцами и потом уже ответил:
– Хорошо там, должно быть…
Доктор внимательно посмотрел на Чудинова и, чтобы не удлинять паузы, сказал:
– Вы тоже не были?
– Не был…
Помолчали…
– За границей я был только в Германии, – начал молодой врач, но Чудинов перебил его с насмешливым огоньком в глазах:
– И конечно, учились?
– Да, я слушал у профессора Вагнера и работал в Берлинской королевской клинике…
Чудинов шумно встал и возбужденно заговорил, шагая по своей большой приемной:
– Послушайте, вы говорите все не то. Скажите лучше вот что. Вы сколько лет практикуете? Десять, двенадцать?.. восемь?.. ну, это все равно. Скажите мне, пожалуйста, искренно, – только скажите, зачем вы все это делаете?








