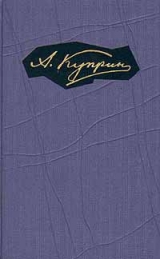
Текст книги "Том 3. Произведения 1901-1905"
Автор книги: Александр Куприн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Он хотел зажечь лампу, но Этля услышала тарахтенье спичек и впотьмах вырвала у него из рук коробку.
– Ша, дурной! – закричала Этля. – Или ты хочешь, чтобы весь базар узнал, что у нас делается?..
Когда Цирельман вышел, наконец, на крыльцо, он не узнал ни своего дома, ни безлюдной, пустынной улицы. Бледный молодой месяц стоял над местечком, освещая занесенные снегом крыши и белые, казавшиеся нежно-синими стены. Его тихие лучи мертвым, дробящимся блеском отражались в черных стеклах окон, точно в открытых, но слепых глазах. Где-то на краю местечка монотонно и гулко скрипел снег под ногами ночного прохожего. Все стало иным, новым, все точно притаилось и выжидательно подглядывало за дрожащим от холода и от страха человеком. И опять Цирельман почувствовал себя вырванным из границ обычной, прочной и спокойной жизни и обреченным на неведомое, полное ужаса существование.
– Что так долго? – спросил сурово Файбиш. – Ну, не торчи же на лестнице, как осел! Садись вот тут, на рогожи! Да смотри: под тобой веревки, не запутайся!
У калитки стояли легкие сани, узкие и высокие спереди, но широкие и низкие к заднему концу. Запряженные в них две лошади порывисто мотали головами, косились назад и озабоченно двигали острыми ушами: должно быть, и они чувствовали необычайное настроение этой ночи. Файбиш сел впереди, боком, свесив наружу ноги; а Цирельман поместился сзади в неудобной позе, держась широко расставленными руками за поручни.
«Все пройдет, все окончится», – думал актер; но эта мысль скользила где-то поверху, не проникала глубоко в сознание и не успокаивала.
– Ну, час добрый! – сказал сердито Файбиш, разбирая вожжи.
Полозья пронзительно и жалобно заплакали под санями, и лошади тронулись так осторожно, медленно и беззвучно, как будто бы они боязливо и внимательно прислушивались к каждому своему шагу.
IV
Навстречу саням потянулись белые домики местечка, соломенные крыши и низкие плетни, из-за которых свешивались на улицу белые, облепленные снегом деревья. В тонком свете месяца, в отзывчивой морозной тишине, в безмолвии спящих домов была все та же новая для Цирельмана, грозная, стерегущая жизнь. Скоро окончились последние лачуги местечка, и Файбиш пустил озябших лошадей рысью. Мелькнула в стороне стройная церковь с зеленой, тускло блестевшей крышей, показалась вдали низкая кирпичная ограда католического кладбища, пробежали мимо жердяные изгороди выгона. Сани выехали на широкую почтовую дорогу, на которой старые следы от полозьев блестели далеко впереди лошадей, точно металлические полосы.
Файбиш поправился на своем сиденье, подбил под себя полы войлочного балахона и повернулся к Цирельману. На лице балагулы, в пространстве между лисьей шапкой и заиндевевшей бородой, только и виднелись два маленьких глаза, и в каждом из них острой, блестящей точкой светилось отражение месяца.
– Вижу я, Цирельман, что с вас плохой помощник, – заговорил Файбиш по-русски. – Эх, был у меня товарищ Иосель Бакаляр!.. Впрочем, что толковать! Слушайте же: когда мы переедем через Збруч и остановимся, вы будете ждать около лошадей. А потом я вернусь, и вы поможете мне увязать товар в рогожи.
– Так. Я понимаю, господин Файбиш. Так, так, – кивал головой Цирельман.
– Смотрите хорошо за лошадьми! Лошади молодые и пугливые, особенно правая. Не выпускайте из рук вожжей! Если будет гармидер (шум), держите крепче!.. Стрелять умеете?.. Цирельман глядел на две яркие, колючие точки в глазах Файбиша и не мог от них оторваться, точно из них исходила какая-то сковывающая власть. Он слышал слова балагулы и держал их в памяти, но не понимал их смысла.
– Я спрашиваю вас, умеете ли вы стрелять из револьвера? Верно, нет?
Цирельман хотел ответить утвердительно. Ему приходилось стрелять раньше на сцене, убивая себя и других актеров холостыми зарядами. Но тотчас же ему вспомнились слухи о том, как Файбиш убил солдата, и в нем шевельнулся ужас, вместе со свойственным всему еврейскому народу наследственным отвращением к крови.
– Нет, господин Файбиш, я не могу стрелять. Я не умею и… и боюсь, – ответил он робко. Файбиш укоризненно покачал головой.
– Це-це-це! – с упреком и с сожалением зачмокал он языком. – Какой вы! Ну, да все равно… Когда мы поедем назад, следите, чтобы веревки не развязались. Если все кончится хорошо, имеете получить с меня пятнадцать кербеле.
– Вы обещали, кажется, двадцать пять… – попробовал несмело возразить Цирельман.
– Эге, двадцать пять! А десять не хотите? Спрашивается, какая мне с вас помощь? Но, ша!.. молчите только! Потом мы будем видеть.
Узкая дорога свернула с почтового шляха налево. Навстречу саням ровной, высокой стеной спокойно приближался помещичий лес, черный снизу, а сверху обремененный снежными шапками. В узком и мрачном коридоре, между двумя рядами толстых сосновых стволов, было темней, тише и теплее. Бледное сияние месяца тонкими, неправильными узорами прорезывалось сквозь густые тени деревьев и местами слабо и нежно серебрило чешую коры. Иногда через дорогу протягивалась, точно огромная рука с растопыренными белыми пальцами, отягченная снегом ветка. Она задевала лошадей по головам и, сделав широкий, упругий размах, осыпала обоих седоков мягким, холодным пухом. По обеим сторонам дорожки, справа и слева, в нескольких шагах от саней, деревья смыкались в черную, непроницаемую массу, в которую страшно было смотреть.
Цирельман лег на спину. Вверху, между зубчатыми ветками, извивался прихотливым путем просвет далекого темно-синего неба с большими дрожащими звездами. Вершины сосен тихо и разнообразно шатались, как будто деревья покачивали головами с различным выражением: одни задумчиво и неодобрительно, другие с угрозой, третьи медленно и важно кланялись. Порою Цирельман закрывал глаза, и тогда ему через несколько минут начинало мерещиться, что сани замедляют ход, потом только вздрагивают на одном месте, и затем он начинал двигаться назад, в противоположную сторону. И хотя Цирельману был с детства знаком этот физический обман, но ему приятно было мечтать, что, по какому-то волшебству, он и в самом деле едет назад, к местечку, и что неожиданно окончится и эта жуткая поездка, и эта бесконечная, тревожная ночь.
Файбиш придержал лошадей, осмотрелся кругом, привстал на санях и вдруг круто, без дороги свернул направо. Лошади увязли по брюхо в снегу, мотая головами и фыркая, и Цирельман услышал теплый, едкий запах конского пота. Старый актер совсем не мог теперь представить себе места, по которому ехал. Он чувствовал себя бессильным и покорным, во власти сидевшего впереди, знакомого и в то же время чужого, непонятного, страшного человека.
Лес окончился. Впереди ровным белым скатом спускался вниз пологий берег реки, которая широко и пустынно простиралась вплоть до противоположного, австрийского берега. На той стороне еле заметно чернели разбросанные здания, и в двух-трех местах красными точками светился огонь. Луны не было видно, – ее закрывал лес, бросавший через всю реку сплошную, глубокую тень. Далеко влево, вся в свету, виднелась плотина, отделенная от снега резкой, тонкой чертой тени. Она тянулась через всю реку, соединяя два государства, и Цирельман знал, что по ней всегда, днем и ночью, ходят солдаты – австрийский и наш.
Лошади глубоко провалились в снег, но быстро и испуганно выкарабкались из него, усиленно мотая головами и храпя. Тотчас же копыта их застучали тверже. По легкому ходу полозьев Цирельман догадался, что сани въехали на лед. Он не сводил глаз со светлой, черневшей своим откосом на снегу плотины и все крепче впивался пальцами в поручни. Файбиш стоял в санях и тоже глядел на плотину. Его короткие руки дрожали от усилия, с которым он сдерживал рвавшихся вперед лошадей.
– А-а-а-а! – пронесся вдруг над рекой высокий, точно стонущий человеческий крик. В нем одновременно слышался и испуг одинокого, затерявшегося среди ночи человека, и угроза. Файбиш, весь перегнувшись назад, натянул вожжи. Лошади заскользили и заскребли по льду задними ногами и стали.
– А-а-а! – повторился стонущий крик. Цирельман увидел, как в одном месте над плотиной голубоватый воздух разорвался в узкую огненную трещину. Что-то страшное, никогда им не слыханное, жалобно пропело у него над головой, и сейчас же вслед за этим звуком глухой грохот выстрела тяжело прокатился по реке.
Файбиш яростно, с необыкновенной силой заскрежетал зубами.
– Все к черту! – захрипел он сквозь стиснутые челюсти.
И вдруг, подняв кверху кулак, балагула выкрикнул во всю мочь легких бешеное, циничное, бессмысленное ругательство…
От сильного и неожиданного толчка Цирельман упал на спину и опять увидел над собой темное, спокойное небо с дрожащими звездами. Лошади летели нестройным галопом, высоко подбрасывая задами; а Файбиш стоял в санях и, наклонившись вперед, без остановки, со всего размаха стегал кнутом. Цирельман обезумел от ужаса. Он вскочил на колени, судорожно оплел руками ноги Файбиша и вдруг, сам не узнавая своего голоса, закричал пронзительно и отчаянно.
– Ой, не бейте меня! Ой, ратуйте! – кричал он, захлебываясь и давясь от плача. – Ой, ой, ой, господин Файбиш! Милый, дорогой, драгоценный Файбиш! Ой, убивают, ратуйте! Файбиш, вы сильный, как бог, вы храбрый, как лев! Ой, ой, спасите меня!
– Пусти меня, черт!.. Оставь! – хрипел Файбиш. Его сильная, жесткая рука комкала губы и нос Цирельмана; но актер мочил слюнями и кусал его пальцы и, вырывая из них на мгновение рот, кричал все громче и безумнее и крепче прижимался лицом к шершавому балахону и к сапогам Файбиша. А лошади все неслись, заложив назад уши, и торчавший из-под снега прошлогодний камыш хлестал по бокам саней.
– Молчи, собака!.. Убью! – рычал, задыхаясь от борьбы, Файбиш.
Ему удалось свободной рукой вытащить из кармана балахона револьвер. Он взвел курок и ткнул дулом в лоб Цирельмана.
– Слушай, подлец… я выстрелю! – гневно пригрозил балагула. – Замолчи, или я выстрелю, черт бы тебя побрал!
Но актер не переставал кричать и цепляться за ноги Файбиша. Ужас, овладевший им, совершенно помрачил его рассудок и сковал память. Он не помнил, как Файбиш колотил его стволом револьвера по голове, не слыхал его угроз и очнулся только тогда, когда после жестокого удара ногой в спину он покатился боком по льду, сметая своим телом снег.
Он сел и тотчас же замолчал. Возле него возвышалась густая стена камыша; сухие высокие стебли, волнуясь и шелестя, то наклонялись все разом к нему с участливым любопытством, то отшатывались в испуге назад. Сидя на льду и упираясь в него ладонями, Цирельман оглянулся вокруг себя. Дикого, звериного ужаса уже не было в его душе, – его увозил с собою Файбиш, лошади которого глухо и вразброд стучали вдали копытами, – но было удивление, грусть и чувство беспомощного одиночества. Цирельман упал как раз у берега, вдоль которого шла широкая, избитая подковами дорога. Река делала в этом месте излучину, а стена леса заворачивала назад. За пологим, ровным берегом видно было отсюда огромное белое поле; в конце его, на самом горизонте, тянулась темная полоса дальнего леса. Луна, готовая уже закатиться, стояла над этой низкой, неровной чертой, бледная, точно утомленная, и было что-то невыразимо-печальное и безнадежное в этом пустом, белом поле, в дальнем лесе и в золотистом сумраке, окружавшем усталую луну. И скорбь и сознание своего одиночества все сильнее наполняли душу Цирельмана. Он не сводил глаз с узкого, нежного серпа, прижимал руки к груди и шептал давно забытые слова великой молитвы:
– Шма, Исроэль, Адонаи элегейну, Адонаи хот! Слушай, Израиль, бог наш, бог сильный!
Что-то теплое капнуло ему на руку. Он поднял ее к глазам и увидел черное пятно. Только теперь он услышал боль в переносице, в темени и в подбородке и вспомнил, как его бил по голове револьвером Файбиш. Он взял в руку горсть снега, потер им лицо, и снег стал темным. И долго сидел таким образом Цирельман, унимая кровь. Глаза его, полные слез, были устремлены на луну, готовую сесть, а в груди разливалась большая скорбь. Почему-то вспомнилась ему вся его бестолковая жизнь, скитанье из города в город, пьянство, кривлянье в погребах и трактирах, и эта жизнь представилась ему такой же темной и долгой, как и вся сегодняшняя страшная ночь… Вдруг его ухо уловило далекие, дробные и частые звуки копыт; несколько лошадей тяжело скакали по прибрежной дороге. Машинально, почти не сознавая, что он делает, Цирельман на животе прополз в камыши и растянулся ничком, уйдя лицом в холодный мягкий снег. И тотчас же над самой его головой пронесся, сотрясая лед и бряцая оружием, отряд верховых солдат. Они говорили между собою все разом, резкими, отрывистыми, сердитыми голосами; но слов их Герш не разобрал. Он лежал лицом в снегу и, чувствуя его талый запах, шептал про себя молитву. Солдаты быстро промчались. Когда топот их лошадей, постепенно теряясь вдали, стал еле слышным, Цирельман поднялся на колени. Но то, что он увидел, заставило его оцепенеть от ужаса. Прямо на него скакал одиночный всадник, вероятно отставший от товарищей. Его огромная худая лошадь неслась тяжелым галопом, вытянув вперед длинную шею с острой мордой и прижатыми назад ушами. Она так близко пролетела возле Цирельмана, что тот ясно увидал ее раздувшиеся ноздри и большие глаза, блестевшие диким испугом, и ветер от ее быстрого бега пахнул актеру в лицо. Солдат сидел, нагнувшись вперед, почти лежа на шее лошади. Его сабля равномерно, с металлическим дребезжанием, билась о седло. Но он не заметил еврея, стоявшего на коленях среди густого камыша, и промчался мимо, крича что-то вслед своим товарищам…
Только часа через три, иззябший и обессиленный, добрался Цирельман до местечка. Ночь была теперь так темна, что даже белых стен домов нельзя было различить в ее мраке. Цирельман уже повернул в свою улицу, как сзади него заскрипели полозья.
Одним прыжком очутился актер в глубокой, занесенной снегом канаве и прижался к плетню.
Это возвращался избегнувший погони Файбиш. Лошади его были покрыты пеной и дышали часто и прерывисто. Острые глаза старого контрабандиста различили съежившуюся в темноте фигуру. Он придержал лошадей и окликнул вполголоса:
– Эй! Кто здесь прячется у забора? Это ты, Цирельман?
Герш затаил дыхание и еще плотнее прижался к изгороди.
– О, свинья! Трус! Предатель! – злобно зашипел Файбиш. – На же, на!.. Получи!..
Кнут резко свистнул в воздухе. Файбиш бил широко и размашисто, тем движением, каким он обыкновенно стегал собак. Но Герш быстро повернулся к балагуле задом, сгорбился, спрятал шею в плечи, и жестокие удары пришлись ему по спине и по рукавам.
– Будь ты проклят, трус, гадина! – бросил ему напоследок Файбиш, трогая лошадей. – Если бы не осечка, ты бы теперь валялся на реке, как дохлая собака!..
Через четверть часа Цирельман уже лежал под теплым бебехом рядом с Этлей, которая спала или притворялась спящей. Но холод долго не выходил из его назябшегося за много часов тела, а ноги были ледяными и точно деревянными. Когда же тепло окончательно проникло в его грудь и живот и он вспомнил сегодняшнюю дорогу, и острый блеск в глазах Файбиша, и выстрел с плотины, и печальную луну над лесом, и солдата, мчавшегося, точно библейское видение, на огромной лошади с вытянутой шеей, – то ему показалось невероятным, что это именно он, а не кто-то другой, посторонний ему, испытал все ужасы этой ночи. Вспомнилось ему также, как он убеждал самого себя, что должна когда-нибудь окончиться и эта ночь, и эта поездка… и, с удовольствием ощущая живую теплоту, шедшую от тела Этли, он сжался в комочек и засмеялся под бебехом тихим, радостным смехом.
Конокрады
I
Вечером, в середине июля, на берегу полесской речонки Зульни лежали в густом лозняке два человека: нищий из села Казимирки Онисим Козел и его внук, Василь, мальчишка лет тринадцати. Старик дремал, прикрыв лицо от мух рваной бараньей шапкой, а Василь, подперев подбородок ладонями и сощурив глаза, рассеянно смотрел на реку, на теплое, безоблачное небо, на дальний сосновый лес, резко черневший среди пожара зари.
Тихая река, неподвижная, как болото, вся была скрыта под сплошной твердой зеленью кувшинок, которые томно выставляли наружу свои прелестные, белые, непорочные венчики. Лишь на той стороне, у берега, оставалась чистая, гладкая, не застланная листьями полоса воды, и в ней мальчик видел отраженные с необыкновенной отчетливостью: и прибрежную осоку, и черный зубчатый лес, и горевшее за ним зарево. А на этом берегу, у самой реки, в равном расстоянии друг от друга стояли древние, дуплистые ветлы. Короткие прямые ветки топорщились у них кверху, и сами они – низкие, корявые, толстые – походили на приземистых старцев, воздевших к небу тощие руки.
Тонким, печальным свистом перекликались кулички. Изредка в воде тяжело бултыхалась крупная рыба. Мошкара дрожала над водой прозрачным, тонким столбом.
Козел вдруг приподнял голову с земли и уставился на Василя оторопелым, бессмысленным взглядом.
– Ты что́ сказал? – спросил он невнятно, хриплым голосом.
Мальчик ничего не ответил. Он даже не обернулся на старика, а только медленно, с упрямым, скучающим выражением опустил и поднял свои длинные ресницы.
– Скоро придут, – продолжал старик, точно разговаривая сам с собой. Треба, пока что, покурить.
Он вяло перевалился на бок и сел на корточки, по-турецки. На обеих руках у него были отрублены все пальцы, за исключением большого на левой руке, но этим единственным пальцем он ловко и быстро набил трубку, придерживая ее культяпкой правой руки о колено, достал из шапки спички и закурил. Сладковатый, похожий сначала запахом на резеду, дымок махорки поплыл синими струйками в воздухе.
– Что же, ты сам видел Бузыгу? – как будто нехотя спросил Василь, не отводя глаз от заречной дали.
Козел вынул трубку из рта и, нагнувшись на сторону, звучно сплюнул.
– А как же? Известно, сам… Ух, отчаянный человяга. Совсем как я в старые годы. Гуляет по целому селу, пья-а-ный-распьяный… как ночь!.. Жидков-музыкантов нанял, те попереди его зажаривают, а он себе никаких. В правой руке платок, сапоги в новых калошах, на жилетке серебряная чепка. Пришел до Грипы Ковалевой: «Гей, курва, горилки!» В стакан бросил серебряного рубля, горилку выпил, а деньги музыкантам кинул. Хлопцы за ним так чередой и ходят, так и ходят… Косятся, как те собаки на волка, но а ни-ни! Ничего не могут, только зубами на него клямкают.
– О? – воскликнул с восторженным недоверием мальчик.
– Обыкновенно… А ему что́? О-го-го!.. Ему плевать на них. Я твоих коней не крал? – значит, и ты до меня не цепляйся. От, если бы я твои кони украл да ты бы словил меня, – ну, тогда твой верх: имеешь полное право бить. А то – не-ет, шалишь… Это не проходит.
Мальчик молча глядел на реку. На ней уже начали покрикивать, сперва изредка, точно лениво, звонкие лягушечьи голоса. Вечерний туман дымился в камыше и легким, как кисея, паром вился над водой. Небо потемнело и позеленело, и на нем яснее выступил незаметный до сих пор полукруг молодого месяца.
– Козел, а правду говорят, что у Бузыги ребра двойные? – спросил задумчиво Василь. – Что будто его никогда убить нельзя? Правда тому?
– Истинная правда. Как же иначе? У него все ребра срослись, до самого пупа. Такого, как Бузыга, хоть чем хочешь бей, а уж печенок ты ему, брат, не-ет… не отобьешь. Потому что у него печенки к ребрам приросли. А у человека печенки – это первая штука. Если у человека отбиты печени, то тому человеку больше не жить. Заслабнет, начнет харкать кровью: ни есть, ни пить не может, а там и дуба даст…
Мальчик пощупал свою грудь, тонкие бока, впалый живот и протяжно вздохнул.
– А то еще вот, говорят, что двойная спина бывает… как у лошадей, сказал он печально. – Правда это, Козел?
– Это тоже правда. Бывает.
– А у Бузыги?
– Что у Бузыги?
– У него тоже двойная спина?
– Ну, уж этого я не знаю. Не могу сказать.
– Я думаю, у него тоже двойная…
– Все может быть, – покачал головой старик. – Все может быть… Главное, Бузыга – он хитрый на голову. О-го-го! Это такой человек! В Шепелевке он раз попался… Хотя, скажем, и не попался, а выдал его один хлопец. Из-за бабы у них зашлось. Накрыли его с конями в поле… Было это вечером. Ну, обыкновенно, привезли в хату, зажгли огня и стали бить. Всю ночь били насмерть, чем попало. Мужики, если бьют, так уж у них, известно, такой закон, чтобы каждый бил. Детей, баб приводят, чтобы били. Чтобы, значит, потом всей громаде зараз отвечать. Вот, бьют они его, бьют, устанут, давай горилку возле него пить, отдышутся трошки – опять бьют. А Митро Гундосый видит, что Бузыга уже ледве дыхает, и говорит: «Почекайте, хлопцы, как бы злодий у нас не кончился. Заждите, я ему воды дам». Но Бузыга – он хитрый – он знает, что если человеку после такого боя дать воды напиться, то тут ему и смерть. Справился он как-то и просит: «Православные хрестьяне, господа громада, как бы вы мне поднесли одну кляшечку горилки, а там хоть снова бейте. Чую я, что конец мой подходит, и мне хочется перед смертью в опушный раз попробовать вина». Те засмеялись, дали ему склянку. Потом уже больше не мучили – все равно, видят, человек и сам помирает, – а отвезли его в Басов Кут и бросили, как то стерво. Думали, там и кончится. Однако ничего: не поддался Левонтий, выдыхал… Через два месяца у Митро Гундосого пара коней сгинула. Добрые были кони…
– О! Это Бузыга? – радостно вскрикнул мальчик.
– Кто бы ни был, не наше дело, – значительно и злобно возразил Козел. Приходил после того Гундосый до Бузыги, в ногах у него валялся, ноги ему целовал. «Возьми гроши, только укажи, где кони. Ты знаешь!» А тот ему отвечает: «Ты бы, Митро, воды пошел напился». Вот он какой, Бузыга!..
Старый нищий замолчал и стал с ожесточением насасывать трубку. Она сочно хрипела, но не давала уже больше дыму. Козел вздохнул, выколотил трубку о свою босую подошву и спрятал ее за пазуху.
Лягушки заливались теперь со всех сторон. Казалось, что весь воздух дрожал от их страстных, звенящих криков, которым вторили глухие, более редкие, протяжные стоны больших жаб. Небо из зеленого сделалось темно-синим, и луна сияла на нем, как кривое лезвие серебряной алебарды. Заря погасла. Только у того берега, в чистой речной заводи, рдели длинные кровавые полосы.
– Козел, я, когда вырасту, тоже буду коней красть! – произнес вдруг тихим, горячим шепотом мальчик. – Не хочу милостыню собирать. Я буду как Бузыга.
– Тес… постой… – встрепенулся старик. Он поднял кверху свой страшный палец и, наклонив голову набок, внимательно прислушался. – Идут!
Василь быстро вскочил на ноги. В густой заросли ивняка чуть слышно шлепала вода под чьими-то шагами. Мужские голоса говорили глухо и монотонно.
– Гукни, Василь, – приказал старик. – Только не швидко.
– Гоп-гоп! – крикнул мальчик сдавленным от волнения голосом.
– Гоп! – коротко отозвался издали сдержанный спокойный бас.
II
Кудрявые верхушки лозняка закачались, раздвигаемые осторожной рукой. Из кустов на притоптанное, сухое местечко, где дожидались нищий и мальчик, бесшумно вынырнул, согнувшись вдвое, коротконогий, бородатый, неуклюжий с виду мужичонка в рваной коричневой свитке. Прямые, жесткие волосы падали у него из-под капелюха на брови, почти закрывая черные косые глаза, глядевшие мрачно и недоверчиво исподлобья. Голову он держал наклоненной вниз и немного набок, по-медвежьи, и когда ему приходилось посмотреть в сторону, то он не повертывал туда шею, а медленно и неловко поворачивался всем телом, как это делают люди-кривошеи или больные горлом. Это был Аким Шпак, известный пристанодержатель и укрыватель краденого. Он же указывал верные места для дела и «подводил» конокрадам лошадей.
Шпак пристально, с враждебным видом оглядел старика и мальчика и, затоптавшись на месте, повернул назад свое несуразное тело с неподвижной шеей.
– Бузыга, сюда! – сказал он сипло.
– Здесь! – весело, по-солдатски, ответил низкий, самоуверенный голос. Бывайте здоровенькие, панове зло́дiи.
На прогалину вышел рослый рыжий человек в городском платье и высоких щегольских сапогах. Он протянул было руку Козлу, но, заметив свою ошибку, тотчас же спохватился.
– А, черт… Я забыл, что тебе нечем здоровкаться, – сказал он небрежно. – Ну здравствуй так. А это тот самый хлопец, про которого говорили? – показал он на Василя.
– Тот, тот, – поспешно закивал головой старый нищий. – О, это такой проворный хлопец… все равно как пуля. Что ж, седай, Левонтий?
– Сяду – гостем буду; угощу горилкой – хозяином буду, – равнодушно пошутил Бузыга, опускаясь на землю. – Аким, достань там, что есть.
Аким вынул из холщовой торбы полштоф водки, несколько каленых темных яиц, половину большого хлеба и положил все это на траву, подле Бузыги. Козел жадно следил за каждым движением и своим единственным пальцем нервно теребил седой подстриженный ус.
– А я уж думал, что не придешь ты, – сказал старый нищий, обратив лицо к Бузыге, но не отрывая глаз от рук Акима. – Видел я тебя днем в Березной… пьяней вина… Ну, думаю, не придет вечером Бузыга. Куда ему… Х-ха! А по тебе и не видно.
– Меня горилка не берет, – вяло уронил Бузыга. – Прикидывался я. Да и спал до вечера.
– У Грипы спал?
– А тебе что? Ну, у Грипы.
– Нет, я так, ничего… Любят тебя бабы.
– А черт их дери. Пускай любят, – равнодушно пожал плечами Бузыга. Или тебе завидно?
– Где уж мне! Я забыл, как и думают про это… Небось не пускала она тебя?
– Еще бы! Меня не пустишь!.. – Бузыга прищурился и самоуверенно мотнул подбородком вверх. – Пей лучше горилку, старый. Ты, я вижу, все около чего-то крутишься. Спросил бы прямо.
– Чего мне спрашивать? Мне нечего спрашивать. Я просто так… Пью до вас, пане Бузыга. Бывайте здоровенькие, пошли вам бог успеха во всех делах ваших,
Старик ухватил своим пальцем, как подвижным крючком, горлышко бутылки и дрожащей рукой поднес его ко рту. Долго цедил он по каплям сквозь зубы водку, потом передал бутылку Бузыге, утерся рукавом и спросил с деланной развязностью:
– Пытала она тебя, куда собрался?
– Кто?
– Да Грипа же.
Бузыга внимательно и серьезно поглядел старику в лоб.
– Спрашивала. Ну? – протяжно произнес он, сдвигая брови.
– Да я же… Да господи… я просто так себе… Я же знаю, что ты все равно не скажешь…
– Вы бы заткнулись лучше, дядько Козел, – веско посоветовал, глядя куда-то вбок, молчаливый Аким.
– Ой, хитришь ты, старая собака, – сказал Бузыга, и в его сильном голосе дрогнули, нежданно прорвавшись, какие-то звериные звуки. – Смотри, брат, – тебе Бузыгу не учить. Когда Бузыга сказал, что он в Крешеве, то, значит, его будут шукать в Филипповичах, а Бузыга тем часом в Степани на ярмарке коней продает. Тебе Шпак правду говорит: лучше молчи.
Во все время, пока Бузыга говорил, Василь не сводил с него пристального и тревожного взгляда. В наружности конокрада не было ничего необыкновенного. Его большое, изрытое оспой лицо, с крутыми рыжими солдатскими усами, было неподвижно и казалось скучающим. Маленькие голубые глаза, окруженные белыми ресницами, смотрели сонно, и только в самую последнюю минуту в них зажглось странное – острое и жестокое выражение. Движения у него были медленные, ленивые и как будто рассчитанные на то, чтобы тратить на них наименьшие усилия, но его могучая, круглая шея, выступавшая из косого ворота рубашки, длинные руки с огромными рыжеволосыми кистями, наконец, широкая, свободно согнувшаяся спина говорили о телесной силе необычайных размеров.
Под влиянием упорного взгляда мальчика Бузыга невольно повернул к нему голову. Глаза его сразу погасли, и лицо сделалось равнодушным.
– Ты что на меня задивился, хлопчик? – спросил он спокойно. – Как тебя зовут?
– Василь, – ответил мальчик и тотчас же откашлялся: таким слабым и свистящим показался ему собственный голос.
Козел угодливо хихикнул.
– Хе-хе-е! Ты его, Бузыга, спроси, что он будет делать, когда подрастет? Перед тобой мы с ним балакали. Не хочу, говорит, Христа ради просить, как ты. А я, говорит, буду как Бузыга… Я уж с него смеялся, аж боки рвал! – соврал для чего-то Козел.
Мальчик быстро повернулся к деду. Его большие серые глаза потемнели, расширились и загорелись гневом.
– Ладно. Молчи уж, – сказал он грубо, срывающимся детским басом.
– Ах ты, подсвинок! – воскликнул с удивлением и с неожиданной лаской в голосе Бузыга. – А ну-ка, ходи ко мне. Горилку пьешь?
Он поставил Василя между своими коленами и большими, сильными руками плотно обнял его тонкое тело.
– Пью! – храбро ответил мальчик.
– Эге, с тебя добрый воряга будет. Ну-ка, тяпни.
– Как бы не завредило? – с лицемерной заботливостью заметил Козел, жадно глядя на бутылку.
– Молчи, старый лис. Останется и тебе, – успокоил его Бузыга.
Василь сделал большой глоток и закашлялся. Что-то отвратительное на вкус, горячее, как огонь, обожгло ему горло и захватило дыхание. Несколько минут он, как рыба, вытащенная из воды, ловил открытым ртом воздух и страшно хрипел. Из глаз у него покатились слезы.
– От так. Теперь садись, казак, промеж казаками, – сказал Бузыга и легонько оттолкнул от себя Василя. И, точно сразу забыв о мальчике, он равнодушно заговорил с Козлом.
– Давно я собираюсь тебя спросить, где ты свои пальцы загубил? медленно ронял Бузыга низкие, ленивые звуки.
– Случай был такой, – с притворной неохотой ответил нищий. – Вышла гистория из-за коней.
– Слыхал, что из-за коней… Ну?
– Ну, вот… Да тут нема ничего интересного, – мямлил Козел, протягивая слова. Ему чрезвычайно хотелось подробно и долго поговорить об этом страшном случае, разрезавшем пополам всю его жизнь, и он нарочно настраивал внимание слушателей. – Тридцать лет назад это было. Может быть, теперь нема и на свете того человека, который мне это сделал. Был он немец. Колонист…
Василь лежал на спине. Всему его телу становилось тепло и как-то необыкновенно, до смешного легко, а перед глазами зароилось бесчисленное множество крошечных светлых точечек. Около него что-то говорили, двигались чьи-то руки и головы, над ним тихо колебались низкие черные ветви каких-то кустов и простиралось темное небо, но он видел и слышал все это, не понимая, как будто не он, а кто-то чужой ему лежал здесь, на траве, в густом лозняке. Потом он вдруг с удивительной ясностью услышал голос старого нищего, и сознание вернулось к нему с новой обостренной силой и с неожиданным глубоким вниманием к окружающему. И рассказ, который он слышал от Козла, по крайней мере, раз тридцать, снова наполнил его душу любопытством, волнением и ужасом.
III
– …Гляжу, у корчмы привязана до столба пара коней, – рассказывал Козел певучим, жалобным голосом. – Сразу я по хургону признал, что копи немецкие: колонисты завсегда в таких хургонах ездиют. Ну ж, и кони были! Сердце у меня в грудях заходило… О-го-го! Я толк понимаю в конях. Стоят оба-два, как те лялечки, ножки в землю вросли, ушки маленькие, торчком, глазом косят на меня, как зверюки… И не то чтобы очень из себя видные, нет – не панские кони, но уж мне-то от разу видно, что они за два. Такие кони тебе пробегут хоть сто верст – и ничего им не станет. Вытри им только морду сеном, дай воды по корцу и езжай опять дальше. Ну, что там толковать! Я скажу одно: вот нехай сейчас придет ко мне господь бог альбо сам святый Юрко, и нехай он скажет мне: «Слухай, Онисиме, на тебе назад твои пальцы, по чтобы ты больше никогда не смел коней красть»… Так что ты думаешь, Бузыга? Ведь я бы тех коней опять увел. Накажи меня бог, увел бы…








